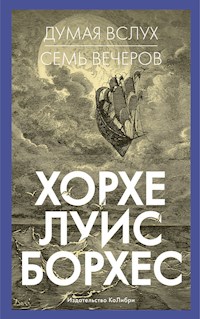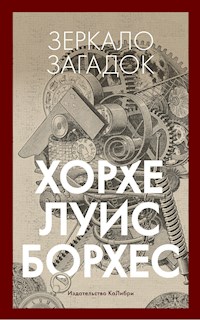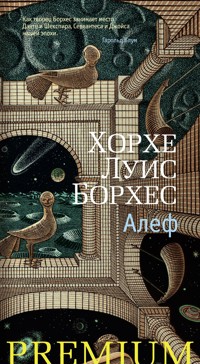Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов E-Book
Хорхе Луис Борхес
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Иностранная литература. Большие книги
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Хорхе Луис Борхес — один из самых известных писателей ХХ века, во многом определивший облик современной литературы. Всемирная известность пришла к нему после публикации художественной прозы, удивительных рассказов, стирающих грань между вымыслом и правдой, историей и воображением, литературным текстом и окружающей нас вселенной. Однако язык для Борхеса был «способом упорядочивать загадочное изобилие мира», и неудивительно, что именно поэзия, по его мнению, должна была справляться с этой задачей лучше всего. Как писал автор, «всякая поэзия — загадка; и никто не знает наверняка, что ему уготовано написать». Хотя что он называл поэзией, а что — прозой? В случае великого Борхеса эта грань очень размыта. Настоящее уникальное издание — первое в России полное собрание «поэтических» произведений Хорхе Луиса Борхеса, составленное автором на склоне лет. В него вошли тринадцать сборников, первый из которых был опубликован Борхесом в двадцать четыре года за свой счет тиражом 300 экземпляров («Жар Буэнос-Айреса»), а последний — за год до смерти («Порука»). Многие тексты публикуются на русском языке впервые.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Luis BorgesPOESÍA COMPLETACopyright © 1995, María KodamaAll rights reserved
Перевод с испанского
Серийное оформление и оформление обложки Вадима Пожидаева
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Борхес Х. Л.Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи : Полное собрание поэтических текстов / Хорхе Луис Борхес ; пер. с исп. А. Андреева, В. Андреева, Вс. Багно и др. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — (Иностранная литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-23076-7
16+
Хорхе Луис Борхес — один из самых известных писателей ХХ века, во многом определивший облик современной литературы. Всемирная известность пришла к нему после публикации художественной прозы, удивительных рассказов, стирающих грань между вымыслом и правдой, историей и воображением, литературным текстом и окружающей нас вселенной. Однако язык для Борхеса был «способом упорядочивать загадочное изобилие мира», и неудивительно, что именно поэзия, по его мнению, должна была справляться с этой задачей лучше всего. Как писал автор, «всякая поэзия — загадка; и никто не знает наверняка, что ему уготовано написать». Хотя что он называл поэзией, а что — прозой? В случае великого Борхеса эта грань очень размыта.
Настоящее уникальное издание — первое в России полное собрание «поэтических» произведений Хорхе Луиса Борхеса, составленное автором на склоне лет. В него вошли тринадцать сборников, первый из которых был опубликован Борхесом в двадцать четыре года за свой счет тиражом 300 экземпляров («Жар Буэнос-Айреса»), а последний — за год до смерти («Порука»).
Многие тексты публикуются на русском языке впервые.
© А. В. Андреев, перевод, 2023© В. Н. Андреев , перевод, примечания, 2004, 2023© Вс. Е. Багно, перевод, 2004© М. Р. Бортковская, перевод, 2004© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2023© Б. В. Ковалев, перевод, примечания, 2023© К. С. Корконосенко, перевод, примечания, 2023© Б. В. Ковалев, К. С. Корконосенко, перевод, 2023© В. П. Литус (наследник), перевод, 2023© А. Ю. Миролюбова, перевод, 2023© В. Н. Михайлов (наследник), перевод, 2023© Е. А. Михалина, перевод, 2023© М. Н. Петров, перевод, 2004© М. А. Толстая, перевод, 2023© А. А. Черносвитов, перевод, 2023© Ю. А. Шашков, перевод, 2023© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023Издательство Иностранка®
Посвящение
Леонор Асеведо де Борхес
Хочу сделать признание — о личном и всеобщем, ибо то, что случается с одним человеком, случается со всеми. Я говорю о чем-то далеком и потерянном, о своих именинах, причем самых давних. Я получал подарки и думал, что я просто-напросто мальчишка и ничего, совершенно ничего не сделал, чтобы их заслужить. Разумеется, я никогда об этом не говорил: детям свойственна застенчивость. И с тех пор ты даровала мне так много: вещей, лет, воспоминаний. Отец, Нора, бабушки и дедушки, твоя память, а в ней память о наших предках (дворы, рабы, водовоз, атака перуанских гусар1, позор Росаса), мужественно перенесенное тобой тюремное заключение2, когда мы, мужчины, хранили молчание, рассветы в Пасо-дель-Молино, Женеве и Остине, пережитые нами темные и светлые времена, твоя бодрая старость, любовь к Диккенсу, Эса ди Кейрошу3 и, наконец, ты сама, матушка.
Здесь мы говорим между собой, et tout le reste est littérature4, как литературно выразился блистательный Верлен.
Х. Л. Б.
1 Один из старейших родов войск Перу, основанный генералом Хосе де Сан-Мартином и принесший победу во время битвы при Хунине 6 августа 1824 года. Это короткое сорокапятиминутное сражение без использования огнестрельного оружия стало одним из решающих в ходе войны за независимость Перу. Отметим, что во время этой битвы освободительными войсками командовал уже не Сан-Мартин (глава первого правительства Перу и национальный герой Аргентины), а Симон Боливар.
2 Во время диктатуры Перона мать Борхеса провела в тюрьме месяц. Леонор Асеведо вместе с другими почтенными дамами Буэнос-Айреса собиралась исполнить национальный гимн в знак протеста перед объявлением новой конституционной реформы. В официальном рапорте так и утверждается: «Арестованы за исполнение нашего гимна». Как впоследствии замечала сама Леонор Асеведо, «этот гимн больше принадлежит мне, а не им: ведь его сочинил мой предок Висенте Лопес-и-Планес».
3Жозе Мария Эса ди Кейрош (1845–1900) — португальский писатель, автор романов «Семейство Майя» (1879), «Кузен Базилио» (1879), «Преступление падре Амару» (1880). Другой его роман — «Мандарин» (1880) — перевела сама Леонор Асеведо де Борхес, а ее сын поместил этот текст в свою «Личную библиотеку», в которой говорит об этом португальском прозаике следующее: «В последний год девятнадцатого столетия в Париже скончались два замечательных человека, Оскар Уайльд и Эса ди Кейрош. Насколько мне известно, они не были знакомы, но, по-моему, великолепно поняли бы друг друга» (пер. Б. Дубина).
4 Все прочее — литература (фр.). Финальная строка стихотворения французского поэта П. Верлена «Поэтическое искусство».
Я не расположен быть поэтом. Разве что разносторонним литератором: тем, кто говорит, а не поет... Прости это маленькое выступление в свою защиту; но мне бы не хотелось предстать перед судом людей, сведущих в поэзии, и пусть думают, что я не вижу разницы.
Роберт Льюис Стивенсон. Письма. II, 77(Лондон, 1899)
Предисловие
Это предисловие могло бы называться «Эстетикой Беркли» — и не потому, что ее исповедовал этот ирландский метафизик, один из милейших людей, которых знало человечество, а потому, что здесь к словесности применяется тот же аргумент, что Беркли применял и к реальности. Вкус яблока, утверждает Беркли, содержится во взаимодействии плода с нёбом, а не в плоде как таковом; точно так же, на мой взгляд, поэзия состоит в общении стихотворения с читателем, а не в наборе символов, отпечатанных на страницах книги. Самое важное — это эстетический факт, thrill5, физические изменения, которые вызывает чтение. Возможно, это не новая мысль, но в моем возрасте истина важнее любых новинок.
Литературное волшебство осуществляется за счет искусственных приемов; в конечном итоге читатель их узнаёт и начинает ими тяготиться — отсюда постоянная потребность в изменениях, которые могут восстановить прошлое или предвосхитить будущее.
В этом томе я собрал все свои поэтические тексты, за исключением некоторых упражнений, отсутствие которых никто не оплачет и не заметит и которые (как сказал арабист Эдвард Уильям Лейн6 о некоторых сказках «Тысячи и одной ночи») нельзя исправить, не исказив. Я сгладил некоторые шероховатости, избытки как испанского, так и креольского характера, но в целом я предпочел смириться с однообразными и монотонными Борхесами 1923, 1925, 1929, 1960, 1964, 1969, а равно 1976 и 1977 годов. В это собрание также входит краткое приложение, или музей апокрифической поэзии.
Как и всякий молодой поэт, я когда-то считал, что свободный стих проще традиционного; теперь же мне известно, что он намного труднее и требует глубокой убежденности, которую можно отыскать на некоторых страницах Карла Сэндберга7 или его отца, Уолта Уитмена.
У книги стихов может быть три судьбы: ее предадут забвению; от нее не останется ни строчки, но она очертит общий контур автора; наконец, несколько стихотворений из книги могут перекочевать в разные антологии.
Если бы моему сборнику выпал третий случай, то я бы хотел остаться в «Воображаемых стихах», в стихотворении «О дарах», в «Everness», «Големе» и «Пределах». Но всякая поэзия — загадка; и никто не знает наверняка, чтó ему уготовано написать. Печальная мифология нашего времени без конца твердит о подсознании или, что еще хуже, о бессознательном; греки призывали музу, иудеи — Святой Дух; в сущности, это одно и то же.
Х. Л. Б.
5 Волнение, дрожь (англ.).
6 Переводы Эдварда Уильяма Лейна отличались от прочих большим количеством целомудренных «уверток и умолчаний». В эссе «Переводчики „Тысячи и одной ночи“» (1936) Борхес так характеризует манеру Лейна: «Галлан исправляет попавшиеся ему грубости, списывая их появление на последствия плохого вкуса. Однако Лейн выискивает их и преследует с неистовством инквизитора. Порядочность его не может хранить молчание: он предпочитает ряд взволнованных пояснений, набранных мелким шрифтом, которые сбивчиво сообщают: „Здесь я опускаю один достойный порицания эпизод. Опускаю омерзительное объяснение. Здесь строка чрезвычайно груба для перевода. В силу необходимости уклоняюсь от рассказа еще одной истории...“. Ряд сказок был полностью выброшен из текста, „ибо их нельзя исправить, не исказив“» (пер. Б. Ковалева).
7Карл Август Сэндберг (1878–1967) — американский поэт, историк и фольклорист, продолжатель поэтической традиции Уолта Уитмена, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, автор популярной биографии Авраама Линкольна.
Предисловие
Я не переписывал эту книгу. Я приглушил барочные чрезмерности, ограничил число шероховатостей, вымарал сентиментальности и неясные места, и в ходе этой работы, порой приятной, а порой тягостной, я почувствовал, что паренек, писавший это в 1923 году, по существу (что вообще значит «по существу»?) уже являлся тем сеньором, который теперь либо смиряется, либо исправляет. Мы — один человек; мы оба не верим в успех и поражение, в литературные школы и в их догмы; мы оба — поклонники Шопенгауэра, Стивенсона и Уитмена. Я вижу, что «Жар Буэнос-Айреса» уже предвосхищает все, что будет потом. За то, что приоткрывал этот сборник, за то, что он каким-то образом обещал, его великодушно одобрили Энрике Диес-Канедо8 и Альфонсо Рейес9.
В 1923 году юноши были робки, как и теперь, в 1969-м. Опасаясь внутренней пустоты, они так же пытались прикрыть ее невинным новомодным грохотом. Я, например, ставил перед собой сразу несколько задач: подражать некрасивостям Мигеля де Унамуно10 (они мне нравились), быть испанским писателем семнадцатого века, быть Маседонио Фернандесом11, открыть метафоры, уже открытые Лугонесом, и воспеть Буэнос-Айрес низких домов и усадеб с решетками (такие были на западе и в районе Сур).
В те времена мне были любезны вечера, предместья и невзгоды; теперь мне любезны рассветы, центр и спокойствие.
Х. Л. Б.Буэнос-Айрес, 18 августа 1969 г.
8Энрике Диес-Канедо (1879–1944) — испанский поэт, переводчик и литературный критик.
9Альфонсо Рейес (1889–1959) — мексиканский писатель, переводчик, журналист, близкий друг Борхеса.
10 В Доме-музее Мигеля де Унамуно в Саламанке хранится письмо Борхеса. Письмо написано на бланке парижского отеля «Баярд» и датируется 1923 годом (время второй поездки семейства Борхес в Европу). В этом коротком письме, в частности, сказано: «Два года назад я встретился с вами в „Житии Дон Кихота и Санчо“, затем — в силу обстоятельств, в которых ваше перо абсолютно неповинно, — я потерял вас в томе ваших „Эссе“, а сегодня, в момент, когда я совершенно пал духом, я снова встречаю вас, снова чувствую вашу близость в „Четках лирических сонетов“. Я в особенности благодарен вам за „Былое будущее“ и „Молитву атеиста“, а также за эти слова: „Я буду жить в надежде на надежду“. 〈...〉 Из Буэнос-Айреса я выслал вам книгу своих стихов; надеюсь, вы ее уже получили. 〈...〉 Моя книга называется „Страсть к Буэнос-Айресу“. Я написал ее несколько месяцев назад, еще до знакомства с вашей поэзией».
В Саламанке хранятся также четыре книги Борхеса с дарственными надписями Мигелю де Унамуно. Надпись на сборнике «Жар Буэнос-Айреса» гласит: «Дону Мигелю де Унамуно, эти метафизические лиризмы». Подробнее см.: Письмо Хорхе Луиса Борхеса к Мигелю де Унамуно / Публикация К. С. Корконосенко // Борхес Х. Л. Другой, тот же самый. СПб., 2004.
11МаседониоФернандес (1874–1952) — аргентинский писатель, литературный наставник Борхеса.
К читателю
Если страницы этой книги содержат какое-нибудь удачное стихотворение, я заранее прошу у читателя прощения за то, что нахально присвоил его себе. Наши ничтожности мало чем различаются: случайно и несущественно то обстоятельство, что ты — читатель этих упражнений, а я — их автор.
Х. Л. Б.
Реколета12
Убеждены: все — суета сует,
средь залежей благородного праха.
Но тянем свой век, понижаем до шепота голос
в толще плавных рядов пантеонов,
чьи мягкие тени и мрамор
даруют надежду или предвосхищают
достойную встречу со смертью.
Как восхитительны склепы!
Строгость латыни на плитах,
соединение мрамора и цветов,
своды прохладны, словно внутренний дворик,
давнее прошлое, навечно — вчера,
здесь остановилось, слилось в единую точку.
Обманчив покой единенья со смертью,
мы обманулись и жаждем конечного мига,
жаждем грез и покойного равнодушья.
В легкой дрожи страстей, чести и шпаги,
в спящем плюще —
повсюду теплится жизнь.
Пространство и время — ее порожденья,
магический инструмент бытия и души.
Искра души едва лишь погаснет,
вместе погаснут, исчезнут пространство и время.
Точно так же погасшим лучом
отменяется отблеск вечерний,
отображение и существованье зеркал.
Тихие тени деревьев,
ветерка дуновенье среди птиц и ветвей,
душа, растворившаяся в тысячах прочих,
дивное чудо, однажды ставшее жизнью,
необъяснимое чудо,
но это чудо, призрачное повторенье,
очернено горьким ужасом сегодняшних дней.
Вот о чем размышляю я в Реколете,
там, где хранятся мои пепел и траур.
12Реколета — кладбище в центральной части Буэнос-Айреса. Борхес не раз говорил, что он хотел бы покоиться на кладбище Реколета (но умер он и похоронен в Женеве).
Юг13
Стоять в одном из твоих патио и видеть
древние звезды,
сидя на скамье
в тени, смотреть
на рассеянные огни,
которым так и не смог в своем неведенье
ни имя дать, ни сложить из них созвездия,
чувствовать кружение воды
в колодце потайном,
аромат жимолости и жасмина,
молчание уснувшей птицы,
круглый свод, влажную прохладу, —
это и есть стихи.
13Юг — здесь: южные районы Буэнос-Айреса.
Незнакомая улица
Тень голубиная —
так вечера начало евреи называли,
когда шаги легки и сумрак не мешает
увидеть, как приходит ночь,
что музыкой, старинной и знакомой,
звучит и опускается на землю.
В час этот, когда свет
прозрачно тонок,
я вышел к улице, которую не знал.
Она открылась предо мной широко,
мягкий свет струился по кровлям и стенам,
такой же, как и тот, что в небе
отражался, в глубине.
Все в этой улице — дома, ограды
палисадников, звонки, что у дверей,
и, может быть, мечты той девочки с балкона, —
наполнило мне сердце
чистою слезой.
Казалось, этот вечер тихий
заполнил улицу нежнейшим серебром,
что зазвучало вдруг, как позабытый,
но всплывший в памяти хорал.
Потом подумалось,
что улица в тот вечер была как бы чужой
и что дома на ней — подсвечники,
где жизнь людская — как свеча,
которая горит и угасает,
и каждый шаг наш —
шаг на пути к Голгофе.
Площадь Сан-Мартина14
Маседонио Фернандесу
Искал я вечер,
но напрасно спешил по улицам.
Уже в порталах притаилась немая тень.
И, отливая блеском матовым,
как омут, вечер застыл на площади,
спокойный, чистый,
благодатный. Как лампа, светлый.
Как лоб открытый, ясный.
Печальный, как человек, что в трауре стоит.
Волненья улеглись
под сенью всепрощающих деревьев:
акаций, хакаранд15 —
их очертаний силуэт
смягчил мне памятника жесткий профиль,
в густой листве их замерцал,
перемешался чудесный свет,
от неба — голубой, а от земли — червленый.
Как хорошо: смотреть на вечер,
покойно сидя на скамье!
Внизу
вздыхает порт, о дальних плаваньях мечтая,
а площадь уравняла всё и вся
и приоткрылась вдруг, как смерть, как сон.
14Площадь Сан-Мартина — площадь в центральной части Буэнос-Айреса. Названа в честь национального героя Аргентины, одного из руководителей Освободительной армии во время Войны за независимость 1810–1826 годов Хосе де Сан-Мартина (1778–1850). На площади — конный памятник Сан-Мартину.
15Хакаранды — деревья семейства палисандровых. Растут в Перу, Чили и Аргентине.
Труко16
Колода перекраивала жизнь.
Цветные талисманы из картона
стирали повседневную судьбу,
и новый улыбающийся мир
преображал похищенное время
в безвредные проделки
домашних мифов.
В границах столика
текла иная жизнь.
Лежала незнакомая страна
с горячкой ставок, риском понтировки,
всевластьем меченосного туза —
всесильного Хуана Мануэля17
и кладезем надежд — семеркой черв.
Неспешный мате
умерял слова,
перипетии партий
повторялись —
и вот уж нынешние игроки
копируют забытые сраженья,
и воскрешаются за ходом ход
роды давным-давно истлевших предков,
все те же строки и все те же штуки
столице завещавших навсегда.
16Труко — распространенная в Ла-Плате карточная игра, сквозной мотив ранней борхесовской лирики и прозы.
17Хуан Мануэль — Хуан Мануэль Ортис де Росас (1793–1877) — аргентинский государственный и военный деятель. С 1828 года — генерал, с 1829 года — губернатор Буэнос-Айреса, с 1835-го — единоличный правитель страны. Свергнут в 1852 году, бежал, скончался в Великобритании. Родственник семьи Борхес и вместе с тем их политический противник, постоянный герой борхесовской поэзии и прозы (стихотворение «Росас», микроновелла «Диалог мертвых» и др.).
Дворик
Ввечеру
гасит краски дворик утомленный.
Понапрасну полная луна
прежней страсти ждет от небосклона.
Дворик, каменное русло
синевы,
сбегающей по кровлям.
Вечность, безмятежна и светла,
на распутье звездном замерла.
Краткий праздник дружбы потаенной
с чашею, беседкой и колонной.
Надгробная надпись
Полковнику Исидоро Суаресу18,моему прадеду
Пронес отвагу через Кордильеры19.
Не уступил ни кряжам, ни врагу.
Его рука не знала колебаний.
Вошел в Хунин20 с победой, закалив
испанской кровью пики перуанцев.
Подвел итог пережитому в прозе,
сухой, как боевой сигнал рожка.
Скончался в ссылке21. От него осталось
немногое: лишь слава и зола.
18Исидоро Суарес (1799–1846) — аргентинский военачальник, прадед Борхеса.
19 Речь идет об андском походе армии Боливара в 1823 году для освобождения Перу от испанцев.
20Хунин — город в юго-западной части Перу, близ которого 6 августа 1824 года Освободительная армия Симона Боливара нанесла поражение испанским войскам. В сражении при Хунине прадед Борхеса командовал кавалерией.
21 Прадед писателя был обвинен в заговоре против Боливара, сослан в 1830 году в Уругвай и умер в Монтевидео; в 1879 г. его прах перенесен на родину.
Роза
Худит Мачадо22
Та роза,
которая вне тленья и стиха —
всего лишь аромат и тяжесть, роза
чернеющих садов, глухих ночей,
любого сада на любом закате,
та, воскресающая волшебством
алхимика из теплой горстки пепла,
та роза персов или Ариосто23,
единая вовеки,
вовеки роза роз,
тот юный платонический цветок —
слепая, алая и для стиха
недосягаемая роза.
22Худит Мачадо — знакомая Борхеса.
23Людовико Ариосто (1474–1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд».
Обретенный квартал
Никому не была ведома улиц красота,
покуда в жутком вопле
зеленоватое небо не рухнуло
в изнеможенье, пролилось водою и мраком.
Силы стихий объединились,
мир наполнился ненавистью и отвращением.
Но когда радуга благословила
вечернее небо
и сады напитались
ароматами влажной земли,
мы вновь пустились в свой путь по улицам,
будто по вновь обретенным поместьям.
В каждом оконном стекле билось великое солнце,
в каждой искре дрожащей листвы
пело бессмертие лета.
Пустая комната
Красное дерево
в смутном мерцанье шпалер
длит и длит вечеринку.
Дагеротипы
манят мнимой близостью лет,
задержавшихся в зеркале,
а подходишь — мутятся,
как ненужные даты
из памяти стершихся празднеств.
Сколько лет нас зовут
их тоскующие голоса,
едва различимы теперь
ранним утром далекого детства.
Свет наставшего дня
будит оконные стекла
круговертью и гамом столицы,
все тесня и глуша слабеющий отзвук
былого.
Pocac
В тиши гостиной,
где цедят время строгие часы,
уже не горяча и не тревожа
крахмальную опрятность покрывал,
чуть охладивших алый пыл каобы24,
укором друга кто-то уронил
зловещее и родственное имя.
И лег на время
профиль палача,
не мрамором сияя на закате,
а навалившись мраком,
как будто тень далекого хребта,
и бесконечным эхом потянулись
улики и догадки
за беглым звуком, брошенным мельком.
Своею низостью вознесено,
то имя было разореньем дома,
безумным обожаньем пастушья́
и страхом стали, холодящей горло.
Забвение стирает долг умерших,
оплаченный натурою смертей;
они питают Время,
его неутомимое бессмертье,
чей тайный суд за родом губит род
и в чьей до срока отворенной ране —
последний Бог в последнее мгновенье
ее закроет! — вся людская кровь.
Не знаю, был ли Росас
слепым клинком, как верили в семье;
я думаю, он был как ты и я —
одним из многих,
крутясь в тупой вседневной суете
и взнуздывая карой и порывом
безверье тысяч.
Теперь неизмеримые моря
простерты между родиной и прахом.
И жизнь любого, сколь бы ни жалка,
торит свой путь в ничтожестве и мраке.
И Бог его уже почти забыл,
и это милость, а не поношенье —
отсрочка бесконечного распада
минутным подаянием вражды.
24Каоба — дерево с красной древесиной семейства мелиевых. Древесина каобы — одна из самых ценных для столярных и отделочных работ.
Конец года
Не символическая
смена цифр,
не жалкий троп,
связующий два мига,
не завершенье оборота звезд
взрывают тривиальность этой ночи
и заставляют ждать
тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная:
всеобщая и смутная догадка
о тайне Времени,
смятенье перед чудом —
наперекор превратностям судьбы
и вопреки тому, что мы лишь капли
неверной Гераклитовой реки25,
в нас остается нечто
незыблемое.
25 Гераклит (ок. 544 — ок. 483 до н. э.) — древнегреческий философ. Ему принадлежат афоризмы: «Все течет» и «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды». В произведениях Борхеса образ Гераклитовой реки встречается постоянно.
Мясная лавка
Гнуснее, чем публичный дом,
мясная лавка — оскверненье улиц.
Сверху, с несущей балки,
коровья слепая голова
ведет шабаш
искромсанного мяса и мраморных разделочных столов
величаво, с отстраненностью идола.
Предместье
Гильермо де Торре26
Предместье — точный слепок, отпечаток нашей скуки.
Мой шаг сбивается, хромаю,
когда плетусь навстречу горизонту,
оказываюсь меж домов,
четырехугольных ячеек,
в кварталах разных, одинаково безликих,
словно они, кварталы, —
тупое, монотонное воспроизведенье
единого квартала, одно и то же.
Выгул, неухоженный газон,
безудержно теряющий надежды,
зияет пятнами камней, домов и улиц,
я различаю в бездонных далях
раскрашенный картон игральных карт заката,
и в этот миг я ощущаю, чувствую Буэнос-Айрес.
Город этот, я знаю, я уверен твердо, —
мое и прошлое, и будущее, и, более всего, мое сегодня;
годы, что провел я на чужбине, в Европе, — иллюзия,
я есмь и только здесь, и буду здесь: в Буэнос-Айресе.
26Гильермо де Торре (1900–1972) — испанский писатель. Был женат на сестре Борхеса, аргентинской художнице Норе Борхес (1901–1998).
Стыд перед умершим
Свободен от надежд и сожалений,
абстракция, неуловимость, нечто
безвестное, как завтра, каждый мертвый —
не просто мертвый, это смерть сама.
Бог мистиков, лишенный предикатов,
умерший не причастен ни к чему,
сама утрата и опустошенность.
Мы забираем всё,
последний цвет и звук:
вот двор, который взглядом не обнимет,
вот угол, где надежду ожидал.
И даже эти мысли,
наверное, не наши, а его.
Как воры, мы на месте поделили
бесценный скарб его ночей и дней.
Сад
Пропасти,
суровые горы,
дюны,
пересеченные от края до края тропами,
лигами27, метрами песка и ненастий,
что рождаются в сердце пустыни.
На склоне раскинулся сад.
Крона каждого дерева — джунгли, кипень листвы.
Деревья строят осаду
на склонах стерильно пустых холмов,
торопят пришествие сумрачной ночи
в море безбрежное листвы безучастной.
Весь этот сад — луч тишины и покоя,
что освещает и место, и вечер.
Маленький сад — словно крохотный праздник
среди убогой бедности нашей земли.
Нефтяные месторождения, Чубут28, 1922
27Лига — мера длины, в Аргентине равная 5,2 км.
28Чубут — провинция в южной части Аргентины. В провинции — богатые нефтяные месторождения.
Надгробная надпись на чьей-то могиле
Надгробный мрамор хранит молчаливый покой,
без лишних слов, не нарушая всесилья забвенья,
молчит немногословно
об имени, мыслях, событиях и отчизне.
Вынесен приговор, осужден этот бисер на мрак и молчанье,
потому мрамор не в силах поведать то, о чем молчат люди.
Самое главное в жизни, пришедшей к финалу, —
страстная дрожь и надежда,
жестокое чудо: чувствовать боль; и удивление наслажденья —
все это не исчезает, вечно длится, без перерыва.
Слепо, настойчиво требует продолженья душа
в преддверии жизни иной,
в час, когда ты — всего лишь беглый отблеск и парафраз
тех, кто не от мира сего, не отсюда, и тех,
кто станет и кто ныне уже — бессмертье твое на земле.
Возвращение
Сегодня, после многих лет разлуки,
вернувшись в дом, где я когда-то рос,
я чувствую, что всё кругом — чужое.
Я прикасался к выросшим деревьям
так, словно гладил спящее лицо,
и проходил по старым тропкам сада,
как будто вспоминал забытый стих,
а под закатным полноводьем видел,
как хрупкий серпик молодой луны
укрылся под разлатою листвою
темневшей пальмы,
как птенец в гнезде.
Как много синевы
вберет в колодец этот смутный дворик,
и сколько несгибаемых закатов
падет в том отдаленном тупике,
и молодую хрупкую луну
еще не раз укроет нежность сада,
пока меня своим признает дом
и, как бывало, станет незаметным!
Afterglow29
Потрясающе
в грубой убогости,
потрясающе
безнадежным прощальным бликом,
покрывающим ржой равнины и долы,
когда краешек солнца скрывается за горизонтом.
Острый и тонкий, луч больно ранит
и заполняет пространство беглой галлюцинацией, наважденьем,
вселяя страх темноты,
вмиг обрывается,
как только осознаем призрачность.
Так же рвется сон,
когда понимаем, что спим.
29 Вечерняя заря (англ.).
Рассвет
В бездне вселенской ночи
только маяк противоборствует
буре и заблудившимся шквалам,
только маяк на покой посягает улиц притихших,
словно предчувствие, дрожащее в нетерпении,
предчувствие скорой, ужасной зари, которая
наступает на опустевшие окраины мира.
Скованный властью тени и мрака,
напуган угрозой: скоро зажжется рассвет;
судорожно оживляю ужасное
предположение Шопенгауэра и Беркли,
будто наш мир —
игра воображения и сознанья,
сновидение душ,
без всякой основы, без цели и смысла.
И поскольку идеи
не вечны, как мрамор,
но бессмертны, как реки и лес,
предшествующая доктрина
приняла другую форму в рассвете,
в суевериях этого часа,
когда луч, подобно плющу,
вырвет стены домов из объятий мрака,
укрощая мой разум,
расчистит путь новой фантазии:
если вещи не содержат субстанций
и многолюдье Буэнос-Айреса —
лишь игра воображения, сон,
который вздымает в одновременном движении души,
есть единственный миг,
когда бытие судорожно рискует собой,
миг, сотрясаемый новой зарей,
в час, когда лишь единицы грезят сим миром,
и лишь полуночники помнят его и хранят,
призрачный, едва различимый
набросок, сеть улиц,
которые после откроют, опишут другие.
Час, когда жизнь отдается упрямому сну,
приходит угроза погибели, исчезновенья;
час, когда очень легко может Господь
уничтожить свое же творенье!
Но вновь мир спасен.
Свет снова приходит и оживляет уснувшую серую краску,
меня упрекает
в соучастии воскрешения мира,
укрывает заботливо дом,
мой дом, изумленный и застывший в белом, ярком луче,
птичий голос рвет мою тишину,
ночь отступает, сползает изорванной тряпкой
и лишь остается в глазницах слепцов.
Бенарес30
Игрушечный, тесный,
как сдвоенный зеркалом сад,
воображаемый город,
ни разу не виденный въяве,
ткет расстоянья
и множит дома, до которых не дотянуться.
Внезапное солнце
врывается, путаясь в тьме
храмов, тюрем, помоек, дворов,
лезет на стены,
искрится в священной реке.
Стиснутый город,
расплющивший опаль созвездий,
перехлестывает горизонт,
и на заре, полной
снами и эхом шагов,
свет расправляется паветвью улиц.
Разом светает
в тысячах окон, обращенных к Востоку,
и стон муэдзина
с вознесшейся башни
печалит рассветную свежесть,
возвещая столице несчетных божеств
одиночество истого Бога.
(Только подумать:
пока я тасую туманные образы,
мой воспеваемый город живет
на своем предназначенном месте,
со своей планировкой,
перенаселенной, как сон, —
лазареты, казармы
и медленные тополя,
и люди с прогнившими ртами
и смертной ломотой в зубах.)
30Бенарес (Варанаси) — город в северной части Индии, на берегу Ганга. Религиозный центр индуизма.
Утрата
И вот я должен всю громаду мира,
в котором ты, как в зеркале, стоишь,
за камнем камень наново отстроить.
С твоим уходом
столькое кругом
никчемным обернулось пустяком
и отпылавшим фейерверком тлеет —
где прежние душистые аллеи?
Закаты, обрамлявшие тебя,
и музыку, где ты — во всякой ноте,
и те слова
мне предстоит разбить
своими же руками,
застывшими от боли.
Пустое небо об ушедшей стонет
всей пустотою.
В каком колодце душу утопить,
чтобы и там не стерегла утрата,
как солнце, что с зенита не сойдет,
пытая люто и неумолимо?
Она одна вокруг
и стягивается петлей на горле.
Простота
Гайде Ланхе
Садовая калитка
откроется сама,
как сонник на зачитанной странице.
И незачем опять
задерживаться взглядом на предметах,
что памятны до мелочи любой.
Ты искушен в привычках и сердцах
и в красноречье недомолвок, тонких,
как паутинка общности людской.
А тут не нужно слов
и мнимых прав:
всем, кто вокруг, ты издавна известен,
понятны и ущерб твой, и печаль.
И это — наш предел:
такими, верно, и предстанем небу —
не победители и не кумиры,
а попросту сочтенные за часть
Реальности, которая бесспорна,
за камень и листву.
Предчувствие любящего
Ни близость лица, безоблачного, как праздник,
ни прикосновение тела, полудетского и колдовского,
ни ход твоих дней, воплощенных в слова и безмолвье, —
ничто не сравнится со счастьем
баюкать твой сон
в моих неусыпных объятьях.
Безгрешная вновь чудотворной безгрешностью спящих,
светла и покойна, как радость, которую память лелеет,
ты подаришь мне часть своей жизни, куда и сама не ступала.
И, выброшен в этот покой,
огляжу заповедный твой берег
и тебя как впервые увижу — такой,
какой видишься разве что Богу:
развеявшей мнимое время,
уже — вне любви, вне меня.
Долгая прогулка
Ароматная, словно пьянящий мате,
ночь скрадывает расстояние между домами в деревне,
расчищает улицы,
что сопутствуют мне в одиночестве,
наполняя меня безотчетным страхом и прямыми отрезками линий.
Легкий бриз доносит с полей сочный запах,
сладость дачных домов и рощ тополиных,
что трепещут под хищным напором асфальта,
сохраняя землю живую.
Земли сдавлены улицами и домами.
Тщетно кошачья ночь силится
охранить покой закрытых балконов.
Вечером здесь показалась
скрытая девичья страсть и надежда.
Полный покой, тишина в преддверье жилищ.
В изгибах теней
льется время. Время обширно и благородно,
скрыто в полночных часах,
поток полноводен,
в нем находится место всем мечтам, и желаньям, и грезам,
час чистых душ и устремлений,
нет места жадному пересчету:
дневная повинность.
Я — единственный улицы созерцатель;
быть может, не будь меня здесь, она бы исчезла.
(Наткнулся на шершавую стену, остатки,
поросшие остием, чертополохом,
в свете желтого фонаря,
тусклый и нерешительный луч.
Видел летящие звезды.)
Величественная, живая,
словно Ангел, сошедший с небес,
крыльями день укрывает,
ночь опустилась, скрыла серость домов.
Иванова ночь
Сверкающий закат неумолимо
рассек пространство лезвием меча.
Ночь, словно ивовая поросль, нежна.
Взвиваются повсюду
искрящиеся огненные вихри;
священный хворост
от всполохов высоких кровоточит,
живое знамя, выдумка слепая.
Но дышит миром тьма, подобно дали;
сегодня улицам вернулась память:
когда-то они были чистым полем.
А одиночество, молясь, перебирает
рассыпанные звезды своих четок.
Окрестности
Дворы, их стойкая осанка,
дворы скрепляют
небеса и землю.
Сквозь перекрестия зарешеченных
окон проходит улица
легко, как свет лампады.
Просторные альковы,
где рдеет тихим пламенем каоба,
где зеркала неясный отблеск
подобен омуту и заводям тенистым.
Темны и тихи перекрестки,
от них бегут дороги в бесконечность
по немым, глухим предместьям.
Поведал о местах,
где мы всегда вдвоем,
нас двое: одиночество и я.
Субботы
С. Г.
Там, снаружи, — закат, темная драгоценность
в оправе времен.
Бездна города, ослепшего
от людей, которые тебя никогда не видели.
Вечер молчит или песни поет.
Кто-то вытягивает страсть,
распятую на клавишах пианино.
Прелесть твоя — множество проявлений.
* * *
Назло твоей неприязни
твоя красота
тратит свой дар посекундно.
Прелесть, удача твоя скрыты в тебе,
словно весна в первом листке.
Я почти уже потерял себя,
я — только страсть,
что теряется вечером этим.
Скрыта нежность в тебе,
как до срока в мечах скрыта боль.
* * *
Упала ночь тяжелым бременем.
Друг друга, как слепцы, искали
в притихшем зале наши одиночества.
Тот вечер пересилила
твоя блистающая плоть.
В нашей любви есть грех,
вина, похожая на душу.
* * *
Ты,
кто вчера была подлинной красотою,
стала любовью, подлинною, сегодня.
Трофей
Идущий берегом моря
очарован его величием,
обласкан и награжден светом и ширью,
так же и я, было даровано
наслаждаться твоей красотой.
В сумерках мы распрощались,
степенно пришло одиночество,
на улицах темных, которые помнят тебя,
счастие потускнело, подумал:
как было бы славно, если
воспоминания, сменяя друг друга,
без остановки, следовали бесконечно,
радуя душу.
Вечерние сумерки
На западе вечерняя заря
восторгом напитала улицы,
открыла двери, словно страсти сон,
случайной встрече.
Светлые леса
теряют последних птиц и золото.
Разодранные руки нищего
подчеркивают грусть поры вечерней.
А тишина, что меж зеркал живет,
тает, покидает узилище свое.
Мрак — чернеющая кровь
израненных вещей.
В неровном свете
изуродованный вечер
сочился серым цветом.
Поля в вечерних сумерках
Вечерняя заря, Архангелу подобно,
дорогу истерзала.
Как душный сон, населено одиночество,
стоячим прудом пролегло у деревни.
Колокольчики в поле звоном собирают
крошки печали, что рассеяны вечером.
Новолуние — слабый голос небес.
Лишь стемнело,
поле вновь оживает.
Западный шрам затянулся,
вечер его донимает.
Прячутся искры оттенков
в сумрачных безднах предметов.
В опустевшей и замершей спальне
ночь распахнет зеркала.
Прощание
Теперь между тобой и мной преграда
трехсот ночей — трехсот заклятых стен —
и глуби заколдованного моря.
Не содрогнувшись, время извлечет
глубокие занозы этих улиц,
оставив только шрамы.
(Лелеемая мука вечеров,
и ночи долгожданных встреч с тобою,
и бездыханная земля, и небо,
низвергнутое в лужи,
как падший ангел...
И жизнь твоя, подаренная мне,
и запустенье этого квартала,
пригретого косым лучом любви...)
И, окончательный, как изваянье,
на землю тенью ляжет твой уход.
Из написанного и потерянного году в двадцать втором31
Безмолвные сраженья вечеров
у городских окраин,
извечно древние следы разгрома
на горизонте,
руины зорь, дошедшие до нас
из глубины пустынного пространства,
как будто бы из глубины времен,
сад, черный в дождь, и фолиант со сфинксом,
который не решаешься раскрыть
и видишь в еженощных сновиденьях,
распад и отзвук — наш земной удел,
свет месяца и мрамор постамента,
деревья — высота и неизменность,
невозмутимые как божества,
подруга-ночь и долгожданный вечер,
Уитмен — звук, в котором целый мир,
неустрашимый королевский меч
в глубинах молчаливого потока,
роды арабов, саксов и испанцев,
случайно завершившиеся мной, —
всё это я или, быть может, это
лишь тайный ключ, неугасимый шифр
того, что не дано узнать вовеки?
31 Стихотворение написано в 60-х годах, заглавие приурочено к дебютной книге автора и задним числом включено в ее переиздание отдельным томиком в «Собрании стихотворений» Борхеса, выпущенном буэнос-айресским издательством «Эмесе» (1969).
Примечания32
Незнакомая улица
Информация в первых строках неверна. Де Куинси (Writings33, том 3, с. 293) отмечает, что в иудейской традиции утренний полумрак называется «голубиный сумрак», а вечерний — «вороний сумрак».
Труко
На этой странице сомнительной ценности впервые проглядывает идея, которая всегда меня волновала. Самое полное ее изложение — в эссе «Новое опровержение времени» («Новые расследования», 1952). Ошибка, обнаруженная еще Парменидом и Зеноном Элейским, таится в утверждении, что время состоит из отдельных мгновений, которые возможно разъединять так же, как и пространство, состоящее из точек.
Росас
Сочиняя это стихотворение, я, конечно, знал, что один из дедов моих дедов был предком Росаса. Ничего потрясающего в этом нет, если учесть малую численность нашего населения и почти кровосмесительный характер нашей истории.
В 1922 году я предчувствовал ревизионизм. Это развлечение состоит в «ревизии» нашей истории не для того, чтобы докопаться до истины, но чтобы прийти к заранее предустановленному выводу: к оправданию Росаса, к оправданию любого существующего диктатора. Я, как видите, до сих пор остаюсь дикарем-унитарием.
32Составляя настоящее собрание поэтических сборников, Борхес снабдил некоторые стихотворения позднейшими примечаниями. — Примеч. перев.
33 «Сочинения» (англ.).
Предисловие
В 1905 году Герман Бар34 заявил: «Единственная обязанность — быть современным». Двадцать с лишним лет спустя я тоже взвалил на себя эту совершенно излишнюю обязанность. Быть современным — значит быть актуальным, жить в настоящем, а это общий для всех удел. Никто — за исключением одного смельчака, придуманного Уэллсом, — не овладел искусством жить в прошлом или в будущем. Всякое произведение есть порождение своего времени: даже точнейший в деталях исторический роман «Саламбо», главными героями которого являются наемники времен Пунических войн, — типичный французский роман XIX в. Мы ничего не знаем о литературе Карфагена, — вполне возможно, она была чрезвычайно богатой, — кроме того, что в ней не было книги, подобной роману Флобера.
Помимо этого, я захотел стать аргентинцем — забыв, что уже им являюсь. Я отважился приобрести несколько словарей аргентинизмов, из которых почерпнул ряд слов, которые сегодня едва ли могу расшифровать: «madrejón», «espadaña», «estaca pampa»...
Город из «Жара Буэнос-Айреса» — камерный, глубоко личный, здесь же он предстает пышным и многолюдным. Я не хочу быть несправедливым к этому сборнику. Одни стихи («Генерал Кирога35 катит на смерть в карете»), быть может, обладают всей броской красотой переводных картинок; другие же («Листок, найденный в книге Джозефа Конрада»), по моему мнению, не посрамят своего автора. Я не чувствую себя причастным к этим стихам; меня не интересуют их огрехи и достоинства.
Я немного изменил эту книгу. И теперь она уже не моя.
Х. Л. Б.Буэнос-Айрес, 25 августа 1969 г.
34Герман Бар (1863–1934) — австрийский писатель-авангардист, критик, театральный режиссер и драматург, основатель общественно-литературного движения «Молодая Вена».
35Хуан Факундо Кирога (1790–1835) — аргентинский военный и политический деятель, предательски убит. Его символической фигуре «народного вождя» посвящен историософский труд Д. Ф. Сармьенто «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги» (1845), который Борхес многократно перечитывал и предисловие к переизданию которого написал в 1974 году.
Улица, где розовый магазин
Ночь вглядывается в каждый проулок,
будто великая сушь, вожделеющая дождя.
Уже все дороги так близко,
даже дороги магии.
Ветром приносит оторопевший рассвет.
На рассвете страшат неминуемые поступки, рассвет сминает.
Ночь напролет я бродил.
И застал непокой рассвета
меня на случайно попавшейся улице,
откуда вновь незыблема пампа
на горизонте,
где пустоши за проволочной оградой развоплощаются в сорняках,
и где магазин, такой светлый,
как прошлым вечером новорожденный месяц.
Знакомое воспоминание: угол
с высокими цоколями и обещанием патио.
Чудесно быть свидетелем тебя, привычной, раз дни мои созерцали так мало вещей!
Луч уже вонзается в воздух.
Годы мои прошли земными дорогами и морскими путями,
но только с тобой я впритык, с твоим покоем и розовым светом.
Не твои ли стены зачали зарю,
магазин, светлый, на сколе ночи.
Думаю так, и глаголю среди домов,
исповедуюсь в моей нищете:
я не глядел на реки, моря и горы,
но свет Буэнос-Айреса прикипел ко мне.
И я выковываю стихи о жизни и смерти
из луча этой улицы,
широкой, истерзанной:
только ее мелодии учит меня бытие.
Горизонту предместья
Пампа:
Я различаю твои просторы в глубине предместий,
я истекаю кровью твоих закатов.
Пампа:
Я слышу тебя в задумчивом звоне гитар,
и в высоких птицах, и в усталом шуме
пастушеских телег, что приезжают с лета.
Пампа:
Мне достаточно границ моего двора,
чтобы чувствовать тебя своей.
Пампа:
Я знаю, тебя терзают
борозды, переулки и разрушительный ветер.
Поруганная страдалица, ты уже — сущая на небесах.
Не знаю, в тебе ли смерть. Я знаю, что ты в моем сердце.
Прощание
Вечер, размывший наше прощание.
Вечер стальной, и сладостный, и монструозный, как темный ангел.
Вечер, когда наши губы жили в обнаженной близости поцелуев.
Неодолимой волной захлестнуло время
нас в уже бесполезном объятии.
Вместе мы расточали страсть, не ради нас, но во славу уже подступающего одиночества.
Свет нас отверг, срочно явилась ночь.
Мы к решетке прошли под тяжестью тени, уже облегченной утреннею звездою.
Как уходят с потерянных пастбищ, я вернулся из наших объятий.
Как покидают страну клинков, я вернулся из твоих слез.
Вечер длится живой, как сон,
среди других вечеров.
Потом я обрел и миновал
ночи и дни долгого плавания.
Генерал Кирога катит на смерть в карете
Изъеденное жаждой нагое суходолье,
оледенелый месяц, зазубренный на сколе,
и ребрами каменьев бугрящееся поле.
Вихляется и стонет помпезная карета,
чудовищные дроги вздымаются горою.
Четыре вороные со смертной, белой метой
везут четверку трусов и одного героя.
С форейторами рядом гарцует негр по кромке.
Катить на смерть в карете — ну что за гонор глупый!
Придумал же Кирога, чтобы за ним в потемки
шесть-семь безглавых торсов плелись эскортом трупа.
— И этим кордовашкам владеть душой моею? —
мелькает у Кироги. — Шуты и горлопаны!
Я пригнан к этой жизни, я вбит в нее прочнее,
чем коновязи пампы забиты в землю пампы.
За столько лет ни пулям не дался я, ни пикам.
«Кирога!» — эти звуки железо в дрожь бросали.
И мне расстаться с жизнью на этом взгорье диком?
Как может сгинуть ветер? Как могут сгинуть сабли?
Но у Барранка-Яко36 не знали милосердья,
когда ножи вгоняли февральским ясным полднем.
Подкрался риоханец на всех одною смертью
и роковым ударом о Росасе напомнил.
И рослый, мертвый, вечный, уже потусторонний,
покинул мир Факундо, чтобы гореть в геенне,
где рваные солдаты и призрачные кони
сомкнулись верным строем при виде грозной тени.
36Барранка-Яко — город в провинции Кордова, в котором был убит генерал Кирога.
Превосходствоневозмутимости
Слепящие буквы бомбят темноту, как диковинные метеоры.
Гигантский неведомый город торжествует над полем.
Уверясь в жизни и смерти, присматриваюсь к честолюбцам и пробую их понять.
Их день — это алчность брошенного аркана.
Их ночь — это дрема бешеной стали, готовой тотчас ударить.
Они толкуют о братстве.
Мое братство в том, что мы голоса одной на всех нищеты.
Они толкуют о родине.
Моя родина — это сердцебиенье гитары, портреты, старая сабля
и простая молитва вечернего ивняка.
Годы меня коротают.
Тихий как тень, прохожу сквозь давку неутолимой спеси.
Их единицы, стяжавших завтрашний день.
А мне имя — некий и всякий.
Их строки — ходатайство о восхищенье прочих.
А я молю, чтоб строка не была в разладе со мной.
Молю не о вечных красотах — о верности духу, и только.
О строке, подтвержденной дорогами и сиротством.
Сытый досужими клятвами, иду по обочине жизни
неспешно, как путник издалека, не надеющийся дойти.
Монтевидео
Вечер душе, как уставшему — путь под уклон.
Ночь осенила крылом твои плоские крыши.
Ты — наш прежний Буэнос-Айрес, который все дальше с годами.
Твои камни пушатся нежностью, как травой.
Близкий и праздничный, словно звезда в заливе,
потайными дверцами улиц ты уводишь в былое.
Светоч, несущий утро, над тусклой гладью залива,
зори благословляют тебя перед тем, как зажечь мои окна.
Город звучный, как строка.
Улицы уютные, как дворик.
Листок, найденный в книге Джозефа Конрада
Там, где простор искрится, бессменным летом брезжа,
день исчезает, мрея и растворяясь в блеске.
День вас находит щелкой в соломе занавески,
равнинною горячкой и жаром побережья.
И только ночь бездонна и чашей, полной теми,
стоит, открыв дороги, манящие в безвестье,
где люди в томных лодках взирают на созвездья
и огоньком сигары отмеривают время.
Узор в далеком небе душистым дымом скраден.
Окрестность безымянна, прошедшее стирая.
Мир — это лишь скопленье размытых, нежных пятен.
Любой поток здесь — райский, и всякий — житель рая.
День плавания
Море — несоразмерный клинок и полнота нищеты.
Вспышка переводима в гнев, родник — во время, а подземные воды — в приятие очевидного.
Море — одинокий слепец.
Море — древний язык, не разгаданный мной.
В его глубинах заря — простая стена, беленая, глинобитная.
С его границ дымным облаком поднимается ясный день.
Непроницаемо, как резной камень,
море способно выстоять перед многими днями.
Каждый вечер — пристань.
Взгляд, исхлестанный морем, уходит в небо:
в последнее нежное побережье, синюю глину вечеров.
Сладкая близость заката над хмурым морем!
Облака будто ярмарочные огни.
Новый месяц зацепился за мачту.
Этот самый месяц мы оставили под каменной аркой, а теперь его свет веселится в ивах.
Мы с сестрой на палубе преломляем вечер, как хлеб.
Дакар37
Дакар — на перекрестке солнца, пустыни и моря.
Солнце скрывает от нас небосвод, песок подстерегает нас на пути, море — само злопамятство.
Я видел вождя племени в одеянии, лазурь которого жарче полыхавшего неба.
Мечеть — рядом с историком — сверкает чистым огнем молитвы.
Полдень отодвигает хижины, солнце, словно воришка, карабкается по стенам.
У Африки — собственная судьба в вечности: подвиги, идолы, царства, непроходимые джунгли, мечи.
Я смог добраться — до сумерек и до селенья.
37Дакар — город на северо-западном побережье Африки. В те времена, когда создавалась книга «Луна напротив», — административный центр Французской Западной Африки; ныне — столица государства Сенегал.
Обещание в открытом море
Родина, я не обрел твоей близости, но у меня твои звезды.
Глубь мироздания их изрекла, а теперь в благодати теряются мачты.
Звезды слетели с высоких карнизов, как стая испуганных голубей.
Звезды поднялись из патио, где водоем — звонница, перевернутая меж двух небес.
Звезды взвились из растущего сада, чей беспокойный шелест темными водами подступает к подножью стены.
Явились из захолустных закатов, гладких, как заросший сорной травой пустырь.
Звезды бессмертны, звезды неистовы, в вечности с ними не сравниться ни одному народу.
Перед стойкостью звездных лучей людьми населенные ночи свернутся, как палые листья.
Звезды — край невиданной ясности, и как-то случилось, что моя родная земля в их стихии.
Почти Страшный суд
Мое праздношатание по улицам вольготно живет в ночи.
Ночь — долгий и одинокий праздник.
В глубине души чувствую, что я прав, и горжусь собой.
Я свидетель мира, я исповедуюсь в необычайности мира.
Я пел о вечном: о яркой строптивой луне, о ланитах, лакомых для любви.
Я чествовал стихами город, меня сжимающий стенами,
и предместья, живущие на разрыв.
Меня изумляет то, что других заземляет.
Перед песней несмелых поджигаю голос закатом.
Предков по крови и предков по грезам прославляю и воспеваю.
Я был, я есмь.
Твердыми словами скрепляю чувство,
готовое расточиться в нежности.
Память о давней подлости возвращается к сердцу,
как мертвая лошадь с прибоем к берегу, возвращается к сердцу.
Но на моей стороне улицы и луна.
Глоток воды услаждает нёбо, и строка не отказывается петь.
Красота устрашает: кто посмеет меня осудить, если я заслужил прощение одинокого полнолуния?
Вся моя жизнь
И опять — незабытые губы, единственные и те же!
Я был упорен в погоне за радостью и бедой.
Пересек океан.
Видел много дорог, знал одну женщину, двух или трех мужчин.
Любил одну девушку — гордую, светловолосую, испанского ровного нрава.
Видел бескрайний пригород с ненасытным бессмертьем закатов.
Перепробовал множество слов.
И верю, что это — всё, и навряд ли увидится или случится что-то другое.
Верю, что все мои дни и ночи
не беднее и не богаче Господних и каждого из живущих.
Последнее солнцев Вилла-Ортусар38
Вечер как перед Страшным судом.
Улица как разверстая рана небес.
Не знаю, что там пылает в глубине — ангел или закат.
Бескрайность нависает надо мной с навязчивостью кошмара.