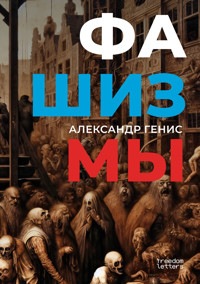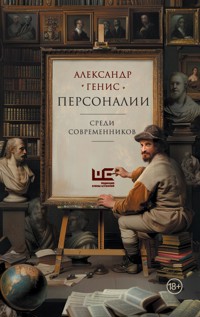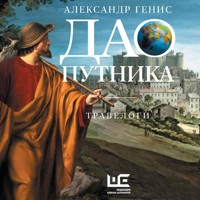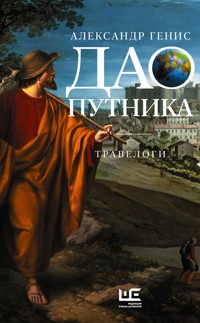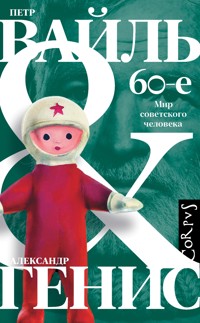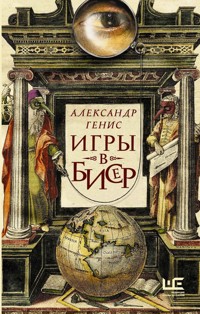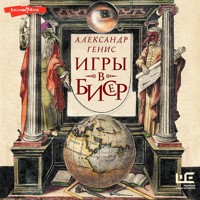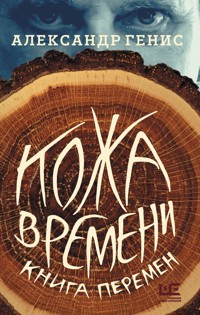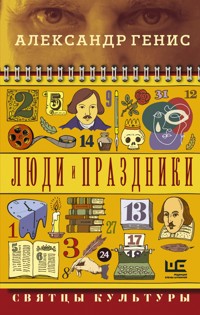Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Стоило уехать полвека назад из СССР в Америку, чтобы написать эту чудесную книжку. Амеррика — страна, увиденная глазами писателя, воспитанного русской литературой и влюбленного в американскую прозу. В Амеррике все одновременно близко и чуждо, и именно этот двойной фокус рождает личную, пронзительную хронику открытий — от Техаса до Нью-Джерси, от Французского квартала до индейских резерваций. Генис делится Америкой как историей любви, в которой восторг и ирония, признание и недоумение идут рука об руку. И если вам кажется, что вы уже хорошо знаете Штаты — «Амеррика» предложит вам посмотреть еще раз.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
№ 150
Александр Генис
АМЕРРИКА
Новый Свет с акцентом
Freedom LettersРига2025
Пролог
В преддверии золотой свадьбы с Америкой мне хочется подвести итоги этому счастливому браку. Но, как это всегда и бывает, труднее всего описать знакомство, уместившее жизнь.
Я приехал в США 24-летним — волосатым и любознательным дикарем. Почти полвека спустя изменилось меньше, чем могло бы, — если, конечно, не считать прически. Все американские годы я честно и старательно пытался понять, куда угодил. Но эта страна, в отличие от семидесяти других, которые я открывал наскоком, по-прежнему не поддается обобщению.
Возможно, потому, что я вырос в Америке — задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то сразу целого поколения. В чем можно убедиться, изучив историю вопроса.
Вопроса не было. Был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова — с Чарли Паркера, и для всех — с книг.
Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация: сентиментальный цинизм, хемингуэевская «ирония и жалость» в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и — заодно — прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Она учила нас разделению сфер. Для того чтобы полюбить ее, мы не нуждались в живых американцах. Скорее — наоборот, они только мешали.
Первого, причем — голым, я увидал, когда был уже студентом, — в братской душевой турбазы «Репино», которую мы делили с профсоюзной делегацией из Детройта. Несмотря на заморских гостей, вода была холодной, а американец — синим. Мы спартански улыбались друг другу, но так и не произнесли ни слова. Меня на английском учили обсуждать лишь «лето в колхозе», а у него зуб на зуб не попадал.
На то, чтобы привыкнуть к не нашей, а к настоящей Америке, ушло столько лет, что их уже нелепо считать. Труднее всего было отказаться от старой привычки. Худший способ узнать эту страну — знакомиться с ней по книгам, особенно тем, что написаны ее лучшими авторами. Не потому что они с этим не справились, а потому что книги, тем более великие, изображают уникальное, героическое, глубокое, даже сверхчеловеческое, но не обыкновенное, чем живут все, кроме героев классиков.
Представим себе чужеземца, который приехал в Россию, чтобы найти там страну измученных идеалистов Достоевского и кающихся интеллигентов Чехова. Такие случаи известны, и ничем хорошим они не кончились. Мои знакомые американские слависты ездили в Петербург Пушкина и Блока, а теперь оказываются в городе Путина и Пригожина.
Тем не менее, полюбив еще в ранней юности американскую прозу, я ехал в Америку Хемингуэя, О. Генри, Фолкнера, Стейнбека и Сэлинджера, но нашел только первого. Hemingway было написано на грузовике, перевозившем мебель. Оказалось, что это фамилия хозяина фирмы грузчиков, не имевшего никакого отношения к автору «Фиесты», которую я, как все в моем поколении, знал наизусть.
В оправдание своей наивности скажу, что первое открытие и освоение Америки происходило с помощью таких же ложных аналогий со Старым Светом. Начать с того, что Колумб, как мы вслед за ним, плыл в одну страну, а попал в другую, которую тоже не мог себе представить.
С европейцами это бывает, например — с Жюлем Верном. Он утрировал чужие национальные черты до тех пор, пока они не становились забавными шаржами, обычно безобидными. Америка у него — страна страстных чудаков. Они не уступали в экстравагантности англичанам, но сохраняли природную неотесанность, обусловленную хрестоматийным тезисом о неосвоенности континента — воистину Нового Света.
Как ни странно, что-то в этом есть. Карикатура иногда проговаривается о том, что скрывает портрет. Дело в том, что и сегодня американца окружает дикая во всех отношениях природа. Стоит свернуть с хайвея на любую из боковых дорог, как та начнет сужаться, лес подступит к обочине, из зарослей норовит выйти олень, лось, даже медведь. Я лично знаю в ближних окрестностях Нью-Йорка не очень высокую, но крутую гору (из скромности ее зовут Индюшачьим холмом), забравшись на которую, вы обнаружите панораму без малейших признаков цивилизации — их не видно даже в бинокль.
Живя в прирученном, казалось бы, Нью-Йорке, я привык к тому, что и здесь стихии бывают свирепыми, особенно зимой, когда трудовая жизнь прекращается и начинается кошмар, неотделимый от восторга. Дети прогуливают школу, взрослые, не в силах добраться домой, флиртуют на рабочих местах, машины прячутся в сугробах, и по Бродвею катят лыжники.
Ну, и, конечно, ураганы, для которых уже не хватает женских имен. Наиболее памятный звался Сэнди. Он оставил нас без электричества, и мы с женой провели чýдную неделю с Мандельштамом, которого читали вслух по очереди, экономя на свече. Моим родителям приходилось хуже: они жили на берегу океана, который нередко навещал их на дому. Соленая вода травила посаженную для Рождества елку и заливала первый этаж. На втором старики пережидали беду, сжимая в руках самое дорогое: американские паспорта и свадебные фотографии.
Безудержные катаклизмы здешнего климата бранят все, кому от него достается, но как-то не совсем искренне. И никакой риск не уменьшает соблазна и цены прибрежной недвижимости.
Мне кажется, что американцы в душе считают честным дать природе шанс взять реванш за наше насилие над ней. Месть поруганной колонизаторами натуры находит выражение в эксцессах, которые, как всегда, считали путешественники, многое объясняют в американском характере. Он ведь сложился в очень новом Свете, к которому человек еще не успел толком притереться.
Впрочем, говорил Оскар Уайльд, самая старая новость — молодость Америки. Во многом она не опережает, а отстает, задержавшись в веке Просвещения, когда еще верили во всемогущество универсального разума.
— Он-то и породил Америку, — считали философы, — как Зевс Афину: из головы, взрослой и вооруженной.
Надо признать, что выросшие из конституции американцы до сих пор застряли в XVIII веке с его верой в общий закон, который неизбежно обернется счастьем — для всех и навсегда.
Самобытность нового континента требовала тамбура, спасавшего от кессонной болезни. Чтобы вписать Америку в свою историю, Старый Свет должен был найти ей знакомое место. Из-за этого мы не открывали Америку, а искали ту, которую уже знали — из книг и песен, фильмов и снов.
Не потому ли отечественные писатели возвращались из Америки разочарованными? Ведь они привозили ее с собой, а когда она оказывалась непохожей на тот образ, который в них жил, то виновата была непонятая ими страна.
Честертон, лучший защитник непредвзятого взгляда на вещи, говорил: «Путешественник видит то, что видит; турист видит то, на что он приехал посмотреть».
Так или иначе, Новый Свет не понравился ни Горькому, ни Есенину, ни Маяковскому, ни Пильняку, ни Эренбургу, как и многим другим, включая автора сталинского раритета «В Нью-Йорке левкои не пахнут» (книги, которую я бережно храню за безумное название).
Эту тему подробно разворачивает любимый травелог российских читателей — «Одноэтажная Америка». Ильф и Петров в ней пришли к неприятному выводу. Большу́ю страну населяет маленький народ — меркантильный, мещанский, ограниченный, не достойный американской технической мощи. Зато уж она стала объектом преклонения.
Подлинные герои Ильфа и Петрова — бензоколонки, конвейер, плотина, электричество, мост в Сан-Франциско. Все это они хотели бы завернуть и увезти домой, чтобы побыстрее добраться до светлого будущего. Но сильнее всего авторы возлюбили автомобиль. Кажется, они и в Америку приехали в первую очередь для того, чтобы посмотреть на подлинную родину машины и проехаться в ней по стране, лучшую часть которой в их глазах представляла дорога: «Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу».
Я вспоминаю Ильфа и Петрова всякий раз, когда вслед за писателями еду по упомянутой в книге «федеральной дороге № 9, через Поукипси» подальше от Нью-Йорка, чувствуя, что с каждой милей меня отпускает вечное напряжение жизни и все становится менее важным, чем обычно.
По таким дорогам я езжу полвека, но так и не добрался до цели. Более того, я даже не знаю, есть ли она, и не представляю, на что она может быть похожа. Что и неудивительно. В Америке у машин есть строптивая черта характера, мешающая им останавливаться.
«Движение — всё, цель — ничто», — бормочут они вслед за Сизифом и несутся куда глядят фары.
Собственно, поэтому понять Америку можно только по пути. При этом гостю — иноземцу надо постоянно держать в памяти:
в Старом Свете вы куда-то едете, а в Новом вы едете откуда-то;
в Старом Свете преобладает центростремительное движение, в Новом — центробежное;
в Старом Свете все дороги ведут в Рим, в Новом — «из Рима».
И только тот путник, который сумеет влиться в поток, только тот, кто услышит ритм этого вечного движения, только тот, кто войдет во вкус освоения Нового Света, так непохожего на Старый, может с чистой совестью сказать, что ему удалось не увидеть, а открыть Америку.
Собрав под одной обложкой мой опыт таких путешествий, я отобрал и сложил в этот том лишь то фундаментальное, что не зависело от политики, зато задело автора — пусть нелогичным, мимолетным, прихотливым, пристрастным, идиосинкратическим, но глубоко личным образом.
О другом пусть пишет Википедия.
Моя Америка
Из путевого дневника
Нью-Джерси
Я живу в Нью-Джерси, и этого принято немного стесняться — или, напротив, неумеренно этим гордиться. Первые, вроде меня, готовы извиняться, что изменили великому мегаполису с глухой провинцией, которая начинается прямо на другой стороне Гудзона. Вторые считают, что счастливо отделались от обители порока, и никогда ее не навещают, даже если живут на правом берегу того же Гудзона.
Некоторые из моих соседей не бывают на Манхэттене, потому что семейным людям делать там нечего. Одного я все же уговорил. Он надел галстук, взял с собой принарядившуюся жену и отправился в Сохо, где в сквере целовалась парочка. Мой товарищ присмотрелся — оказалось, двое мужчин. Он развернулся и отправился в Нью-Джерси, теперь уж навсегда.
У ньюйоркцев, конечно, свои предрассудки. Они, считая, что цивилизация кончается на Двенадцатой авеню, не в силах переправиться через милю пограничной реки.
Сам я провел первые пятнадцать лет американской жизни на Манхэттене и сбежал оттуда исключительно за тишиной. Нью-Йорк был и остается моим любимым городом, но днем я люблю его больше. Ночью там звучит музыка — и в два часа, и в три, и на рассвете.
Особенно меня донимали появившиеся тогда динамики, встроенные в багажники автомобиля. Они могли заполнить целый квартал южными напевами, из-за которых я твердо выучил слово corazón, что, конечно, означает на испанском «сердце». Весной о нем громко пел весь наш район в северном Манхэттене, и я, не выдержав, в поисках покоя переправился через Гудзон. Тут я обосновался в маленьком городке Эджуотер, который честно объявляет о своем географическом положении: на краю воды, на берегу реки Гудзон, по фарватеру которой проходит граница между двумя штатами и мирами.
Нью-Йорк себя именует «имперским», о чем написано на всех автомобильных номерах. А притулившийся к соседу Нью-Джерси знает свое место и, не стесняясь провинциализма, зовет себя (и тоже на номерах) Garden, что если и не переводится как «деревня», то только потому, что ему так удобнее.
Впрочем, рядом с Нью-Йорком всё — дыра, в которую из великого города сваливаются сбежавшие или выпихнутые. Свято веря в это, я всегда молился на Восток, через реку, туда, где никогда не гас свет, откуда доносился вечный гул машин и все та же нескончаемая пуэрто-американская музыка.
Чтобы мне открыть Нью-Джерси, штат, понадобилось бедствие — ковид. Когда в Нью-Йорке из-за пандемии и карантина стало нечего делать, я обернулся на Запад, но не дальний, а ближний — в часе езды. Как всем известно, Америка — страна контрастов, и, воспользовавшись букетом кризисов, я принялся изучать ее обратную — идиллическую — сторону.
Обстоятельства сделали из меня краеведа. Чтобы разглядеть что-то занимательное, нужно сменить оптику, углубиться в обыденное и вынырнуть с другой стороны скучного с трофейным знанием, недоступным ленивому. Остальным занимается большая история, нам остаются осколки прошлого, в которых так сладко копаться.
Очертив на карте радиус в шестьдесят миль, как раз на час езды, я отправился в городок с голландским названием. В наших краях таких хватает, поскольку выходцы из Нидерландов служат американцам, как римляне — Старому Свету. Голландский был латынью Америки, во всяком случае той, что родилась неподалеку от Нового Амстердама, который мы зовем Нью-Йорком.
Сверившись со словарем, я выбрал Хаверстроу, по-голландски это означает «овсяная солома». В соединении с местной глиной она образует кирпичи, из которых первые поселенцы строили свои дома еще в 1616 году. К XIX веку тут было сорок заводов, которые обеспечили застройку Нью-Йорка. Каждый старый дом на Манхэттене начинался в здешнем карьере.
В память об индустриальном прошлом местные устроили голландский садик. Он весь из кирпича: и ограда, и беседка, и чайный домик с краснорожими скульптурными фантазиями под надписью готическим шрифтом. Внутри — усмиренная до клумбы природа. В совокупности — образ Голландии в пейзаже и интерьере, от которого я млею, так как вырос в Риге.
Для нее тоже характерны сдержанные этика и эстетика, находящая отражение в культе кирпича. Даже готика у нас бывала «кирпичной». К ее лучшим образцам относились Академия художеств и две водонапорные башни — Анна и Жанна, названные по имени живших когда-то на этом месте сестер (первую из них сожгли на костре за колдовство).
В следующий раз я отправился на горное озеро Рокленд с кристально чистой водой. Оно служило источником льда для Нью-Йорка. Глыбы льда выпиливались зимними ночами (чтобы меньше таяли), на особых товарняках-рефрижераторах доставлялись на Манхэттен и прятались в кухонные шкафы-холодильники, где они могли пережить лето.
Так родились коктейли: со льдом все было вкусно, а главное — шикарно. Фабриканты льда, научившиеся сохранять его в древесных опилках и соломе, возили свой товар даже в Индию, где он имел феноменальный успех. Выше всего ценился прозрачный, как раз из этого озера, лед без примесей вмерзших головастиков.
На третий раз я отправился в путь наугад и оказался в крохотном городке Демарест, где не было ничего интересного. Разве что заросший водорослями канал и оккупированные травой рельсы с почти игрушечным станционным домиком, который известный архитектор выстроил по заказу железнодорожного барона Демареста.
В связи с воскресеньем ничего не работало, машин не было, а поезда и так не ходили с войны. Оставшиеся без дела горожане собрались у воды. Мужчины закинули удочки, женщины играли в карты, дети вертелись под ногами. Солнце сворачивало за пригорок, а в его косых лучах все выглядело, как на картине уместных здесь малых голландцев: безусловный мир и ненасильственный покой. Я такой завидной Америки, пожалуй, еще не видал.
В этом — соблазн краеведения. Доступное каждому, оно учит тому, что под пристальным взглядом незамеченное разрастается, а главное — углубляется, открывая микроскопическую структуру пространства и времени. Подглядывая в замочную скважину за локальной историей, мы подражаем не фауне, а флоре: пускаем корни медленно и надолго.
Хайдеггер, который всякому транспорту предпочитал лыжи, уговаривал студентов сидеть на месте и изучать его, это место, начиная с самого малого — с куска древесной коры, в созерцании которого философ находил убежище от окружающей нас суеты.
Примерно такой же урок я вынес из штата Нью-Джерси. Хотя и в нем хватает чудес другого масштаба.
Например — Принстонский университет, который входит в элиту американских вузов, в Лигу плюща. Считается, что их старые стены увиты живописным плющом. Но здесь это не метафора, а главная примета пейзажа. Заросли плюща настолько густые, что сквозь них трудно разглядеть архитектурные детали. Остается только общая картина — уютная, как в «Гарри Поттере», педагогическая фантазия, попасть в которую мечтает каждый студент в стране и в мире.
А однажды, заблудившись, я обнаружил посреди Нью-Джерси «мандир» — гигантский индийский храм, построенный из каррарского мрамора. Он выглядел так, будто Старик Хоттабыч перенес его сюда из какой-то волшебной страны.
Но для меня Нью-Джерси — еще и самый «британский» штат Америки. Именно здесь сохранились лучшие черты английского пейзажа: мягкая природа, старинные дубы, родовые поместья. Джейн Остин чувствовала бы себя здесь дома.
И это при том, что на юге штата есть огромная необитаемая пустошь, густо поросшая соснами. Часть ее называется Бирнамским лесом, как в «Макбете». Согласно местной легенде, там обитает таинственное существо — «джерсийский дьявол». Сам я его не видел, но уже который год ищу этого черта, в честь которого называется хоккейная команда в Нью-Джерси.
Массачусетс
Этот штат с непроизносимым для новичка названием больше всего прославился тремя событиями в своей, как и во всей американской, истории.
Первое — судебный процесс в конце XVII века над ведьмами в Салеме, в результате которого казнили пятнадцать человек. В память об этом ужасном событии в городе установлен памятник невинным жертвам и выстроен посвященный им музей. Но сколько бы Салем ни каялся в чудовищном преступлении, он все равно остается «городом ведьм», о чем напоминают местные дорожные знаки с колдуньей на метле.
Второе событие — «Бостонское чаепитие», инцидент, послуживший поводом к Войне за независимость американских колоний от Англии.
Но важнее всего — высадка пилигримов, с корабля «Мейфлауэр» на том самом Тресковым мысе, которому пропел «Колыбельную» Иосиф Бродский:
В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска.
Кейп-код, живописная и бесплодная песчаная коса, как Синайская пустыня, вошла в священную историю Нового Света. Она тоже окружена легендами, каждая из которых, впрочем, строго документирована.
Одиннадцатого ноября 1620 года пилигримы впервые ступили на землю Нового Света. Тринадцатого ноября учинили стирку. Пятнадцатого нашли родник с пресной водой, которая, замечает хроникер, «показалась им вкуснее вина». Чуть позже обнаружили яму с запасами кукурузы, спрятанными на зиму индейцами (расплатились только через год). Первая перестрелка с краснокожими, окончившаяся вничью: никого не ранили ни стрелой, ни пулей. И наконец, переезд в плодородный Плимут, освобожденный от индейцев оспой. Вот тут-то их, пилигримов, можно до сих пор навестить. И это самое интересное приключение, которым меня одарил Массачусетс.
Америка, как, скажем, Рим, родилась в убожестве, но она его заботливо сохранила, ничем не украсив. Чтобы полюбоваться оригиналом, следует посетить особый музей — первое поселение пилигримов в Новом Свете.
Из-за того, что историки остановили часы, здесь всегда один и тот же год: 1627-й. И люди те же, что приплыли четыре века назад. Взяв имя и судьбу одного из колонистов, каждый на плантации не просто играет выбранного из хроники героя, а живет, как он, разделяя веру, предрассудки и языки своего века (семнадцать диалектов, на которых тогда говорили в Англии).
Боясь нападений индейцев, колонисты окружили свою деревню шатким частоколом и установили четыре пушки на сторожевой башне, служащей заодно и молитвенным домом (занимавшая все воскресенье проповедь была единственным развлечением поселенцев). Выстрелы могли отпугнуть индейцев и пиратов, но вряд ли могли защитить пилигримов. Их было слишком мало. Из ста шестидесяти человек — лишь шестьдесят мужчин, способных носить оружие, зато уж эти с ним не расставались (тут я впервые понял, почему так трудно разлучить американца с его ружьем).
Деревня была бедной, но с видом на море. По улицам — кривым песчаным тропинкам — бродили куры, за забором паслись козы, но не коровы. Низкие дома венчались острыми, на случай снегопада, крышами.
Входя в гостеприимно распахнутые двери, ты встречаешься с жившим в XVII веке хозяином, готовым ответить на твои вопросы. В дымной комнате за толстой книгой сидел юноша в островерхой шляпе.
— Стив Дин, — представился он, — мой дядя приплыл на «Мейфлауэре».
— Вы умеете читать?
— Но не писать, как и половина колонии, не считая женщин, разумеется, — их не учили.
— А что это за книга? Библия?
— «Полезные советы». Библия слишком дорога, тем более — женевская, которую переводили прямо с еврейского и греческого, чтобы ближе к слову Божьему. У нас многие ее знают наизусть.
— Значит, среди пилигримов есть образованные люди? Врач?
— Это вряд ли, он мясник.
— Такой плохой?
— Да нет, по профессии, умеет кровь отворять. Другого в эту глушь не заманишь.
— А вы?
— В Англии я был паромщиком, а тут мне король обещал через семь лет двадцать акров на берегу. Я себе там дом поставлю: свой дом на своей земле!
Глаза парня засветились ненаигранной радостью, и я подумал, что за четыреста лет американская мечта не слишком изменилась.
На прощание я заехал в гавань, где стоял «Мейфлауэр-2», музейная копия первого корабля, и с тем же экипажем. Больше других мне понравился пушкарь Том. Он не стеснялся в выражениях.
— Самый трудный рейс в жизни, — начал он свою сагу.
— Штормы?
— Пилигримы! Библия день и ночь. «Иезекииль, стих 2», — начнет один. «Исайя, стих 13», — подхватит другой. И это еще до Нового Завета не добрались. Даже моряки жаловались: «Уж лучше пираты».
В отличие от богобоязненных пилигримов, у меня с Массачусетсом скорее языческая связь: как раз когда мы уже совсем отчаялись, он дружески протянул нам с женой свою грибницу.
Если в России, как было написано в моем букваре, в лес ходят за грибами, по ягоды или партизанить, то американцы ягоды понимают в джеме, партизанов — в Афганистане, грибы — в супермаркете, и по лесу гуляют просто так.
Попав в Америку, мы делали то же самое, пока не открыли здешние грибы. Точного адреса я предусмотрительно не назову, но признаюсь, что было это на пляже, когда мы, махнув рукой на местную флору, отправились загорать. Тут-то, по колено в песке и лишайниках, они и стояли. Забравшись в безлюдные дюны, грибы торчали на ветру, как чернобыльский кошмар или декорации кукольного театра. Похожие на наши подосиновики, они поражали несуразным размером. Коренастые челыши не помещались в ладонь, тень взрослых особей могла укрыть от солнца белку. Лениво раскинувшись вдоль бесконечного пляжа, они, как нудисты, не могли не обращать на себя внимания. И все же никто, кроме нас, к ним не цеплялся.
Очумев от жадности, мы бросились на добычу с ножами, но три гриба наполнили корзину, и нам пришлось сваливать урожай в багажник.
Постепенно с пляжа стал стекаться народ. Самые приветливые, неумело скрывая ужас, спрашивали, что мы собираемся делать с этими причудливыми растениями. Узнав — что, американцы теряли выдержку:
— Вам нечего есть? Не отчаивайтесь. Вы еще найдете работу. Разве вы не знаете, что грибы ядовиты?!
— Не все, — выкручивались мы.
— Что значит «не все», когда у всех ножки да шляпки. Как тут отличить агнцев от козлищ?
— Как всегда, — честно отвечали мы им, не желая уносить эту тайну в могилу, — душой и опытом. Причем опыт нужен свой, а душа — народная.
Интерес к грибам свойственен почти всем просвещенным нациям. Японцы без грибов не обедают, немцы варят суп из лисичек, итальянцы жарят боровики на гриле, французы кладут их в паштет, поляки закусывают маслятами водку. Ну а нас каждую осень эта грибная страсть гонит из дому, чтобы приобщиться к ритуалу братания человека с грибами в окрестностях самого любимого городка Массачусетса и всей Новой Англии.
Провинстаун заменяет мне почти все, что я оставил в Старом Свете: бледное море, обильный, но приглушенный свет, который веками соблазнял художников, пахучие сосны, дюны с поблескивающей в тумане мокрой «травой бедных» (она ни на что не годится) и солнце, которое только здесь умеет садиться, как на Рижском взморье, — в воду, а не куда-то в Пенсильванию.
И все же уникальным этот городок делает не природа, а люди. Меньшая часть — португальские рыбаки, бóльшая — гомосексуальная община.
Отличить пришлых от старожилов можно даже по судам в городской бухте. Ржавые рыбацкие траулеры носят имена либо в честь святых, либо уж «Донна Мария». Каждый вечер они возвращаются с рыбой (трески всё меньше) и бесценными морскими гребешками. За ними на мол приезжают матери и жены, чтобы сразу доставить улов в рестораны. Лодки поменьше снабжены бороной для лучших в мире устриц, за которыми в эти края (особенно в деревушку Велфлит) гурманы ездили из Европы еще на парусных кораблях.
Прогулочные яхты начищены до блеска и редко покидают причал, компенсируя оседлый образ жизни решительными названиями: «Морской волк», «Новый морской волк», «Паршивый пес», «Черная овца», «Чертовски хороша» и «Эмма + Ирена».
Сам город исчерпывается одной улицей, но какой! Уставленная изысканными картинными галереями, элегантными ювелирными магазинами, вкусными, а не только дорогими ресторанами, она хвастается старинными отелями, которые в прошлой жизни были капитанскими особняками.
Об этом напоминают деревянные девы, снятые с давно оставшихся без дела китобойных судов. И «вдовьи балконы» на крышах, откуда жены высматривали возвращающиеся корабли. Часто зря: мореплавание у Трескового мыса так опасно, что из остатков разбившихся судов можно соорудить стену на все побережье. С тех пор как прорыли канал, отделяющий мыс от материка, вдоль пляжа летом плавают только туристы, а зимой — «моржи» и тюлени. Сотня усатых, с круглыми любопытными глазами зверей высовывалась из воды по пояс, чтобы получше нас разглядеть.
— Симпатичные твари, — поделился я восторгом со стариком, прогуливавшим седого пса по песку.
— Если с ними не купаешься.
— Неужели кусаются?
— Тюлени — нет, акулы — могут. В принципе, они охотятся за тюленями, но им все равно. «Челюсти» видали? Про нас снимали.
Возвращаясь с моря в город, я наслаждался моим любимым сезоном — мертвым. Посторонние схлынули, остались местные, да и то немного, поэтому все здороваются — и люди, и звери. Избалованные собаки (детей здесь нет) лезут целоваться с редкими прохожими. Хозяева — пожилые и приветливые. Им здесь хорошо и спокойно. Во всяком случае, мне показались счастливыми трое немолодых трансвеститов с приделанным бюстом, с маникюром и щетиной. В волосатых руках они держали легкие коктейли и лениво бранили республиканцев.
— У вас теперь до лета будет тихо? — спросил я официанта.
— Какое там! В начале декабря — праздник: Holly-Folly.
— Никогда о таком не слышал.
— Понятно почему. Его справляют только в Провинстауне. Это же гей-сити, у нас свое Рождество.
— Альтернативное?
— Во-во. Сперва здесь справим с любимыми, а потом, как все, — к родственникам, но уже поодиночке, чтобы мама с папой не огорчались и соседи не пугались, как ваш Путин.
Доев и дослушав, мы взглянули на часы и вместе с немногими посетителями заторопились, чтобы не опоздать к закату. На вечернем пляже устроились редкие парочки. Кто-то разжег костер из плавника. Другие возились с шампанским. Самый упорный, закаляя волю, залез в воду, которую даже в Балтийском море посчитали бы холодной.
Между тем солнце быстро садилось. Горизонтальные лучи, которые у американских кинематографистов зовутся «магическими», а у русских — «режимом», заливали нас медовым светом, делающим всех красивыми.
В сумерках мы притихли. Только две обнявшиеся старушки махали исчезающему солнцу.
— See you tomorrow! — кричали они в унисон.
— До завтра еще дожить надо, — возразила жена, вечно боявшаяся сглазить.
Пенсильвания
Когда я приезжаю в Филадельфию, первую столицу Америки, то чувствую себя, как в родной Риге: еще один старинный город с протестантскими традициями. Правда, злые языки говорят, что Филадельфия построена так, будто бы ее план начертили в школьной тетрадке. Зато причудлива и экзотична жизнь пасторальной части штата.
Провинция — скелет Америки. Мясо можно нарастить за счет небоскребов, но костяк строится на хорошо проверенных, отутюженных временем консервативных истинах. Об этом писал славянофил Алексей Хомяков, когда утверждал, что в Англии каждый дуб — тори.
Но это, конечно, не о политике, а о мировоззрении, которое выражают обои в голубой цветочек, громадные тыквы, выставленные у крыльца, конкурс на лучшее варенье, ярмарки народных промыслов и весь обывательский уклад жизни, настолько укорененной в старинных традициях, что изменить его не способна самая стремительная поступь прогресса.
Образцовое путешествие в американскую глубинку — поездка на юго-восток Пенсильвании, в край амишей, сумевших довести искусство вычитания до совершенства.
Слово «амиши» происходит от слова «аминь». Так себя называли члены протестантской секты, которые бежали в XVII веке от преследований в Америку. Пенсильванию амиши выбрали потому, что в этих краях царила веротерпимость, ограниченная лишь единобожием.
Главная достопримечательность земли амишей — они сами. Их нельзя не узнать. Строгий дресс-код предписывает мужчинам носить черные штаны с подтяжками (пуговицы запрещены — они не упоминаются в Библии), шляпу и белую рубаху. Усы они бреют (чтобы не походить на офицеров), а бороду нет, из-за чего старики напоминают Солженицына. Женщины ходят в белых чепцах и темных платьях с передниками. Детский наряд отличается только тем, что малыши бегают босиком.
Взрослые пользуются повозками на конной тяге. Помимо автомобилей, амиши отказываются признавать самолеты, электричество, радио, телефон, телевидение и компьютер. В сущности, этот список — довольно точная опись всего, что успела натворить наша цивилизация со времен Вермеера.
На крышах домов амишей нет не только телевизионных антенн, но и громоотводов: молния — бич Божий, от которого грешник не смеет уклоняться.
Я часто приезжаю в Пенсильванию, чтобы даром попользоваться разлитым в воздухе уютом домовитости. В последний раз заглянул через забор и заметил, что во дворе паслись пони, корова с теленком и почему-то павлины.
— От них-то, — не справившись с удивлением, спросил я у хозяина, — какой прок в хозяйстве?
— Красивые, — ответил он, не отрываясь от прополки грядки.
Вермонт
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Когда-то здесь жил недостижимый, словно Грааль, Солженицын, но и без него Вермонт — форпост русского языка в Новом Свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так лучшая языковая школа колледжа Миддлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания: их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать.
— Как дела? — щебечут одни новички.
— Хорьошо, — отвечают другие.
А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, язык пробивает себе дорогу, и беседа приобретает более осмысленные семантические очертания — как в разговорнике.
— Как дела? Ты любишь кашу?
— Каша — для Маши, я люблю Чехова.
Профессорам, особенно из отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского. По опыту знаю, что в Москве это непросто.
— Люблю вкусно поесть, — сказал я там однажды интервьюеру.
— Топовые продукты, — бегло перевел он меня на русский, — составляют мой бренд.
Здесь это запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселее. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни — в классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями.
Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «СТЕНА», на окне — «ОКНО», под ним — «ПОДОКОННИК». Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями, где демонстрировались сусальные фантики конфет «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распития спиртных, включая игристые, напитков.
Я не был здесь десять лет и сразу заметил перемены. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. Что делать, славистика — дочь войны. Вооруженный этими знаниями, я осторожно вошел в аудиторию к аспирантам, отнюдь не похожим на филологов. Девушки — красивые и без очков, юноши — рослые и мускулистые.
— Какая ваша любимая русская книга? — спросил я всех для знакомства.
— «Дама с собачкой», — сказал один.
— «Дама с собачкой», — подхватила другая.
— «Дама с собачкой», — согласился третий.
— «Геополитика России», — сухо сказал четвертый, с короткой стрижкой.
— ОК, — подытожил я и, застыдившись заимствования, неуклюже перевел себя на русский, — ладненько.
Дальше шло, как всегда: студентам — Бродский с Довлатовым, коллегам — анекдоты с библиографией. У костра, правда, больше не пели. Старые эмигранты, бежавшие от советской власти и знавшие все слова ее песен, вышли на пенсию, а новые предпочитают хору лепку пельменей. За этим мирным делом славист-дипломат рассказывал, какую роль они играли во Вьетнамскую войну.
— Управление советскими МиГами, — объяснил он, — оказалось не по силам субтильным вьетнамцам. Поэтому перед боевыми вылетами русские летчики, надеясь подкрепить своих клиентов, кормили их сибирскими пельменями.
Настоящий Вермонт начинался за пределами колледжа — с Зеленых гор, давших штату французское имя и неотразимую внешность. Она покорила меня еще на заре американской жизни, когда я приехал сюда, чтобы познакомиться с Сашей Соколовым. Вместо адреса он продиктовал пейзажную зарисовку.
В этих живописных краях такое случается. Лев Лосев, первый раз приглашая в гости, сбился с перечня дорог и выездов на рощи, ручьи и пригорки. Слушая его, я почувствовал себя Красной Шапочкой. Соколов, однако, был лаконичен: назвав гору, он велел добраться до ее вершины. Там я его и нашел. В палатке стояло полено и ведерко с парафином. Тут, глядя в угол, чтобы не отвлекаться горными видами, он сочинял новый роман.
Соколова можно понять. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, встретил верблюда. Рифмуясь горбами с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пасся в ущелье, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверят, я предъявил фотографию местным.
— Верблюд среди овец, — объяснили мне, ничуть не удивившись, — все равно что танк в отаре: отпугивает койотов.
— А что тут делают перуанские ламы? — пристал я, вспомнив других вермонтских зверей.
— Они охраняют перуанских же альпак.
— Ну а те зачем?
— Как зачем? Вы видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино. И они ими хлопают!
Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной.
У обочины стояла пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Видимо, он имел отношение к открывшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом из спрятанных среди кустов ульев.
— Медведи не донимают? — вспомнив Винни-Пуха, спросил я хозяйку.
— Наоборот, — обрадовалась она, — их туристы фотографируют.
Неудивительно, что в Америке выходит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных сорока девяти штатов считают, что не побывать здесь — преступление.