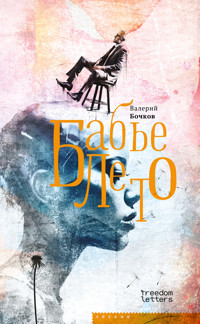
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Валерий Бочков (р.1956) — российский и американский художник-график и писатель. «Если конец света близок — что будет после конца света?» Такой вопрос задал себе Валерий Бочков. И написал «Бабье лето». В книге — повести, дающие неожиданные ответы на этот вопрос.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Серия «Лёгкие»
№ 73
Валерий Бочков
Бабье лето
Повести после конца света
Freedom LettersНью-Йорк2023
Бабье лето
Утром 29 августа, во вторник, Олег Лутц проснулся женщиной. Он потянулся за телефоном, чтобы посмотреть, который час. Рука показалась ему слишком смуглой, что-то не так было с пальцами. И особенно с ногтями. Экран мобильника высветил время: шесть ноль шесть.
1
Лутц ещё не выбрался из полудрёмы, сознание ещё путалось в обрывках сновидения, но смутные детали таяли и ускользали: низкое серое небо, колючее пальто на голое тело, некто грубый и требовательный, от которого Лутц пытался отвязаться — всё быстро исчезало, оставляя лишь послевкусие чего-то стыдного и неуютного.
Шесть ноль восемь.
Рука, сжимавшая телефон, была определённо чужой. Слишком тонкие пальцы, слишком длинные ногти. Кисть руки будто съёжилась: она уменьшилась чуть ли не вдвое.
— Что за… — Лутц вытащил из-под простыни другую руку.
Опасливо покосился. Левая рука выглядела так же, как и правая: слишком маленькая и совершенно чужая. Предчувствие чего-то жуткого и непоправимого, как тогда, на Кипре, незаметно вползло в него: тогда ему позвонили и сообщили про мать, а они с Катькой зафрахтовали катамаран — белый и нарядный, с острым треугольным парусом цвета невозможного ультрамарина. Зафрахтовали на весь день, включая закат. Собственно, закат и был целью. Капитан-грек, чёрный, как жук, не скрываясь пялился на Катьку, а та томно выставляла себя напоказ — лениво безразличная в зеркальных очках и пёстрых лоскутиках кукольного купальника. После полудня и второй бутылки шампанского лоскутики были сняты, солнце встало в зенит, выбелив небо и превратив море в неподвижную стальную пустыню. Капитан протянул Лутцу рацию, от трубки воняло одеколоном, и Лутц старался не прижимать мембрану к уху.
Молча дослушал — на том конце нажали отбой, — вернул рацию греку.
Море посерело, стало пыльным. Солнце превратилось в белую раскалённую дыру. Не ответив на вопрос Катьки и почти не касаясь пятками палубы, Лутц прокрался на корму и там затаился. Ему казалось, что так можно будет что-то исправить. Главное — не подавать виду.
В шесть десять Лутц собрался с духом и включил камеру. На экране мобильника появился серый угол потолка и кусок обоев. Когда он развернул объектив, на него смотрело чужое лицо.
Главное — не подавать виду. Бережно опустив мобильник экраном вниз на простыню, Лутц осторожно выбрался из кровати. Ему почему-то казалось, что тщательная выверенность движений, а главное — неторопливость — могут исправить происходящее. Главное — не паниковать. Никаких истерик, никаких криков. Главное — не подавать виду.
Как только ты бросился в бегство, ты превратился в жертву. Именно в этот миг. От тебя уже воняет страхом, каждый хищник на расстоянии полёта стрелы чует твой запах и пускает слюну: дичь! Но не хищники превратили тебя в дичь: ты сам решил стать жертвой.
У отца были сухие ладони, ладные и крепкие, как дубовые доски, на которых мясники разделывают мясо. Отец ни разу не ударил его кулаком. Лутц никогда не кричал, знал, что кричать нельзя. Потом отец поднимал его с пола, доставал походную аптечку, вытирал кровавые сопли, ватным тампоном дезинфицировал ссадины. Перекись водорода жгла, но Лутц только морщился — молча. Лишь однажды он тихо спросил: зачем?
— По-другому ты не понимаешь, — так же тихо ответил отец.
Ещё отец говорил, что любовь — это открытая рана. Это боль, ревность и страх потери. Тяжкая пытка, а вовсе не ласки и нежный шёпот. Но прежде всего — страх. Именно он является сутью жизни.
Страх безжалостно делит всех на волков и овец. Страх запросто может превратить волка в овцу. Превращение из овцы в волка — явление крайне редкое и может классифицироваться как чудо.
2
Зеркало в ванной осталось от Катьки — пожалуй, единственное, что она не смогла вывезти после развода. Огромное, в полстены, оно было намертво вмуровано в кафель. В зеркале отражалось окно с неубедительным рассветом мышиного цвета. Окно в ванной комнате всегда казалось Лутцу разумной архитектурной пикантностью: в детстве, забравшись на подоконник, он учился курить взатяжку: затягивался и выпускал дым в форточку. Отсюда было удобно наблюдать за весёлыми ткачихами — во дворе стоял кирпичный барак общаги фабрики; занавески девицы не задёргивали, и вся интимная сторона женского бытия разыгрывалась сразу на нескольких миниатюрных сценах, увы, в форме пантомимы.
С унитаза открывался вид на маковки Варвариного монастыря — в час заката кресты так и вспыхивали раскалённой ртутью. Если ты лежал в ванне, то церковных куполов видно уже не было, но зато открывался вид на небо. Пустое и бездонное или с невинными облаками, или с мохнатыми тучами, но чаще всё-таки синеватых тонов: в юности так просто было подрисовать к такому небу какой-нибудь неведомый Париж или сказочную Барселону, а может, даже почти невозможный Сантьяго. Или архипелаг тропических островов с кокосовыми пальмами, гавайскими напевами пополам с прибойной волной и резвыми чайками. Чайки в окне, увы, не появлялись. Изредка там мелькали вороны. Они жили в старых монастырских липах и вечерами мрачной стаей кружили над Девичьим кладбищем.
Привычная знакомость ванной немного успокоила Лутца. Грязноватый кафель, голубоватые потёки зубной пасты на раковине, дырка в плитке, где когда-то висел крючок. От дырки расходилась трещина в виде буквы Ж.
Страх контролирует тебя, или ты контролируешь страх. Лутц сжал кулаки, его мутило, как перед дракой. Он шумно вдохнул, сделал шаг и повернулся к зеркалу.
3
Когда позвонили в дверь, Лутц всё ещё сидел на полу ванной комнаты. Он вздрогнул и замер. Позвонили ещё раз. Звонок был по-хамски долгий. Так звонят менты и водопроводчики. Лутц на ходу натянул махровый халат, на цыпочках подошёл к двери. Звонок прогремел снова.
— Кто там? — голос получился испуганным.
— Лутц тут проживает? — мужской голос грубо отозвался с лестничной клетки. — Олег Дмитриевич?
— Нет… Вернее, да. Но он в отъезде…
— В каком ещё отъезде?
— По личным… по семейным… В Караганде, — Лутц ляпнул первое, что пришло в голову.
— В какой, к херам, Караганде?
Лутц растерялся: о Караганде он не знал ничего.
— Открывайте немедленно! Со мной участковый, мы можем применить меры…
За дверью к первому голосу добавился второй, что-то буркнул матерной скороговоркой. Лутц вытер вспотевшие ладони о халат, клацнул замком и, не снимая цепочки, приоткрыл дверь.
Двое: мент с хугровским шевроном и военный офицер. Военный — капитан — был в пехотной полевой форме с маскировочным узором болотной расцветки. На багровом лице сидели кокетливые очки в золотой оправе — тонкой и явно женской. Мясистой пятерней капитан прижимал к груди папку школьного фасона из рыжей клеёнки.
— Вы жена? — спросил военный почти вежливо.
Из подъезда тянуло сырой плесенью и прокисшими окурками.
— Сестра… — выдавил Лутц.
Военный рассеянно поправил очки указательным пальцем.
— Тоже сойдёт, бля, — мент дохнул перегаром, — нам-то хули… Пусть, вона, подпишет. Сестра-то родная?
Лутц смиренно кивнул.
— Ну если родная… — Пехотный капитан просунул листок и ручку. — Там галочку я поставил… Там, посерёдке…
Лутц взял замызганный лист писчей бумаги с отпечатанными фамилиями. Нашёл свою. Накарябал рядом какую-то загогулину.
— Вы теперь уведомлены, — военный спрятал лист в папку, — и несёте всю полноту ответственности за уклонение и невыполнение в соответствии с законом от пятого августа…
— Каким законом? — проблеял Лутц. — Какое уклонение?
— Вот тут всё написано, — офицер быстро просунул в дверную щель пальцы, сжимавшие серую открытку. — Повестка.
Военный произнёс это слово, а Лутц одновременно прочитал его на картонке. Слово было набрано жирной «гельветикой». Глаз выхватил из текста и слова помельче: «с целью переподготовки». Лутц не успел взять открытку. Вместо этого он совершенно неожиданно для самого себя резко дёрнул дверь. Пальцы капитана тихо хрустнули. Как куриные косточки. Открытка упала на коврик прихожей. Одновременно подъезд взорвался криком. Акустика лестничных пролётов умножила звук, эхо вернулось сверху и снизу — Лутц жил на шестом этаже двенадцатиэтажной башни. Можно было подумать, что в подъезде забивают какое-то крупное и сильное млекопитающее.
4
Лутц захлопнул дверь, стремительно повернул замок. И ещё раз. Клацнул задвижкой. Бессильно сполз по стене на пол. Будут стрелять сквозь дверь, подумал. Сволочи. Озноб, жестокий колотун, тряс тело. С лестничной клетки продолжали доноситься крики, но уже без прежней страсти. Пинали сапогами в дверь, капитан грозил трибуналом, мент невнятно матерился. Однако стрелять не стали.
— Сволочи… — Рукавом халата Лутц вытер пот с лица, дотянулся и взял повестку. Призывной пункт находился по адресу: 2-я Шарикоподшипниковская улица, дом 7, корпус Б. Сложив картонку, порвал пополам, потом ещё раз и ещё. Чтобы унять дрожь, сцепил пальцы замком, сжал до боли. Он помнил тот адрес, помнил и тот дом — здание тюремного типа из фабричного кирпича. В последний год школы их, всех мальчишек класса, привезли туда на медкомиссию. В пустом зале на втором этаже их заставили раздеться догола. Построили в линейку у стены.
В дальнем конце зала стоял длинный стол, по бокам сидели две женщины с одинаково брезгливыми лицами продавщиц из рыбной секции. Между ними возвышался плотный офицер, перепоясанный ремнями портупеи. Перед военным высокой стопкой лежали картонные папки. Офицер брал верхнюю, раскрывал и громким гортанным голосом выкрикивал фамилию. Мальчик подходил. Одна из тёток требовала убрать руки с гениталий, вторая грубо шутила. Военный громко хмыкал. Голому мальчику приказывали встать на цыпочки и вытянуть вверх руки, потом присесть на корточки. В конце он должен был повернуться спиной, наклониться и зачем-то руками раздвинуть ягодицы. Ничего более унизительного Лутц прилюдно не проделывал ни до, ни после.
5
Из спальни донеслось треньканье телефона. Лутц с трудом поднялся, держась за стену, побрёл на звук. Звонили с работы — Бохачек из отдела кадров. Отвечать Лутц не стал. Он вернулся в ванную. Чуть помедлив, снял халат и повернулся к зеркалу.
Он разглядывал отражение. Так — с немым ужасом — рассматривают жертву автокатастрофы или распластанное на асфальте тело бедолаги, выпавшего из окна. Очевидная абсурдность, невозможность впихнуть реальность в мозг, в сознание, не то что понять: как в такое поверить? Что это? Как? Почему?
Шок проходил, на смену безвольному ужасу пришла злость. Девица в зеркале, по-цыгански смуглая, с ладной фигурой цирковой прыгуньи, мускулистая и компактная, с парой крепких грудей и сильными икрами, разглядывала его с откровенной ненавистью. Глаза, карие до черноты, были глазами сумасшедшей. Лутц почти физически ощущал, как наливается жаркой яростью, звериной, буйной и бесконтрольной. Он сжал кулаки и сделал шаг к зеркалу.
— Это моё… — прошипел Лутц. — Убью, сука!
Он резко ударил. Метил в лицо. Зеркало треснуло — звонкая трещина диагональю перечеркнула стекло из угла в угол.
— Убью!
Лутц продолжал бить, он пинал зеркало ногами, локтем сшиб полку над умывальником. Весело на кафель посыпались склянки, щётки и прочая туалетная дребедень. Он бил и выкрикивал ругательства, рычал и снова бил. Бил до изнеможения, боли он уже не чувствовал. По рукам лилась кровь, брызги стекали по стенам, яркими кляксами краснели на полу. Зеркало, всё в трещинах, тоже было заляпано кровью и уже почти ничего не отражало.
Запиликал мобильник, и почти тут же кто-то позвонил в дверь. Лутц застыл. В дверь звонили и стучали кулаком. Телефон наконец заткнулся, но сразу начал трезвонить опять. В дверь уже колотили ногами. Лутц нашёл мобильник в спальне: оба раза звонили с незнакомого номера. Был ещё текст от отца и два пропущенных звонка с работы. С лестничной клетки доносились голоса, потом приехал лифт, кто-то напоследок пнул дверь, и всё стихло.
На антресолях осталась коробка с Катькиным барахлом. Летние вещи, которые она не успела выкинуть. Жирным фломастером на картонке было написано «хлам». Лутц с треском сорвал липкую ленту, вывалил вещи на пол. От тряпок пахнуло кремом для загара и Катькиной парфюмерией.
Брезгливыми пальцами, точно перебирая мусор, Лутц вытягивал из кучи очередную пёструю тряпицу, разглядывал её и отбрасывал в сторону. К цветастым сарафанам и гавайским платьям на бретельках он явно был не готов морально. Выбор остановил на бриджах цвета хаки, который Катька называла почему-то «сафари», и на линялой джинсовой рубашке свободного покроя с медными пуговицами и парой карманов на груди. Розовые полукеды пришлись почти впору.
6
Солнце садилось, и двор наполнялся сумраком. Пахло концом лета, жухлым тополиным листом, тёплой городской пылью. На кирпичной стене общежития белела недавно замазанная надпись. Асфальт был заляпан белилами. Надпись появлялась каждую неделю, и каждую неделю её снова закрашивали. Лутц придержал железную дверь, выскользнул из подъезда. Посередине двора, заехав передними колёсами на вытоптанную клумбу, стоял служебный автобус с зашторенными окнами и серой полосой вдоль борта.
На убогой детской площадке — ржавый остов качелей, песочница, фонарный столб — лениво возились солдаты. Из железных трубок и палок они уже собрали каркас то ли шатра, то ли большой палатки. Посередине, прямо в песочнице, стоял узкий колченогий стол, накрытый кумачовой тряпкой.
Дверь третьего подъезда распахнулась, оттуда появилась непомерно длинноногая девица на шпильках и в куцем платье, антрацитовом со змеиной блёсткой. Девица в нерешительности остановилась, потом вдруг согнулась — будто сломалась пополам. Её громко вырвало жидкой гадостью, тёмной, коричневой, похожей на старую кровь.
Окна второго этажа над подъездом были настежь распахнуты — все три. Комнаты налились густой чернотой, там угадывалось смутное безмолвное движение, какая-то глухая возня. Через арку во двор вкатила чёрная «Чайка», из неё выкарабкался крупный полковник с аксельбантами, следом вылез поп в рясе. Полковник вытер лицо рукой и закурил, поп раскрыл багажник, вытащил оттуда шляпную коробку. Девица, пошатываясь, наблюдала за приехавшими. Поп достал из коробки предмет, похожий на золотое ведро. Аккуратно надел ведро на голову.
Дверь подъезда раскрылась. Из чернильной темноты выплыла крышка гроба. Её на вытянутых руках нёс над головой сухой мужичок в мятом костюме. Лутц узнал местного электрика — то ли Лёню, то ли Лёшу. Девица неуверенно посторонилась, пропуская монтёра. Потом согнулась, и её снова вырвало.
7
Лутц вышел из арки на проспект. Быстро пошёл в сторону Сухаревки. Прохожих было мало. Дома на той стороне, большие и грязные, со слепыми от пыли окнами, казались необитаемыми. У входа в булочную, прямо на тротуаре, стоял милицейский фургон. Прохожие огибали его, обходили торопливо и не оглядываясь. Соседний магазин электротоваров, закрытый неделю назад, теперь был заколочен листами фанеры. На остановке пара одинаково мелких старух в мышиного цвета дождевиках ждала автобус.
Раздался крик, Лутц обернулся. Из дверей булочной с грохотом вывалилось несколько человек. Рослый парень в белой футболке пытался вырваться, трое ментов висли на нём, один пытался душить сзади. Парня повалили, начали бить ногами. Он по-боксёрски закрывал голову и лицо руками. Старушки осторожно подошли поближе и стали заинтересованно наблюдать за происходящим. Другие прохожие отворачивались и прибавляли шаг. Избиение происходило молча. Теперь парня дубасили резиновыми палками.
Автобус подошёл к остановке, двери открылись. Старушки, суетясь, засеменили к автобусу. Водитель захлопнул дверь прямо перед ними и уехал.
Пиццерия на углу тоже закрылась. Большие окна на первом этаже, где раньше можно было видеть посетителей, официантов и часть кухни с печью, выложенной диким камнем, словно в какой-то средневековой харчевне, — эти витринные окна были теперь закрашены побелкой. На месте вывески — итальянский повар, жонглирующий помидорами, — висел флаг. Флаг болтался и на соседнем здании, и на следующем. Откуда-то долетел церковный перезвон, едва слышно, точно кто-то щедрой рукой рассыпал мелочь. Сквозь весёлое дзиньканье пробрался басовый набат, тяжкий и мрачный, как похоронный колокол. Звук неторопливо плыл над городом. Лутц сбавил шаг, задрал голову, прислушиваясь. «Как пульс, — подумал он, — пульс гигантского зверя».
8
Сказать, что отец Лутца жил на Сретенке, было бы неверно, поскольку он не жил, а умирал. Диагноз поставили в марте, жизни пообещали ещё месяцев шесть. «Плюс-минус», — сказал доктор, роясь в бумагах. Тогда Лутц-старший дал ключ сыну. Не хочу тут лежать и тухнуть, ухмыльнулся.
Дом, ветхий и древний, каким-то чудом уцелел в одном из сретенских закоулков. Перед единственным подъездом кривлялись низкорослые яблоньки. Где-то жарили рыбу. Косая дверь, утратившая форму из-за дюжины слоёв краски — последний был коричневым. Мраморные ступеньки, похожие на пыльные обмылки; липкие, будто потные, перила. Лутц тут вырос и помнил наизусть каждый изгиб дряхлого особняка. Поднявшись на третий этаж, он замер с ключом перед дверью. Потянулся к звонку, но тоже передумал. Негромко постучал.
Пустота внутри квартиры зашуршала, зашаркала, долго и мучительно зашлась в кашле. Наконец дверь открылась. Лутц знал, что отец плох, но тут оказалось что-то другое.
Отец, не взглянув, развернулся и пошаркал в комнату.
Даже не худоба, не папиросная бумажность кожи, не скрюченность бессильного тела — нет, Лутца ошарашило почти физическое присутствие некой беспощадной и угрюмой силы, мощной, как ураган и беззвучной как полёт птицы. Этой гадостью, тяжёлой и липкой, было заполнено всё пространство прихожей до самого потолка.
В комнате оказалось ещё хуже. Сквозь полумрак Лутц узнавал постаревшую мебель, плешивый ковёр на полу, рыжие абажурчики в мушиных крапинках, мёртвые часы в футляре из морёного дуба. В детстве они походили на королевский замок, сейчас напоминали поставленный на попа рыцарский гроб.
Чёрный лак пианино с выводком фарфоровых скользких уродцев, отвратительные кружевные салфетки под хрустальными вазами, обрамлённые фотографии молодых родителей — те даже не походили на настоящих живых людей. Его собственные фотографии в виде ребёнка-школьника, тоже скорее картонный муляж, чем портрет живого мальчика. Вскрытый склеп. Разрытая могила.
— Какая всё-таки нелепость… — пробормотал Лутц.
На круглом столе под пыльной люстрой стояла шкатулка со стеклянной крышкой, внутри лежали ракушки, которые он собирал вместе с матерью на диком пляже под Ялтой. Он пытался вспомнить название рыбацкой деревни на обрывистом берегу. Волны выбросили мёртвого дельфина, вечером море плескалось шёпотом, качало ленивые шлюпки. Мокрые цепи ворчали у пирса, большая луна жутковато таращилась, липла к полированной смоляной воде и катилась, катилась…
Отец невесомо опустился на диван, там из вороха подушек, пледов, и стёганых одеял он свил своё смертное логово. Лутц подошёл, остановился в трёх шагах.
— Ближе, — буркнул отец. — Не заразное… это.
Лутц покорно сделал шаг. Он старался не вдыхать, дышал мелко и опасливо, тёплый воздух казался тяжёлым и шершавым — почти осязаемым. Воздух был наполнен смертью. Отец, откинув голову и страдальчески приоткрыв рот, вдруг стал фрагментом какой-то картины — точно, Эль-Греко: даже чернильный колорит тот же, портрет какого-то мученика или святого. Лутц пытался вспомнить имя, но название ускользало: картина — музей, конечно, Прадо, конечно, Испания — стояла перед глазами, мученик по традиции церковных канонов демонстрировал, держа в руках, инструменты своей пытки. Да, то ли крючья, то ли щипцы для выдирания ногтей, как святой Себастьян на любой картине неумолимо щетинится арбалетными стрелами. Святой Януарий? Лоренцо-мученик?
Отец мрачно разглядывал Лутца.
— Не знаю даже, как объяснить… — начал сын. — Утром, сегодня утром…
Старик замотал головой, будто голос сына причинял ему физическую боль. Тот замолчал. Отец что-то буркнул.
— Что?
Лутц переспросил и тут же осёкся: экран телевизора, что стоял в углу, был разбит вдребезги. Из экрана торчал кухонный молоток, какими хозяйки отбивают свиные котлеты.
— Я всегда знал, что ты… — повторил отец громче.
— Что?
— Ещё в детстве. Думал, сумею сделать из тебя… Перековать. Исправить. Ты же с самого рождения, с самых первых дней…
— Что? Что?
— Это всё твоя мать! Бабьё проклятое! Если б не Елена, не её воркованье… — отец поперхнулся, — её миндальничанье…
Он кашлянул, словно подавился. Пытаясь ртом схватить воздух, вытянул шею. Куриная кожа, белая варёная птица. Отец зашёлся в кашле. Он не мог вдохнуть, раскрывал рот и снова кашлял. Это напоминало пытку.
«Сдохни», — Лутц подумал и тут же испугался, что именно это и произойдёт прямо сейчас. На его глазах умрёт отец. Его отец.
Лутц кинулся на кухню. Сшибая немытую посуду, он открутил кран, наполнил водой кружку. Бегом вернулся в комнату. Держа голову за затылок, пытался напоить отца. Ладонью ощутил холод кожи, тяжесть головы — как мраморный шар, господи, как мёртвый каменный шар.
9
Кашель стих, сошёл на нет — будто до конца раскрутилась пружина механического завода. На улице, совсем рядом, завыла сирена. К ней присоединилась другая — тише, издалека.
— Пожарная?
Лутц встал с колен, подошёл к окну и отодвинул штору.
— Темень… Ничего не видно, — зачем-то прокомментировал он. — Темно.
С улицы донёсся треск. Стреляли из автомата. Потом что-то грохнуло, да так, что пол подпрыгнул.
— На бульварах, — сипло проговорил отец. — У Чистопрудной рвануло.
К автоматным очередям добавилась пистолетная пальба — сухие и несерьёзные выстрелы вроде детских хлопушек. Лутц достал телефон, сигнала не было. Громыхнул ещё взрыв, но слабей и подальше. Сирены теперь выли хором.
— Что с сигналом? — Лутц повернулся. — Где усилитель? Ну, коробка эта?
Отец кивнул в сторону убитого телевизора.
— Где? — Лутц тыкал пальцем в телефон. — Где?
— Выкинул. Вырвал с потрохами и выкинул, — зло прохрипел отец. — К ебеням!
Снаружи, перекрывая сирены и пальбу, кто-то закричал. Низко, страшно и протяжно. Внезапно крик оборвался.
— На столе, — проговорил отец, — в кабинете, на моём столе, лекарства. Там…
Лутц вышел в тёмный коридор, нащупал дверь. Открыл. В сумрачный кабинет пробивался свет уличного фонаря, знакомые предметы угадывались сами. Пахло мастикой, старым деревом, ветхой бумагой — так пахнет в антикварных лавках. К запаху старья примешивался какой-то посторонний и неуместный почти радостный аромат. Что это, зачем, откуда? Будто с мороза принесли свежую новогоднюю ёлку, ещё не размотали бечёвку, ещё на иголках не растаяли снежинки, но праздничный дух уже проник во все комнаты.
Лутц наощупь пробрался к письменному столу. Под ногами хрустело тонкое стекло. Вытащил телефон, включил фонарик. Паркетный пол был усеян пустыми ампулами. Яркий луч вырезал из темноты плоский кусок шкафа с золотыми корешками книг, угол иконы, бронзовый письменный прибор. Луч скользнул ниже — на полу, рядом со столом, стоял гроб. Светлый, из свежих досок, он напоминал лёгкую лодку-плоскодонку. На дне гроба лежали еловые лапы. Лутцу почудилось, что пол вдруг стал зыбким и начал крениться, неумолимо уплывать куда-то вбок.
Вернулся в комнату. Отец лежал, запрокинув голову и выставив острый кадык. Глаза удивлённо пялились в потолок. Лутц остановился в дверях, он боялся подойти ближе — смесь ужаса, растерянности и какого-то мрачного злорадства, почти радости, тошнотворной волной поднималась из желудка. Старик не шевелился. Рука, мёртвая и тощая, цвета сырой побелки, свисала с дивана, тонкими пальцами касаясь ковра. Ворс ковра давно вытерся, а раньше там среди замысловатых узоров и восточных гирлянд, можно было отыскать пару рогатых страшилищ, исполнявших боевой танец.
— Нашёл? — не поворачивая головы, тихо спросил отец.
Лутц беспомощно поднял руку с пустой коробкой.
— Кончились… — удалось выдавить ему. — Пусто.
— Ни одной ампулы?
— Нет.
— Ни одной?
Лутц не ответил. Стрельба на улице утихла, где-то вдали всё ещё выли сирены, но и эти звуки таяли и сливались с утробным гулом города.
— У кинотеатра аптека, в подвальчике, — помнишь? Дежурная. Перешёл через дорогу, и там.
Отец говорил быстро, заискивающе, почти ласково. Никогда так не говорил с ним. Аптека, вроде там неоновая вывеска с крестом, 24 часа. А вот кинотеатр тот закрыли лет двадцать назад. Лутц промолчал.
— Одну упаковку. Одну. Это ж пять минут — туда и обратно.
— Хорошо. Давай рецепт.
— Нет рецепта. Мне Ольга Марковна доставала. По блату.
— По блату? — переспросил Лутц зло, — что это вообще значит: по блату? Ольга Марковна… Это же не аскорбинка, не пилюли от запора! Морфий! Кто мне продаст без рецепта морфий…
— Погоди…
— …Морфий среди ночи! Без рецепта!
— Погоди!
— Звони своей Марковне, Ольге! Звони-звони, я съезжу! По блату!
— Нету её. Под Питером она. За Линией, в Парголово, что-ли.. Продала всё и свалила.
10
Город, как пишут в скверных романах, был настороженно тих. Лутц старался держаться подальше от фонарей. Перебегая через пустынную улицу, он успел заметить, что перекрёсток Сретенки с кольцом перегораживали танки. До Садового было метров семьсот, но Лутц на всякий случай нырнул в тень и застыл, прижавшись к стене дома. Замри, — учил отец, — жертву всегда выдаёт желание бежать.
Небо на северо-западе было тёмно-малиновым, почти рубиновым. Там что-то пульсировало, набухало как нарыв. Такое зарево вставало над городом во время ночных парадов, но все парады проходили весной и осенью, а сейчас был ещё август.
На месте бывшего кинотеатра — Лутцу даже припомнился индийский фильм, душный зал с тесными креслами, жаркая ладошка напрочь безымянной девочки из параллельного класса — давным-давно обосновался супермаркет: сперва австрийский, потом наш. В апреле закрыли и его.
А вот аптека оказалась бессмертной. Железная дверь в стене, кнопка звонка, мутная вывеска подмаргивала выше — в тех же скверных романах такие двери играют роль портала, через который герой попадает в прошлое или будущее. Иллюзии чудесного побега подобного рода у Лутца исчезли ещё в детстве. К водосточной трубе на уровне второго этажа крепилась камера. Лутц поднял голову и придал лицу невинное выражение. Вдавил кнопку звонка. Дверной замок клацнул и дверь приоткрылась.
Крутая лестница вниз была выложена плиточником-мизантропом отменно скользким кафелем. Такой же плиткой — чёрной — сиял пол подвала и все четыре стены. Потолок оставили в покое и побелили. В углу висела ещё одна камера наблюдения. По стенам пестрели рекламные плакаты лекарств для глаз, ушей и других органов, но ощущение пребывания в сортире ресторана средней руки всё равно оставалось. Привычного магазинного прилавка не было. Было окно в стене, забранное решёткой. В амбразуре маячил белый халат и учительские очки.
Лутц согнулся. Он показал пустую коробку из-под морфия. Начал говорить — кротко и печально. Смиренный тон и мягкий голос нравились ему самому, но всё равно Лутца не оставляло чувство, что он всё врёт. И про отца, и про смерть, и про боль.





























