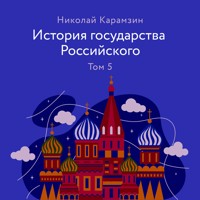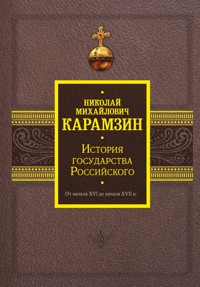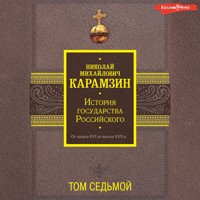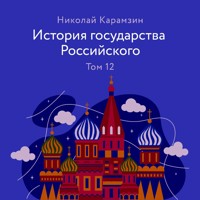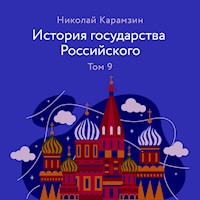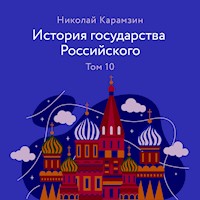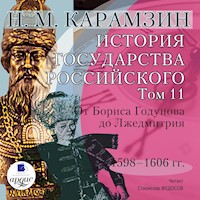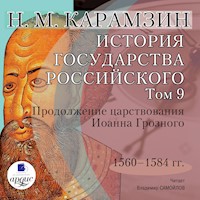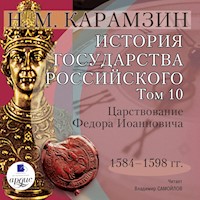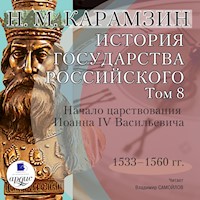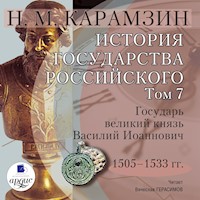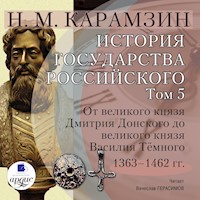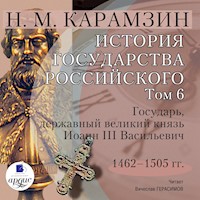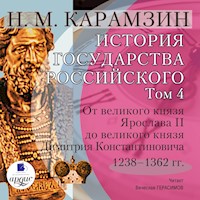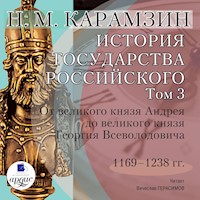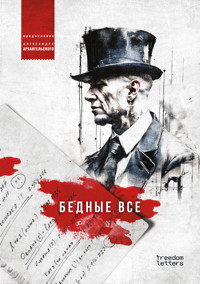
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Russisch
Перед вами — описанный писателем и преподавателем Александром Архангельским один из важнейших эпизодов истории русской литературы: сквозной цикл повестей, поэм и даже одного маленького романа о несправедливом устройстве жизни. В центре сюжетного внимания — драматическая судьба девушки, на худой конец — молодого мужчины с говорящей фамилией Девушкин. Одни авторы винят во всем несовершенство общества. Другие — Империю, которая не оставляет маленькому человеку никаких шансов. Малое будет поглощено большим, слабое сильным. Как судьбы большинства героинь этого стихийно сложившегося цикла поглощены и раздавлены героями, женский мир — мужским, лишь изредка срабатывает закон божественного Случая.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
серия«отцы и дети»
№ 46
Николай КарамзинАлександр ПушкинЕвгений БаратынскийМихаил ЛермонтовГригорий Квитка-ОсновьяненкоТарас Шевченко
Бедные все
Лиза • Черкешенка • Эда • Дуня• Бэла • Оксана • Катерина
ПредисловиеАлександра Архангельского
Freedom LettersЗвенигород2024
Содержание
Александр Архангельский
. Пример тавтологии
Николай Карамзин. Бедная Лиза
Александр Пушкин. Кавказский пленник
Евгений Баратынский. Эда
Александр Пушкин. Станционный смотритель
Михаил Лермонтов. Бэла
Григорий Квитка-Основьяненко. Сердешная Оксана
Тарас Шевченко. Катерина
Пометки
Cover
Оглавление
Пример тавтологии
Поэт первой русской эмиграции Георгий Иванов написал афористические стихи:
Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я,
В холод Парижа, усталый, больной…
«Бедные люди» — пример тавтологии,
Кем это сказано? Может быть, мной.
Так закончился один из важнейших эпизодов истории русской литературы: сквозной цикл повестей, поэм и даже одного маленького романа о несправедливом устройстве жизни. О бедных Лизах, Черкешенках, Эдах, Дунях, Бэлах, Оксанах, Катеринах… В центре сюжетного внимания — драматическая судьба девушки, на худой конец — молодого мужчины с говорящей фамилией Девушкин. Одни писатели винят во всем несовершенство общества. Другие — Империю, которая не оставляет маленькому человеку никаких шансов. Малое будет поглощено большим, слабое сильным. Как судьбы большинства героинь этого стихийно сложившегося цикла поглощены и раздавлены героями, женский мир — мужским, лишь изредка срабатывает закон божественного Случая.
Цикл этот создавался не по плану, авторы ни о чем не договаривались друг с другом, но писали как бы с оглядкой друг на друга. Такое в истории литературы случается. Например, древнегреческий поэт Гомер рассказал о судьбе Одиссея, который победил троянцев и возвращается к жене, на остров Итака. Позже римляне дадут латинское имя Одиссею, станут называть его «Улисс»; в древнем греке Одиссее вдруг проявится римская доблесть. Спустя столетия древнеримский поэт Вергилий сочинит «Энеиду» о троянце Энее, который тоже отправился в странствие, чтобы в итоге открыть Италию и стать основателем Рима. А в конце XVIII века поэт Иван Котляревский написал по-украински свою «Энеиду». Эта пародия на великие античные тексты посвящена Енею, который «був парубок моторный / И хлопець хоть куды козак». Прочитав комическую поэму Котляревского, поневоле начинаешь замечать смешные детали и в древнегреческом, и в древнеримском эпосе. Прошлое меняется под воздействием будущего.
Нечто подобное произошло в России XIX века.
В 1790 году из путешествия в Европу вернулся 24-летний поэт и прозаик Николай Карамзин. Написал объемные «Письма русского путешественника» и сразу после этого — короткую новеллу под названием «Бедная Лиза» (1792). Героиня новеллы живет на границе между деревней и городом, но постоянно пересекает опасную черту, поскольку продает цветы, а в деревне ими не очень поторгуешь. Герой, Эраст, — горожанин и дворянин; он влюбляется в Лизу, соблазняет ее — и предает, женившись на богатой вдове. Откупается от бывшей возлюбленной, послав ей сто рублей: так в русскую литературу входит тема денег. Лиза, в свою очередь, откупается от матери, оставляет ей эти сто рублей, а сама топится в пруду.
«И крестьянки любить умеют» — вот сквозная мысль короткой повести Карамзина, написанной не для того, чтобы разоблачить или прославить Российскую империю, масштабное государственное образование, где просторно политикам и неуютно обычным людям. А для того, чтобы рассказать о частной человеческой судьбе, которая важнее величия. И тем более социального статуса.
Но проходит почти двадцать лет, и Пушкин сочиняет поэму «Кавказский пленник». Он пишет ее с оглядкой на Байрона, но также — и на Карамзина. Повествуя о трагедии Черкешенки, которая влюбляется в русского пленника, помогает ему бежать — и закономерно гибнет, поэт держит в уме историю «Бедной Лизы». Притом что события карамзинской повести разворачивались в «ближнем Подмосковье», офицер Эраст ни на какую окраину империи не уезжает, они с Лизой (в отличие от Пленника и Черкешенки) разделены не национальной принадлежностью и культурной пропиской, а «всего лишь» богатством и бедностью, происхождением и местом в общественной иерархии. И тем не менее! Трагический сюжет «Бедной Лизы» сознательно отыгран в «Кавказском пленнике».
Пушкин накладывает северную фабулу на южные обстоятельства и получает принципиально новый результат. Между его персонажами лежит не сословная пропасть, а пропасть культурная, их разделяет не «классовое происхождение», а место, которое героям отвела Империя. Играя с карамзинским сюжетом, Пушкин как бы затягивает социальный конфликт «Бедной Лизы» в имперскую, милитаризованную зону. Для Эраста отправка на войну — всего лишь ложный повод отказаться от связи с наивной крестьянкой; для героя поэмы, «русского европейца», война на окраине Империи — обманчивая надежда обрести душевную свободу. А для Рассказчика в «Кавказском пленнике» — возможность оказаться «битвы грозной на краю», насладиться «упоением в бою». Только-только попрощавшись с невинно погибшей Черкешенкой, только-только показав, что результат встречи Империи с Окраиной ужасен, поэт вдруг начинает славить силу русского — имперского! — оружия.
…И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
…Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И тут в историю перелицовки карамзинского сюжета вторгается третий автор, добрый пушкинский товарищ Евгений Абрамович Баратынский.
Родился он в 1800-м, в генеральской семье; будучи подростком, вместе с приятелем украл золотую табакерку и пятьсот рублей, за что был исключен из Пажеского корпуса и поражен в правах. Ему был предоставлен единственный шанс исправиться и вернуться в круг дворянских добродетелей — попроситься в солдаты, чем он и воспользовался. Нейшлотский пехотный полк, в котором рядовой Баратынский служил, был расквартирован в Финляндии — и именно здесь поэт сочинил свою первую поэму «Эда» (1826). Он явно оглядывался на «Бедную Лизу» с ее пафосом социального равенства и на «Кавказского пленника» с его имперскими просверками.
Действие поэмы привязано к 1807–1808 годам; в это время назревала — и в 1808 году началась — Русско-шведская война, в результате которой Финляндия была включена в состав Империи. В большую историческую рамку вписана маленькая судьба юной финки Эды, которая дружески сближается с русским офицером, чей полк расквартирован среди финских скал. Она доверчиво беседует с Гусаром, приносит ему цветы (как Лиза Эрасту). Гусар уверяет ее, что Эда похожа на его сестру, по которой он так тоскует. И — холодно, расчетливо умоляет Эду о невинном поцелуе. Не потому, что жарко влюблен: сердечный холод человека Империи сильнее любовного огня жительницы Севера. А просто потому, что скучает, как Пленник. И непостоянен, как Эраст.
А «добренькая Эда», как когда-то бедная Лиза, не в состоянии понять, чем чревата влюбленность в человека из другого сословия. И, как Черкешенка, не сознает, что романтический союз офицера на службе Империи — и представительницы малой, поглощаемой Империей страны, немыслим. «…Но чаще, чаще он скучал / Ее любовию тоскливой…» Уговорив Эду прийти к нему ночью и вступив с ней в «преступную связь», Гусар покинет Финляндию; повод снова — военный.
…Буйный Швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с Русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья, —
Война, война! Грядущий день —
День рокового разлученья.
У Карамзина война была всего лишь поводом для расставания Эраста с Лизой, у Пушкина — стала источником кровожадного вдохновения. Для Баратынского, который отлично помнит оба текста, и карамзинский, и пушкинский, война в одно и то же время — внешний повод и глубинная проблема. Она, во-первых, дает русскому офицеру лукавое право как бы не по своей вине и воле разорвать наскучившую любовную связь с финкой. Во-вторых, несет в себе страшноватую милитаристскую красоту. А главное — дает шанс прославить и мощь Империи, и силу «малого» сопротивления. Силу «малого сопротивления» — и мощь Империи. Пушкин боготворит ермоловские военные экспедиции, Баратынский восхваляет грандиозную битву за Ботнический залив, которая вошла в русскую имперскую историю, и в то же время он восхищен героизмом финнов и шведов.
Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И все напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
Баратынский и согласен с Пушкиным, и возражает ему; он ведет свою собственную линию внутри многофигурного узора, созданного коллективными усилиями русских писателей… Началось, напомним, прогрессивной надеждой Карамзина на преодоление сословных и имущественных перегородок; продолжилось реакционным восторгом Пушкина перед «двуглавым орлом» Империи. И перетекло в русло, намеченное Баратынским.
Казалось бы, круг замкнулся. Все вариации сюжета исчерпаны. Карамзин породил Пушкина и Баратынского, они, в свою очередь, вдохнули в его замысел новое содержание. Но Пушкин решил возразить на возражения и уточнить свою позицию. И литературную, и политическую. В 1833-м, создавая поэму «Медный всадник», он вспомнил «Эду» и созданное Баратынским финальное описание могилы несчастной финской девушки:
Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.
(«Эда»)
Вспомнил — и демонстративно повторил в описании могилы бедного Евгения, чей труп, найденный после наводнения, похоронили «ради Бога», то есть бесплатно, «Христа ради».
Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.
(«Медный всадник»)
Евгений — не крестьянин, а дворянин, он не «финский рыболов, печальный пасынок природы», а представитель древнего рода, чье прозвание «мелькало» у Карамзина в его «Истории». И в то же время он тоже самая настоящая жертва Империи, созданной Петром Великим. Империи, которую Пушкин обожает и холодный ужас которой в 1830-е годы все острее чувствует. Не война уничтожает Парашу, возлюбленную Евгения, не равнодушие губит его. Тем более не война разрушает надежду на счастье. Но мощь империи, без которой все эти войны невозможны и бессмысленны.
Когда Карамзин работал над «Бедной Лизой», он не предполагал, что вскоре с головой уйдет в создание «Истории государства Российского». Тем более не мог предвидеть, что вскользь упомянутая им война займет в сюжетных поисках его последователей такое грандиозное место. Но — случилось именно так. Пушкин разбудил Баратынского; Баратынский связал судьбу своих героев с имперской рамкой, а Пушкин вернулся к спору и ответил Евгению Абрамовичу. Но по пути к своему великому и безысходному «Медному всаднику», за два года до него, он написал еще одну вариацию на тему «Бедной Лизы» — историю бедного смотрителя и его не вполне бедной «блудной дочери» Дуни.
«Станционный смотритель» (1830) — самая сложная, самая печальная и самая глубокая новелла из цикла «повестей Белкина». Никакой колониальной проблематики, никакой войны, никакого государства Российского здесь (на проявленном уровне) нет. Но и никакой игривости, как в «Барышне-крестьянке», тоже вписанной в карамзинский круг ассоциаций. Пушкин, в 1821 году развернувший карамзинский сюжет в колониальную сторону, как будто пытается вернуть его к простой основе: любовь, деньги, несправедливость, деление людей по классам и сословиям. По крайней мере, так кажется при поверхностном чтении.
Рассказчик, интонационно близкий самому Пушкину, без конца странствует по России. Он знакомится со станционным смотрителем Самсоном Выриным; тот, как положено человеку его униженного звания, отвечает за выдачу лошадей на станции. Самсон бедный, бесправный чиновник низшего, 14 класса, и никогда не поднимется по социальной лестнице. Его бедный домик держится на юной дочери Дуне, прекрасной собою. Заезжий гусар (Минский), пораженный ее красотой, инсценирует болезнь и в конце концов увозит Дуню в столицу.
Поездка Вырина за «бедной Дуней» не дает результата. Сначала гусар пытается от него откупиться (как бы повторяя жест Эраста из «Бедной Лизы»). Затем — когда «одетая со всею роскошью моды» Дуня при виде внезапно явившегося отца падает в обморок — Минский прогоняет Самсона взашей. Оставшись один, смотритель не может принять свою судьбу и спивается до смерти. Он не допускает мысль о том, что чудеса иногда случаются, и Дуня совсем не бедная, и судьбу карамзинской Лизы она не повторит. В финале, когда Вырина уже нет на белом свете, на станцию приезжает Дуня в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и кормилицей, чтобы поплакать на его могилке...
На все происходящее с ним (и с Дуней) Самсон смотрит сквозь сюжет евангельской притчи о блудном сыне. И сквозь свой невеселый опыт жизни в обществе, где почти невероятна справедливость. Если блудный сын уходит из дома, значит, бегство Дуни неизбежно. Если он проматывает состояние, значит, и Дуню должно ждать нечто подобное. И неважно, что заезжий гусар Минский оказался для его дочери отнюдь не «ложным» другом, что она богата, свободна и имеет даже некую власть над любовником, а Минский обещает ему: «…она будет счастлива, даю тебе честное слово» — и в конце концов слово держит.
Вырин повторяет реплику матери «бедной Лизы»: «Ты еще не знаешь, как злые люди могут обидеть бедную девушку». И ждет, когда же Дунина жизнь превратится в катастрофу. «Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицы вместе с голью кабацкою». Ждет, ибо только после полного жизненного краха состоится покаянное возвращение «блудной дочери». И, как бы предчувствуя, что не дождется этого, Самсон Вырин желает смерти любимой Дуне…
Однако повесть о станционном смотрителе действительно самая сложная во всем цикле. Во-первых, Вырин по-своему прав, подобные «романические» истории с увозами чаще всего завершались катастрофой. Во-вторых, Дуню в конце повести называет «барыней» крестьянский мальчик; откуда мальчику знать, стала ли Дуня женой Минского или осталась содержанкой, пусть и богатой? Для него что жена, что ухоженная любовница — одно и то же, «барыня». В-третьих, смотритель предстает жертвой имперски устроенного общества; его «формула» выведена из опыта жизни в бюрократической империи, разделенной чинами и званиями.
Так в пушкинскую версию карамзинского сюжета внезапно снова втягивается государство и показывает свой холодноватый лик Империя. Пушкин не переходит на антиимперские позиции, через год после «Смотрителя» ему предстоит написать оду «Клеветникам России», вновь прославляющую силу русского оружия и передел стран и народов. Но бюрократическое хладнокровие великого и равнодушного государства проявлено в «Смотрителе» в полной мере. И это не могло произойти без опыта чтения «Эды», тем более «Бедной Лизы».
Как не было бы повести Михаила Лермонтова «Бэла», вошедшей в роман «Герой нашего времени» (1837–1839) без всех этих текстов. Рассказчик в «Бэле» наивный, штабс-капитан Максим Максимыч, так что ни обличения социального миропорядка, ни размышлений о трагическом устройстве Империи тут нет и быть не может. Про социальное и так понятно; Бэла — дочь местного князя, в доме отца она ни в чем не нуждалась, Печорин не может выступить в роли Эраста, покупающего «непродажные цветы» за двадцатикратную цену. Но что касается шпилек по адресу имперского насилия, то Максим Максимыч сам — воплощенное орудие империи. Просто он хороший человек, ограниченный с точки зрения личного кругозора и безграничный с точки зрения гуманности; он мало что понимает в происходящем, но много что переживает.
История Бэлы, показанная глазами штабс-капитана, — все равно что история Эраста, увиденная исключительно глазами матери Лизы; там, где карамзинский рассказчик найдет комплекс причин, у нее было бы однозначное решение — поигрался и бросил, наскучила, всем им нужно одно. А там, где сам Печорин сознает неразрешимое противоречие, Максим Максимыч находит лишь развращенность нравов. А на самом деле сюжет, заданный Карамзиным, вытолкнутый Пушкиным и Баратынским в имперское пространство и (вопреки всем пушкинским усилиям) так и не вернувшийся в социальность, окончательно становится трагической историей об офицере Империи, покоренной им девушке и безысходности любви.
Точно так же нет никаких сомнений, что харьковский драматург и прозаик Григорий Квитка-Основьяненко (1778–1843) внимательно читал карамзинскую новеллу. Следы этого чтения остались в его тексте не только на уровне сюжетных коллизий, но и на уровне имен: «Была вдова — оставим при них собственные имена, хотя трудные для произнесения взлелеянному французскими словами выговору; — но такие же люди, подобные Эрастам, Адольфам, Луизам, Эвелинам, носили их, пусть заинтересуют хотя странностью своею: — была Векла Ведмедиха». Вчитывался он и в пушкинскую поэму, и в стихотворную повесть Баратынского, и тем более в «Станционного смотрителя». Но Квитка неслучайно постарался «утянуть» свою повесть в другую литературную и языковую среду; его предшественники спорят об имперских проблемах извне, с русских позиций — неважно, «за» они или «против». А Основьяненко — изнутри. По общей канве он вышивал свой собственный сюжетный узор. В том числе узор национальный.
Нужно помнить, что Квитка был, по сути, создателем профессиональной украиноязычной прозы. В 1834 году вышел в свет первый сборник «Малороссийских повестей, рассказываемых Грыцьком Основьяненком». Рассказываемых — впервые в истории столичного книгопечатания — по-украински. И утверждающих ту стилистику и тех героев, которых представил публике молодой Гоголь. Но представил по-русски, с приятным украинским акцентом. А здесь и проблематика, и сюжетика, и язык — все связано именно с Украиной.
Автору в момент выхода «Малороссийских повестей» было за пятьдесят лет, что по меркам XIX века если еще не старость, то уже глубокая зрелость. И понятно, почему он так припозднился: чтобы заговорить по-украински с читающей публикой, требовался и дар, и независимость, и смелость. Но также и накопленный опыт. Прежде чем решиться писать и печататься по-украински, Квитка-Основьяненко исправно писал на русском и, казалось бы, неплохо себя чувствовал. Но ощущение, что он жертвует своими главными возможностями, его не покидало. И в конце концов он решился.
Главной, опорной его вещью станет «Сердешная Оксана», сочиненная по-украински в 1840-м, а затем переведенная автором на русский. Здесь напряженный диалог и скрытый спор с русскими предшественниками очевидны, начиная с названия. «Сердешная Оксана» значит «несчастная», бедная. Как Лиза. Главной героине пятнадцать лет, она предельно наивна. Мать — добрая вдова, как мать Лизы. И тоже не готова принимать деньги как цену жизни. Но — в отличие от Лизиной матери — она вполне самостоятельна, способна без мужа платить подушную подать (налог) и не отправляет дочь продавать цветы в опасный город.
Увы! Прячься, не прячься от мужчин, они сами заявятся в малороссийское село, как заявляется в Лизину деревню Эраст, а в Финляндию Эды — русский офицер. Так на жизненном горизонте Оксаны появляется москаль (москалями тогда называли русских офицеров в Украине), капитан с отрядом солдат. Поначалу все идет хорошо, социальные мотивы придавлены, имперские приглушены, а пушкинскому радостному милитаризму попросту не остается места. Оксана восхищена капитаном, тем более что мечтает выйти за «барина»: «Смотрела с девками на москалей. Как они славно выкидывают муштру, точно, как один человек. Это все учит их старший. Говорят, что и из всей команды нет старше его. Да какой он, мамочка, разумный! Да как его все слушают!»
Но внимательный читатель заранее начинает ощущать, что ему неспроста рассказывают историю, в которой появляется москаль, как черт из табакерки; социальное в этой истории будет глубинным образом связано с имперским и наоборот. Оксана и похожа, и непохожа на Лизу с ее чистой любовью; она более прагматична, но и более наивна. Точно так же она похожа и непохожа на «Эду»; непохожа — и похожа на «бедную Дуню» и «бедную Бэлу». И кончается все совсем нехорошо — гораздо хуже, чем в «Кавказском пленнике», «Лизе», «Медном всаднике» и «Эде». Хотя, казалось бы, что может быть хуже смерти? Но Пленник, Эраст и Офицер в «Эде» не берут своих девушек обманом и силой; а москаль Оксану берет, и мы видим, как она роет могилу своему младенцу.
Вчитывать ли в это намек на то, как «империя москалей» обращается с Украиной? И да, и нет. Да, потому что образ русского европейца и русского офицера, безжалостно берущих от «окраины» все, давно уже заявлен и прописан. Нет, потому что смысловые акценты у Квитка расставлены иначе, и то, что Оксану обижает именно «москаль», в данном случае не имеет символического значения. Да и сюжетно все смягчено до предела: Оксана опомнилась, ребенок жив, Петро принимает ее с «дитем»… Поэтому автор «Оксаны» лукавит, когда 23 октября 1840 года пишет в письме великому украинскому художнику и поэту Тарасу Шевченко о своих впечатлениях от шевченковской поэмы «Катерина»: «А что „Катерина“, да да, что Катерина! Хорошо, батенька, хорошо! Больше не умею сказать. Вот так-то москалики-военные обманывают наших девчаток. Описал и я „Сердешную Оксану“ точнехонько как и Ваша „Катерина“. <…> Так-то мы одно думали про бедных девчаток и бузовировых москалей».
Но зато поэма «Катерина» (1838–1839; опубликована в «Кобзаре», 1840), посвященная Жуковскому, все эти подтексты действительно содержит — и автор обращает на них демонстративное внимание. Шевченковская Катерина встречается не просто с офицером, но офицером — русским; она не просто кончает с собой и топится, как Лиза, но бросает вызов богу и судьбе, допустившим Империю; несправедливость правит миром, но с точки зрения Шевченко, к украинцам она особенно несправедлива. Что и понятно. Биография Тараса Григорьевича Шевченко сложилась таким образом, что и формула «крестьянки любить умеют», и давление Империи не были для него абстракцией, но стали частью его личного опыта.
Родившийся в крепостной семье, он лишь благодаря невероятным дарованиям и счастливому стечению обстоятельств получит сначала образование, а затем и личную свободу: в 1838 году в Петербургской академии художеств пройдет аукцион, на котором будет продан портрет Жуковского, и на эти деньги Тараса Григорьевича выкупят из крепостных. А затем он столкнется с разнообразными испытаниями — именно как носитель украинского национального самосознания. В 1847-м будет разгромлено Кирилло-Мефодиевское общество в Киеве, Шевченко арестуют, отправят рядовым в армию, и один из пунктов обвинения — «сочинял стихи на малороссийском языке… выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины» и даже ставил дерзкий вопрос «о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства». Наказание было вполне имперским — рядовому Шевченко запретили рисовать и писать, и прошли годы, прежде чем запрет фактически (затем и юридически) был отменен.
Разумеется, работая над «Катериной», он такого поворота предвидеть не мог. Тем не менее, открывая поэму словами о москалях, которым «чернобровые» не должны доверяться, Шевченко пошел гораздо дальше в переработке карамзинского сюжета, чем Квитка-Основьяненко. И куда радикальнее сблизил обе традиции литературной игры с текстом Карамзина, социальную и имперскую:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Собственно, «Катерина» окончательно соединяет все эти мотивы, обручает «Бедную Лизу» и «Эду», «Станционного смотрителя» и «Оксану». Пока нет справедливости и есть имперское равнодушие к судьбам, невозможно счастье, любовь терпит поражение.
Любовь не только между Лизой и Эрастом, Пленником и Черкешенкой, Оксаной и Капитаном, Катериной и Офицером. Но и любовь между родителями и детьми. Мать любит Лизу, но это не спасает бедную героиню от гибели; Пушкин вскользь, впроброс показал в «Кавказском пленнике» отца и брата Черкешенки; Баратынский ввел в «карамзинский» сюжет образ отца Эды; «станционный смотритель» желает блудной дочери смерти; отец Катерины фактически проклинает ее.
Особенно показателен образ отца у Баратынского:
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил…
…Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,
Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Этот мотив отцовского предательства подхвачен будет и Шевченко. Отец не может спасти дочь, не хочет разделить ее муку, поддержать хотя бы словом; он ее осуждает и фактически проклинает. На нем лежит большая доля ответственности за несчастный финал ее судьбы. Но еще большая вина — на царящей несправедливости и величественном равнодушии Империи.
Что с предельной отчетливостью будет показано у Достоевского в маленьком романе «Бедные люди» (1845; через пять лет после публикации «Катерины»). Заданный Карамзиным сюжет предполагал, что главный персонаж всегда будет девушка, женщина, — теперь герой мужчина, но фамилию он носит говорящую, Девушкин. Судьбой Макара правит общая несправедливость жизни, а его обреченность порождена и усилена фоном имперской столицы. Московский сюжет Карамзина проходит через отдаленные точки (Кавказ, Финляндия, Украина), ненадолго заглядывает в Петербург «Медного всадника», пытается перенестись в пространство, которое в XIX веке называли Малороссия, и с неизбежностью укореняется в столице Империи.
Александр Архангельский
Николай КарамзинБедная Лиза
Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом.
На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.
Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.
Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!
Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.
Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, — чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.
«Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки».
Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».
Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. «Продаю», — отвечала она. «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более заскраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку: «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.
Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.
На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали.
Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердца своем.
На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.
«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно.