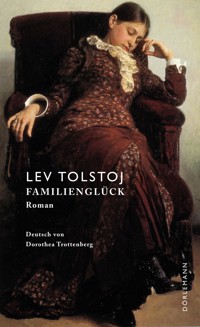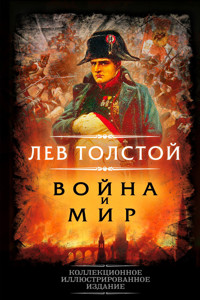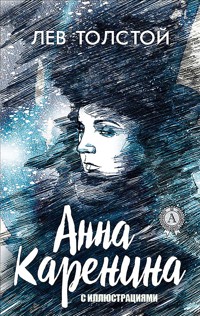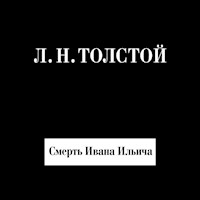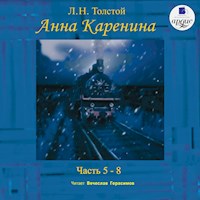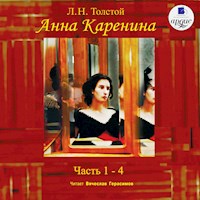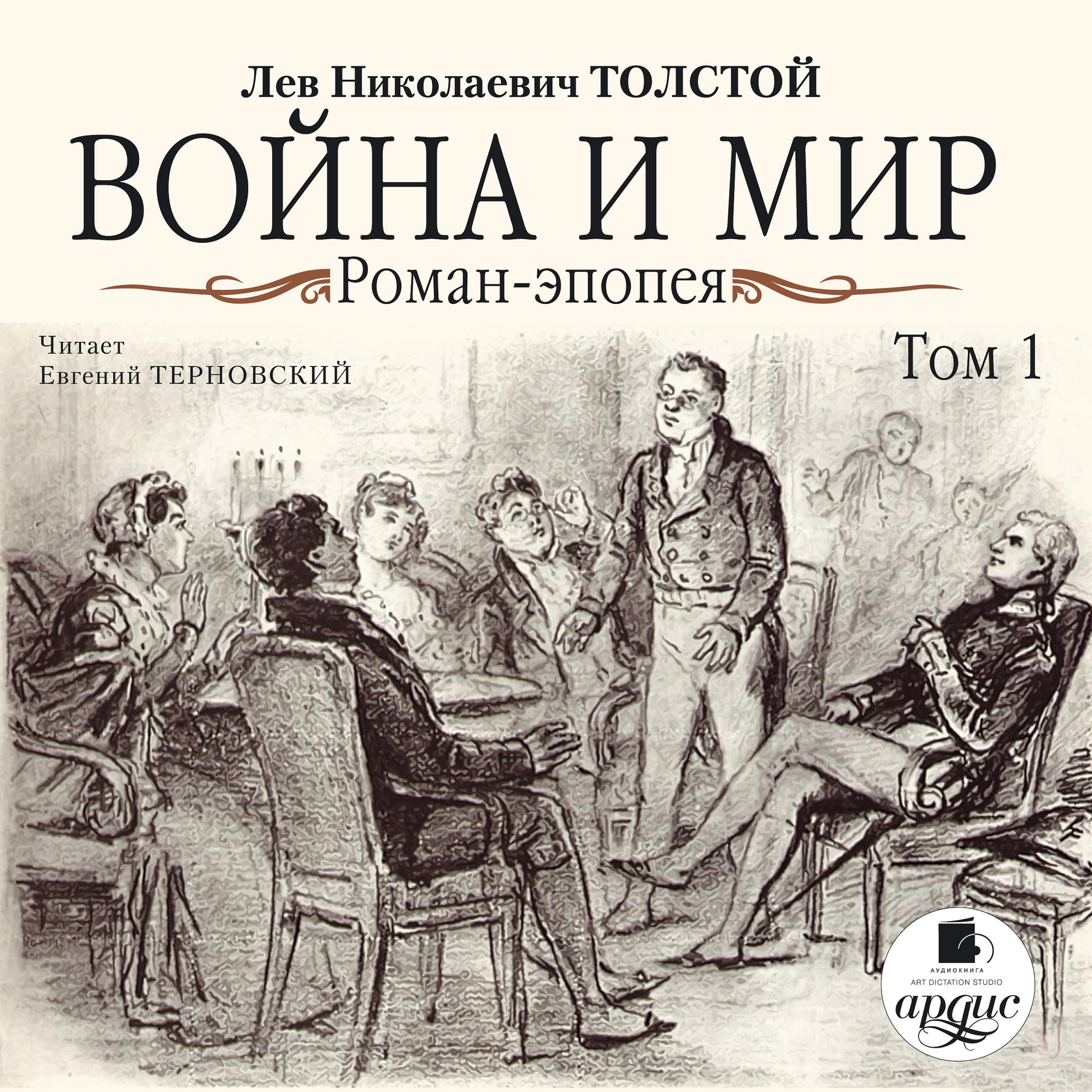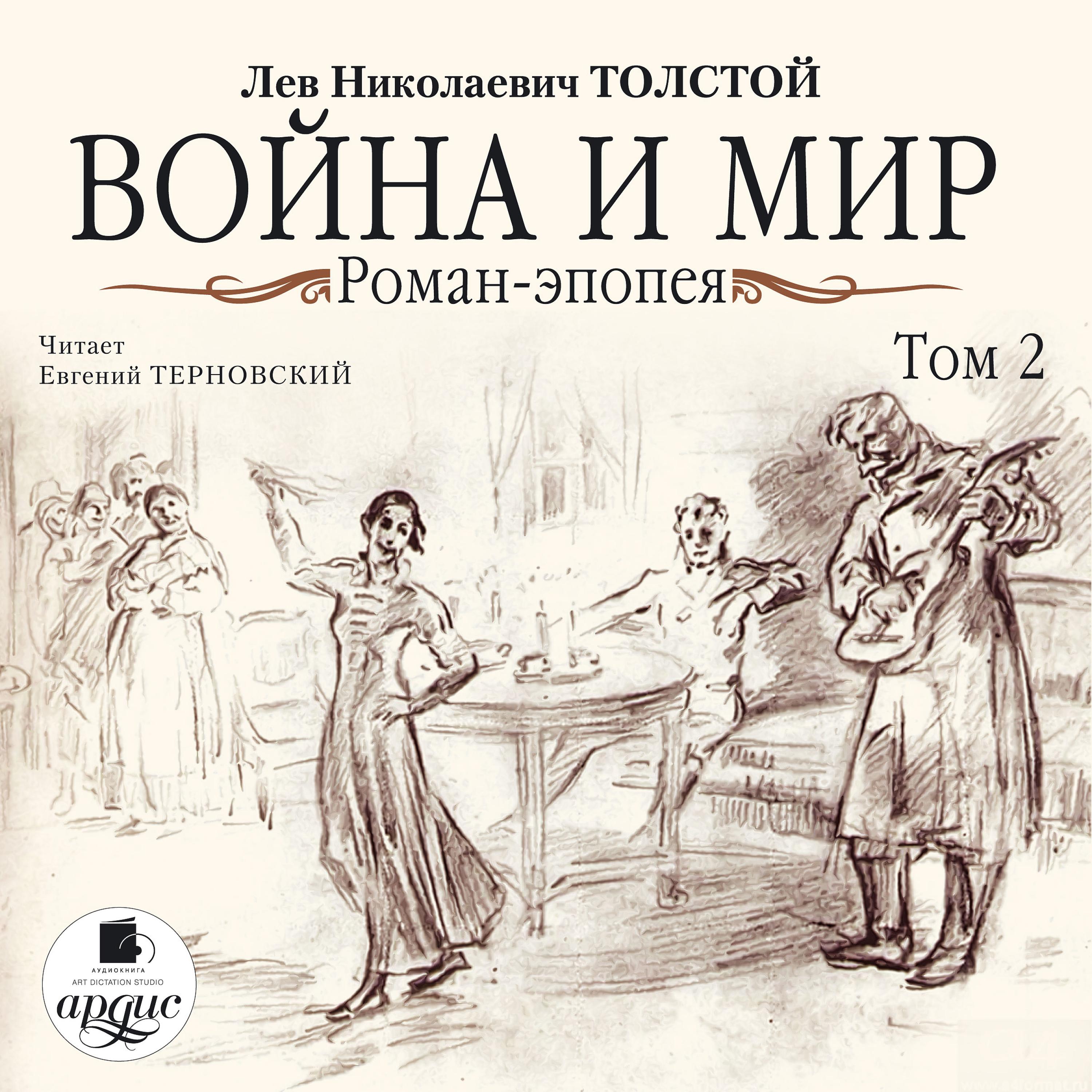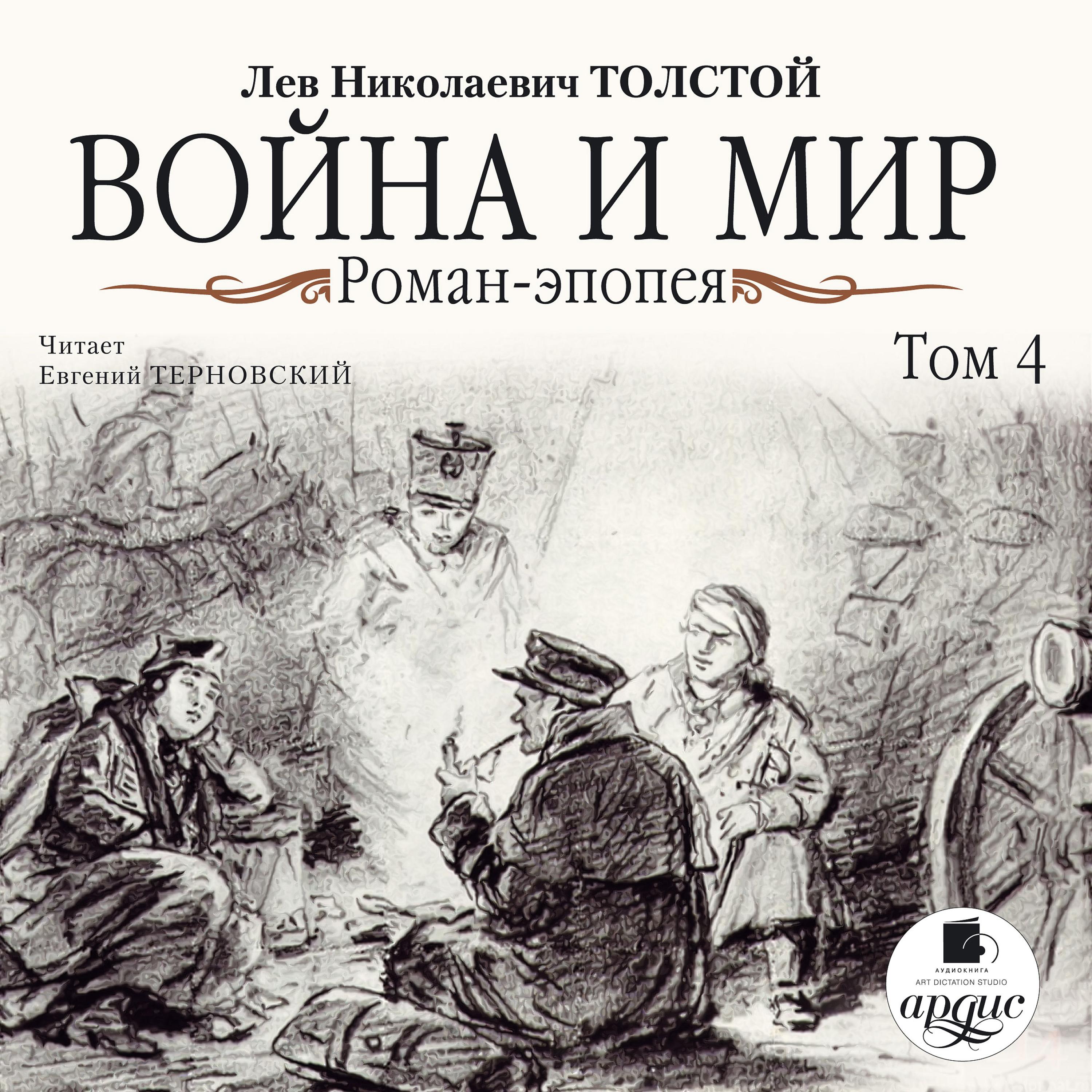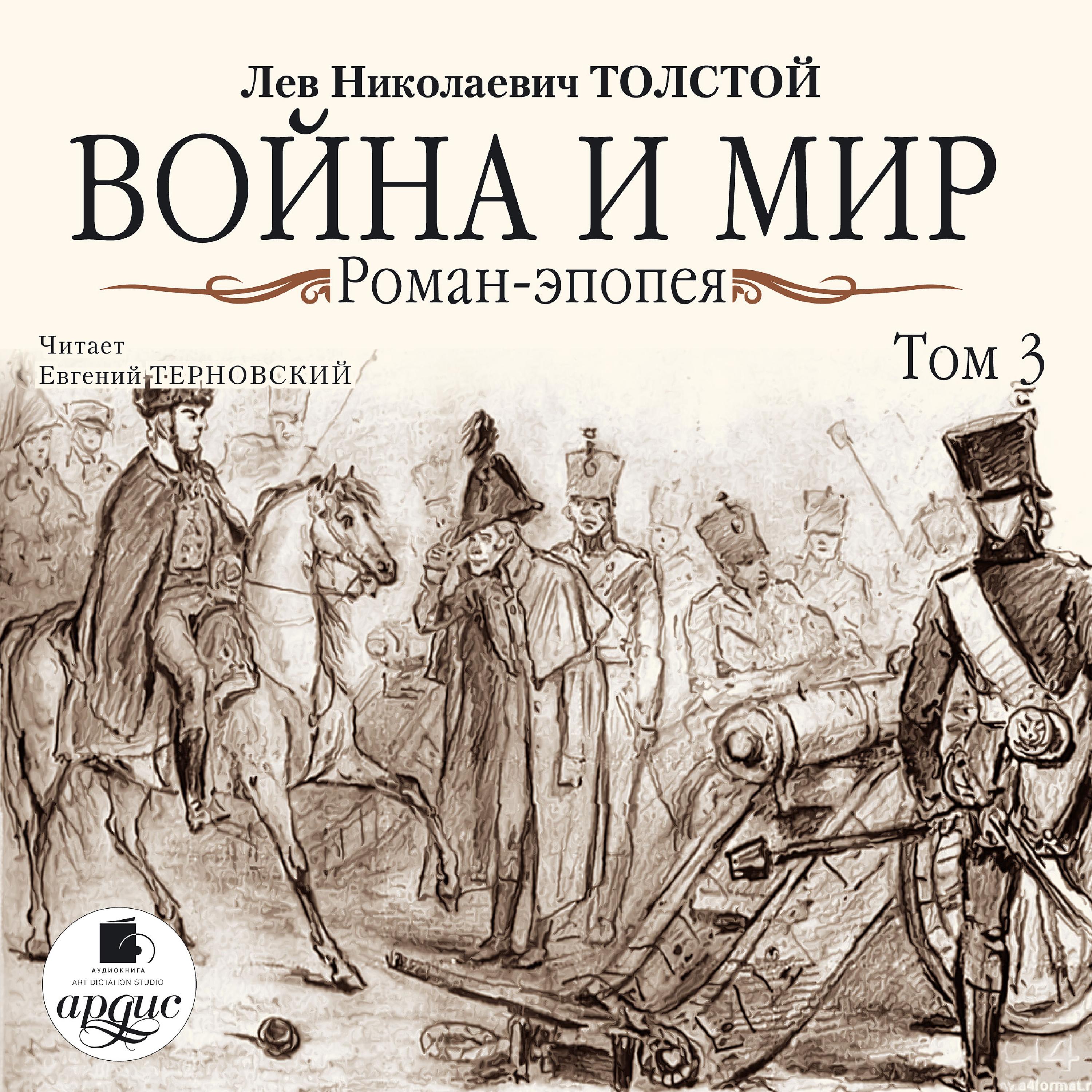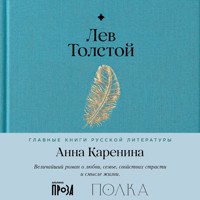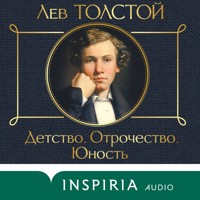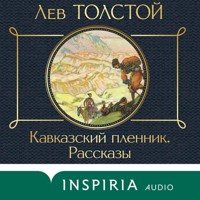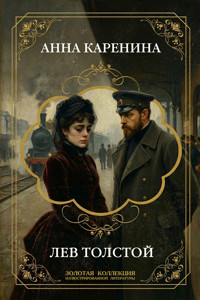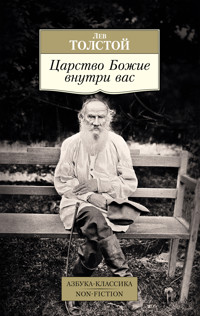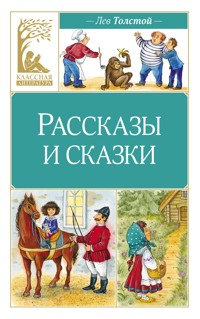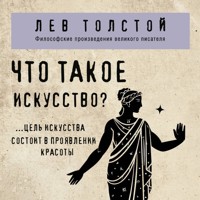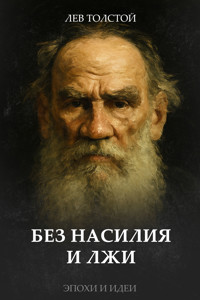
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XSPO
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Эпохи и идеи
- Sprache: Russisch
Лев Толстой — не только создатель «Войны и мира» и «Анны Карениной», но и один из самых радикальных критиков государства, церкви и войны в истории русской мысли. В настоящий сборник вошли публицистические произведения позднего Толстого (1868-1910), в которых он с предельной откровенностью высказывает свои взгляды на природу власти, патриотизма, насилия и социальной справедливости. Здесь страстные антивоенные статьи времен русско-японской войны, переписка с Махатмой Ганди, размышления о русской революции 1905 года, критика социализма и церкви. За эти тексты Толстой был отлучен от церкви, находился под надзором полиции, но продолжал говорить то, что считал истиной. Его идеи о ненасильственном сопротивлении повлияли на освободительные движения XX века от Индии до США.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Автор: Лев Толстой
Серия: Эпохи и идеи
Издательство: XSPO
Аннотация
Лев Толстой — не только создатель «Войны и мира» и «Анны Карениной», но и один из самых радикальных критиков государства, церкви и войны в истории русской мысли. В настоящий сборник вошли публицистические произведения позднего Толстого (1868-1910), в которых он с предельной откровенностью высказывает свои взгляды на природу власти, патриотизма, насилия и социальной справедливости. Здесь страстные антивоенные статьи времен русско-японской войны, переписка с Махатмой Ганди, размышления о русской революции 1905 года, критика социализма и церкви. За эти тексты Толстой был отлучен от церкви, находился под надзором полиции, но продолжал говорить то, что считал истиной. Его идеи о ненасильственном сопротивлении повлияли на освободительные движения XX века от Индии до США.
Без насилия и лжи
Лев Толстой о власти, церкви и совести
Введение
Публицистическое наследие Льва Николаевича Толстого представляет собой один из самых масштабных опытов нравственного бунта в истории русской и мировой мысли. Произведения, собранные в настоящем издании, созданы человеком, который не побоялся поставить под сомнение основы современного ему общественного устройства — государство, церковь, право, армию, собственность. В этих текстах перед нами не академический философ, рассуждающий отвлеченно о высоких материях, но живой человек, остро чувствующий боль мира и берущий на себя ответственность сказать то, что думает, невзирая на последствия.
Духовный переворот, пережитый Толстым на рубеже 1870-1880-х годов, не был внезапным озарением. Это был результат долгого внутреннего процесса, корни которого уходят в ранние годы его жизни. Уже в молодости Толстой отличался склонностью к самоанализу и нравственному максимализму, что отразилось в его дневниках 1840-1850-х годов. Участие в Крымской войне 1853-1856 годов дало ему первый горький опыт познания военной действительности, который много позже выльется в страстную антивоенную публицистику. Педагогическая деятельность в Яснополянской школе в начале 1860-х годов показала ему возможность иных, не основанных на принуждении отношений между людьми.
Однако в 1860-1870-е годы Толстой был поглощен литературной работой. Создание «Войны и мира» (1863-1869) и «Анны Карениной» (1873-1877) принесло ему всемирную славу и материальное благополучие. Казалось, жизнь сложилась идеально: счастливая семья, растущие дети, признание, творческие успехи. Но именно в момент наивысшего внешнего благополучия Толстой пережил острейший кризис, граничивший с мыслями о самоубийстве. Он описал это состояние в «Исповеди»: все достигнутое оказалось бессмысленным перед лицом неизбежной смерти, жизнь потеряла всякий смысл.
Выход из кризиса Толстой нашел в обращении к религии, но не к официальному православию, а к собственному пониманию христианства. Он взялся за изучение Евангелия в оригинале, освоил греческий и древнееврейский языки, чтобы читать священные тексты без посредничества церковных толкователей. Результатом стало «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880-1881), где он попытался выделить подлинное учение Христа, очистив его от чудес, мистики и позднейших добавлений.
Толстой пришел к выводу, что суть христианства — в нравственном учении, изложенном в Нагорной проповеди. Особенно важными он считал пять заповедей: не гневайся, не прелюбодействуй, не присягай, не противься злому, не считай никого врагом. Центральной для него стала заповедь «не противься злому насилием» — именно в ней он увидел ключ к преобразованию всей человеческой жизни. Если люди перестанут отвечать злом на зло, считал Толстой, то разорвется порочный круг насилия и начнется подлинное обновление общества.
Эти идеи он изложил в трактате «В чем моя вера?» (1884), который был немедленно запрещен цензурой. С этого момента началось противостояние Толстого с властями — как государственными, так и церковными. Его религиозно-философские сочинения распространялись в списках и гектографированных изданиях, выходили за границей. Толстой стал самым читаемым и самым запрещаемым автором в России.
Разрыв с официальной церковью был неизбежен. Толстой отрицал божественность Христа, не признавал догматов о Троице, воскресении, церковных таинствах. Он видел в церкви человеческий институт, который исказил подлинное учение Христа, превратил религию в идеологию, служащую интересам власти. В 1901 году Святейший Синод опубликовал определение, констатировавшее отпадение Толстого от церкви. Это не было формальной анафемой, но произвело эффект разорвавшейся бомбы. По всей России прошли демонстрации в поддержку писателя. Синод получил тысячи писем протеста. Толстой из литератора окончательно превратился в символ духовного сопротивления официозу.
Русско-японская война 1904-1905 годов стала тем событием, которое с особой остротой обнажило противоречия толстовского учения с окружающей действительностью. Когда вся Россия была охвачена патриотическим подъемом, когда церковь служила молебны о даровании победы русскому оружию, когда в газетах публиковались восторженные репортажи с театра военных действий, семидесятишестилетний Толстой написал статью «Одумайтесь!». Это был крик боли и отчаяния человека, видящего, как миллионы людей идут убивать друг друга, не понимая зачем.
Толстой обращается в статье к солдатам и офицерам обеих армий, к японцам и русским. Он показывает абсурдность ситуации: простые люди, которые никогда не видели друг друга, не имеют никаких личных причин для вражды, вынуждены убивать друг друга по приказу правительств. Русский крестьянин, одетый в солдатскую шинель, должен штыком протыкать японского крестьянина, также одетого в военную форму, хотя ни тот, ни другой не знают, из-за чего идет война. Порт-Артур, Корея, Маньчжурия — что все это значит для них? Но правительствам нужна война: русскому — чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем и революционного брожения, японскому — чтобы утвердить свое влияние в регионе.
Толстой не был наивным пацифистом, не понимающим реальностей международной политики. Он прекрасно видел, что за войной стоят экономические интересы, борьба за сферы влияния, геополитические расчеты. Но именно поэтому он считал войну преступлением: правительства жертвуют жизнями сотен тысяч людей ради своих корыстных целей, прикрывая это высокими словами о патриотизме и национальных интересах. Толстой призывает людей очнуться, осознать, что их обманывают, что они — не воины, защищающие родину, а жертвы политических игр.
Статья была запрещена в России, но разошлась в нелегальных изданиях и была опубликована за границей. Толстого обвиняли в непатриотизме, в том, что он подрывает боевой дух армии в тяжелый для страны момент. Но писатель не отступал. Он продолжал писать о войне, о патриотизме, о том, что истинная любовь к народу не имеет ничего общего с тем национальным чванством, которое называют патриотизмом.
В статье «Патриотизм и правительство», написанной еще в 1900 году, Толстой проанализировал природу патриотизма как общественного явления. Он показал, как правительства искусственно культивируют патриотические чувства через систему образования, через армию, через прессу, через церковь. С детства людям внушают, что их народ — особенный, что их страна — лучшая в мире, что они должны быть готовы защищать ее от врагов. Эта идеологическая обработка создает психологическую готовность к войне, делает возможным массовое убийство.
Толстой не отрицал естественной привязанности человека к своей земле, к своему языку, к своей культуре. Но он различал это чувство и патриотизм как идеологию. Патриотизм, по его мнению, это искусственно раздуваемое чувство превосходства своего народа над другими, это готовность убивать и умирать по команде правительства, это отказ от общечеловеческих нравственных норм во имя национальных интересов. Такой патриотизм несовместим с христианством, с идеей братства всех людей.
Критика патриотизма естественно вела к критике государства как такового. Толстой пришел к выводу, что государство — это организация насилия, что вся его деятельность основана на принуждении. Армия, полиция, суды, тюрьмы — все это инструменты насилия. Законы, которые государство принимает и заставляет соблюдать, выражают не волю народа, а интересы правящих классов. Налоги собираются под угрозой наказания. Военная служба — принудительная. Даже выборы в парламент (где они есть) не делают государство менее насильственным, потому что большинство может принудить меньшинство, а победившая партия — установить свою волю.
В «Письме студенту о праве» Толстой развивает эту мысль применительно к правовой системе. Он обращается к молодому человеку, изучающему юриспруденцию, и пытается показать ему, что право — это не воплощение справедливости, а инструмент государственного принуждения. Законы пишутся теми, кто имеет власть, в интересах тех, кто имеет власть. Суды не устанавливают истину, а применяют формальные правила. Тюрьмы не исправляют преступников, а калечат людей. Вся правовая система служит поддержанию существующего порядка вещей, при котором меньшинство эксплуатирует большинство.
Толстой предлагает студенту задуматься: хочет ли он посвятить свою жизнь этой системе? Хочет ли он стать адвокатом, защищающим богатых, или прокурором, сажающим в тюрьму бедняков, укравших кусок хлеба? Хочет ли он быть судьей, выносящим приговоры на основании законов, которые сам считает несправедливыми? Толстой призывает его искать другой путь — путь служения истине, а не праву, служения людям, а не государству.
Эта позиция сближала Толстого с анархистами, хотя он не считал себя анархистом в политическом смысле. Он не призывал к насильственному свержению государства, не верил в революцию. Более того, он видел в революционерах тех же государственников, только с противоположным знаком — они хотят не уничтожить государство, а захватить его и использовать для своих целей. Письмо «Не верьте, что народ вас любит...» — это предостережение революционерам.
Толстой писал это письмо в разгар революции 1905 года, когда казалось, что старый порядок вот-вот рухнет. Он обращается к тем, кто мечтает о захвате власти, и говорит им горькую правду: народ не любит вас, народ не понимает ваших идей, народ не пойдет за вами. И даже если вы победите, если захватите власть, что вы будете делать? Вы создадите новое государство, новую полицию, новые тюрьмы. Вы будете принуждать людей жить по-вашему. Вы станете теми же угнетателями, только под другими лозунгами.
Толстой не верил в революцию как способ изменения общества. Он считал, что насилие порождает только насилие, что власть развращает тех, кто ее захватывает, что революция неизбежно приведет к диктатуре. История XX века подтвердила эти опасения. Русская революция 1917 года, совершенная во имя освобождения трудящихся, привела к установлению тоталитарного режима, жертвами которого стали миллионы людей.
Но если не революция, то что? Как изменить несправедливое общество? Толстой предлагал путь ненасильственного сопротивления, путь нравственного совершенствования каждого человека. Он считал, что государство держится не на штыках и тюрьмах, а на согласии людей подчиняться. Если люди откажутся подчиняться несправедливым законам, откажутся служить в армии, откажутся платить налоги, государство рухнет само собой, без всякой революции.
Это учение Толстой подробно развил в трактате «Царство Божие внутри вас» (1890-1893), который оказал огромное влияние на мировое освободительное движение. Книга была переведена на многие языки и читалась в самых разных странах. Именно она попала в руки молодого индийского адвоката Мохандаса Ганди, работавшего в то время в Южной Африке, и произвела на него глубочайшее впечатление.
Ганди писал Толстому в 1909 году, когда тот был уже глубоким стариком. Письмо индийца пришло в Ясную Поляну в сентябре, и Толстой ответил на него в том же месяце. Завязалась краткая, но очень важная переписка. Ганди рассказывал о борьбе индийцев в Южной Африке за свои права, о том, как они используют метод пассивного сопротивления — отказываются подчиняться дискриминационным законам и готовы идти в тюрьму, но не применять насилие. Он просил совета и поддержки.
Толстой был глубоко тронут. В своих письмах к Ганди он выражает восхищение мужеством индийцев и поддерживает избранный ими путь. Он пишет, что борьба индийского народа против британского владычества — это не просто борьба одной нации за независимость, это борьба духовного начала против материального, это пример для всего человечества. Толстой убежден, что индийцы не должны подражать европейцам в их стремлении к индустриализации, милитаризации и государственному строительству. Наоборот, они должны показать миру иной путь — путь простой жизни, отказа от насилия, духовного развития.
Ганди воспринял эти идеи и развил их в концепции сатьяграхи — «упорства в истине», как он переводил этот санскритский термин. Сатьяграха — это не просто пассивное сопротивление, это активная борьба за справедливость исключительно нравственными средствами. Сатьяграхи не причиняет зла противнику, но и не подчиняется несправедливости. Он готов терпеть любые лишения и страдания, но не изменит своим принципам. Эта стратегия оказалась удивительно эффективной. Именно с ее помощью Индия добилась независимости от Британской империи в 1947 году.
Конечно, нельзя сказать, что один Толстой создал индийское освободительное движение. У него были свои корни в индийской культуре и философии. Но влияние русского писателя было огромным. Ганди неоднократно говорил, что Толстой — один из его главных учителей. Он основал в Южной Африке коммуну, которую назвал «Толстовской фермой», где люди жили по заветам русского писателя: занимались физическим трудом, вели простую жизнь, не признавали государственной власти, отказывались от насилия.
Влияние толстовских идей на XX век невозможно переоценить. Движение за гражданские права в США, которое возглавил Мартин Лютер Кинг, также использовало стратегию ненасильственного сопротивления. Кинг, подобно Ганди, испытал влияние Толстого и развил его идеи применительно к борьбе афроамериканцев за равноправие. Сидячие забастовки, марши протеста, бойкоты — все это формы ненасильственного сопротивления, о котором писал Толстой.
Даже антивоенное движение во время войны во Вьетнаме, молодежные протесты 1960-х годов в Европе и Америке несли на себе отпечаток толстовских идей. «Make love, not war» — этот лозунг хиппи перекликается с толстовским призывом заменить насилие любовью. Конечно, многие участники этих движений не читали Толстого, но идеи, которые он высказал, стали частью культурного кода XX века.
Вернемся, однако, к текстам, вошедшим в настоящий сборник. Статья «Не убий никого» — одна из наиболее ясных формулировок толстовского пацифизма. Заповедь «не убий» для Толстого абсолютна. Она не допускает никаких исключений. Нельзя убивать ни при каких обстоятельствах: ни на войне, ни в целях самообороны, ни для защиты других людей, ни по приговору суда. Убийство есть убийство, и никакие соображения — патриотические, юридические, нравственные — не могут его оправдать.
Эта позиция кажется многим неприемлемой. Как же быть, если убийца нападает на беззащитного человека? Неужели нужно стоять в стороне и не вмешиваться? А если нападают на твою страну — неужели не защищаться? Толстой отвечал, что нравственный закон не может быть «практичным», что если мы начнем делать исключения из заповеди «не убий», то в конце концов оправдаем любое убийство. На войне каждая сторона считает, что защищается от агрессора. Преступник, идущий на убийство, тоже может найти оправдание своему поступку.
Толстой понимал, что его позиция выглядит утопической. Но он считал, что человечество должно стремиться к идеалу, даже если он недостижим в полной мере. Каждый человек, отказавшийся от насилия в своей жизни, делает мир немного лучше. Если все больше людей будут следовать заповеди «не убий», то постепенно изменится и общество. Толстой верил в силу личного примера, в способность нравственного поступка одного человека повлиять на других.
Трактат «Без насилья и лжи» — самая объемная работа в сборнике — представляет собой систематическое изложение толстовского учения о ненасилии. Здесь он отвечает на многочисленные возражения, которые выдвигались против его взглядов, приводит примеры из истории и современности, анализирует различные ситуации, когда может возникнуть соблазн применить насилие.
Особенно интересна вторая часть названия: «и лжи». Толстой связывает насилие и ложь как два проявления одного зла. Ложь — это тоже насилие, только не физическое, а духовное. Когда человек лжет, он навязывает другому ложное представление о реальности, манипулирует его сознанием. Государство держится не только на армии и полиции, но и на лжи — на идеологической обработке, на пропаганде, на искажении истины. Церковь, которая учит догматам, противоречащим разуму и совести, также основана на лжи.
Толстой призывает жить в истине. Это означает не только не лгать другим, но и не обманывать себя. Многие люди живут в самообмане: они знают, что их образ жизни неправилен, что они участвуют в несправедливой системе, но находят оправдания, успокаивают совесть. Толстой требует от человека предельной честности перед самим собой, готовности признать свои ошибки и изменить жизнь.
Статья «О значении русской революции» написана в 1906 году, когда первая волна революционного подъема уже спала, но итоги еще не были ясны. Толстой приветствует то, что народ пробудился, что люди начали осознавать свои права, что они больше не хотят безропотно подчиняться. Но он предостерегает от иллюзий. Революционеры хотят захватить власть, создать парламент, принять конституцию. Но разве это решит проблемы? Разве парламентская демократия — не та же государственная власть, только в другой форме?
Толстой видит значение революции не в политических изменениях, а в духовном пробуждении народа. Люди начали думать, начали задавать вопросы, начали понимать, что существующий порядок несправедлив. Это главное. Теперь важно, чтобы они не пошли по ложному пути насильственного переустройства, а нашли путь к подлинному освобождению — через нравственное совершенствование, через отказ от участия в деятельности государства, через построение новой жизни на принципах любви и братства.
История показала, что опасения Толстого были обоснованны. Революция 1917 года, которую он не дожил увидеть всего семь лет, действительно привела к установлению нового, еще более жестокого государства. Большевики, пришедшие к власти под лозунгами освобождения трудящихся, создали систему тотального контроля, репрессий, принудительного труда. Миллионы людей погибли в лагерях, от голода, в ходе коллективизации и террора. Толстовское предсказание, что революция, совершенная насилием, породит новое насилие, сбылось с пугающей точностью.
В статьях «Как освободиться рабочему народу?» и «О социализме» Толстой обращается к социальному вопросу, который остро стоял в России начала XX века. Он видит тяжелое положение рабочих и крестьян, понимает несправедливость существующего экономического строя. Но он не принимает социалистического решения этой проблемы. Социализм, по его мнению, это попытка решить проблему эксплуатации путем создания нового, еще более всеобъемлющего государства, которое будет контролировать все стороны жизни.
Толстой предсказывал, что социалистическое государство будет еще более деспотичным, чем капиталистическое. При капитализме человек эксплуатируется хозяином, но у него остается некоторая свобода — он может сменить работу, уехать в другое место, заняться своим делом. При социализме человек будет принадлежать государству целиком. Он будет работать там, куда его пошлют, жить там, где ему скажут, получать столько, сколько ему выделят. Это будет всеобщее рабство под видом всеобщего равенства.
Свое решение социального вопроса Толстой видел в возвращении к земле, к простому крестьянскому труду, к общинным формам жизни без частной собственности на землю, но и без государственного контроля. Он верил, что если люди откажутся от городской цивилизации с ее искусственными потребностями, вернутся к простой жизни, будут сами выращивать хлеб и делать то, что им нужно, то исчезнет и эксплуатация, и нужда.
Эти идеи многим казались и кажутся утопическими, отсталыми, реакционными. Прогресс неостановим, индустриализация неизбежна — говорили критики Толстого. Но XX век показал и обратную сторону прогресса: экологический кризис, истощение ресурсов, отчуждение человека от природы и от своего труда, психологические проблемы жителей мегаполисов. Сегодня идеи Толстого о простой жизни, о возвращении к природе находят отклик в экологическом движении, в движении за устойчивое развитие, в попытках создать альтернативные формы жизни.
Статья «Несколько слов по поводу книги "Война и мир"», написанная еще в 1868 году, может показаться не относящейся к основному корпусу поздней публицистики Толстого. Но на самом деле она очень важна для понимания эволюции его взглядов. Уже здесь проявляется то, что станет характерным для позднего Толстого: отказ следовать общепринятым канонам, стремление к истине вопреки авторитетам, критика официальной версии истории.
Толстой пишет, что «Война и мир» — это не роман, не повесть, не историческая хроника. Это нечто иное, для чего нет названия в европейской литературе. Он отказывается подчиняться жанровым условностям, отказывается писать по правилам, которые установили критики и литературоведы. Он пишет так, как считает правильным, так, как требует его художественное чувство и его понимание исторической правды.
Особенно интересна его критика исторической науки. Толстой считает, что историки создают ложную картину прошлого, изображая исторический процесс как результат действий великих людей — королей, полководцев, государственных деятелей. На самом деле, утверждает Толстой, история делается миллионами обычных людей, а роль так называемых великих людей минимальна. Наполеон не выиграл и не проиграл ни одного сражения — сражения выигрывали или проигрывали солдаты. Решения Наполеона часто были бессмысленными или невыполнимыми, но историки приписывают ему заслугу побед и вину поражений.
Эта идея получит развитие в поздней публицистике. Толстой будет постоянно подчеркивать, что правительства держатся не силой правителей, а согласием народа подчиняться. Что война ведется не волей царей и генералов, а руками солдат. Что если солдаты откажутся воевать, никакие приказы не заставят их это делать. История — в руках простых людей, и только от их нравственного выбора зависит, каким будет будущее.
Статья «Зло и ложь церкви» — одно из самых резких выступлений Толстого против официального православия. Он обвиняет церковь в предательстве Христа, в искажении его учения, в союзе с властью, в обмане народа. Церковь учит догматам, которые противоречат разуму: о непорочном зачатии, о воскресении тела, о пресуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христа. Эти учения не имеют никакого отношения к нравственности, к тому, как человек должен жить.
Но главное обвинение Толстого — это то, что церковь оправдывает насилие. Она благословляет армию, освящает оружие, призывает солдат убивать врагов отечества. Священники служат молебны перед боем, утешают умирающих, хоронят убитых. Вся эта церковная деятельность создает иллюзию, что война — это нечто богоугодное, что убийство на войне — не грех, а подвиг. Но Христос учил: «не убий», «возлюби врага твоего», «не противься злому». Как можно призывать к убийству, ссылаясь на Христа?
Церковь учит подчиняться властям, потому что «всякая власть от Бога». Но если власть приказывает творить зло — пытать, убивать, грабить — разве можно ей подчиняться? Толстой утверждает, что церковь превратилась в идеологический аппарат государства, что она служит не Богу, а власти, что она обманывает народ, внушая ему покорность и терпение.
Эта критика вызвала ярость церковных иерархов. Но Толстой был неумолим. Он считал, что пока люди будут верить церковным учениям, они не смогут стать подлинными христианами, не смогут следовать заветам Христа. Освобождение от церковного обмана — первый шаг к духовному освобождению.
Важно понимать, что Толстой критиковал не только православную церковь, но и все исторические церкви — католическую, протестантские. Он считал, что все они в той или иной степени исказили учение Христа, все они служат интересам власти, все они оправдывают насилие. Подлинное христианство, по Толстому, не нуждается в церкви, в священниках, в таинствах, в храмах. Оно живет в сердце каждого человека, который искренне стремится следовать нравственному учению Христа.
«Две войны» — небольшая статья, в которой Толстой сравнивает Крымскую войну 1853-1856 годов, в которой он сам участвовал, и русско-японскую войну 1904-1905 годов. Прошло полвека, но ничего не изменилось. Те же оправдания войны, те же патриотические лозунги, те же обманутые солдаты, идущие на смерть. Но Толстой видит и разницу: в середине XIX века он сам верил в патриотизм, в необходимость защищать родину. Теперь, спустя полвека духовных исканий, он понимает всю лживость этих оправданий.
«Патриотизм или мир» — статья, где Толстой ставит человечество перед выбором. Либо патриотизм — и тогда неизбежны войны, вражда между народами, бесконечный круг насилия. Либо мир — и тогда нужно отказаться от патриотизма, от деления людей на своих и чужих, от национального эгоизма. Третьего не дано. Нельзя быть патриотом и одновременно стремиться к миру между народами. Патриотизм по самой своей природе ведет к войне.
Толстой понимал, что призыв отказаться от патриотизма звучит дико для большинства его современников. Его обвиняли в космополитизме, в отсутствии любви к родине, в предательстве национальных интересов. Но он стоял на своем. Истинная любовь к своему народу, считал он, заключается не в том, чтобы считать его лучше других народов, а в том, чтобы желать ему истинного блага — жизни в мире и справедливости. А это возможно только при отказе от патриотизма.
Личная жизнь Толстого в последние годы была полна драматизма. Его взгляды вызывали непонимание и протест в его собственной семье. Жена Софья Андреевна не принимала его учения, видела в нем угрозу благополучию семьи, боялась, что он откажется от собственности и оставит детей без наследства. Между супругами, прожившими вместе почти полвека, возникло глубокое отчуждение.
Толстой мучился противоречием между своим учением и своим образом жизни. Он проповедовал отказ от собственности, но жил в большом доме в Ясной Поляне. Он призывал к простому физическому труду, но сам в основном занимался писательством. Он учил непротивлению злу насилием, но нередко был резок и нетерпим в спорах. Эти противоречия не были ему неизвестны — он остро их переживал и пытался их преодолеть.
В октябре 1910 года восьмидесятидвухлетний Толстой тайно ушел из Ясной Поляны. Он больше не мог выносить двойственности своего положения, не мог жить в роскоши, проповедуя бедность. Уход был драматическим: глубокая осень, холод, старость. Через несколько дней Толстой заболел воспалением легких и был вынужден остановиться на маленькой станции Астапово. Там, в доме начальника станции, он умер 7 ноября 1910 года.
Смерть Толстого стала всемирным событием. Телеграммы с соболезнованиями приходили со всех концов света. В России прошли траурные собрания и демонстрации. Власти боялись, что похороны превратятся в политическую манифестацию, и попытались ограничить доступ к Ясной Поляне. Но тысячи людей пришли проводить великого писателя в последний путь.
Толстого похоронили, согласно его желанию, без церковных обрядов, в лесу на краю оврага, где, по семейному преданию, была зарыта «зеленая палочка» с секретом всеобщего счастья. Эта легенда из детства Толстого, которую рассказывал ему старший брат Николенька, символична. Всю жизнь Толстой искал этот секрет, искал ответ на вопрос, как сделать людей счастливыми, как прекратить страдания и зло в мире.
Нашел ли он этот секрет? Ответ на этот вопрос каждый даст свой. Но несомненно одно: Толстой посвятил поиску истины всю свою жизнь, все свои силы, весь свой гениальный талант. Он не побоялся идти против течения, против власти, против церкви, против общественного мнения. Он заплатил за свои убеждения высокую цену: отлучение от церкви, разлад в семье, непонимание, клевету, постоянную слежку полиции.
Но он не отступал. Он продолжал писать, продолжал говорить то, что считал истиной. Его последние годы — это годы неутомимой работы. Несмотря на возраст и болезни, он писал статьи, письма, дневники, принимал посетителей, отвечал на многочисленные обращения. Со всех концов мира к нему приходили письма — от рабочих и крестьян, от студентов и интеллигентов, от простых людей, которые видели в нем не просто писателя, но учителя жизни, совесть эпохи.
Толстого часто упрекают в непоследовательности, в утопизме, в том, что его идеи оторваны от реальности. Но разве не утопична была надежда Ганди изгнать англичан из Индии без насилия? А он это сделал. Разве не утопично было предположить, что чернокожие американцы добьются равноправия, маршируя с мирными плакатами? А они добились. Разве не утопично было думать, что коммунистический режим в Восточной Европе рухнет без единого выстрела? А он рухнул.
Толстой верил в силу нравственного закона, в то, что истина сильнее лжи, что любовь победит ненависть, что свет рассеет тьму. Эта вера кажется наивной в жестоком мире, где правит насилие. Но без этой веры, без этого стремления к идеалу человечество обречено вечно вращаться в круге насилия и мести, войн и революций, угнетения и бунта.
Публицистика Толстого — это не готовый рецепт, не руководство к действию, не политическая программа. Это свидетельство духовного поиска, это крик совести, это призыв к каждому человеку: остановись, подумай, осознай, что ты делаешь, пойми, что ты — не винтик в государственной машине, не пушечное мясо для правительств, не раб системы, а живой человек, наделенный разумом и совестью, способный различать добро и зло, способный делать выбор.
В эпоху, когда человек все больше чувствует себя бессильным перед лицом глобальных проблем, когда кажется, что от отдельного человека ничего не зависит, толстовское утверждение личной ответственности каждого приобретает особую актуальность. Невозможность изменить мир не освобождает от обязанности жить по совести. Более того, именно совокупность личных нравственных выборов миллионов людей в конечном счете определяет, каким будет общество.
Толстой не требует от человека героизма, подвига, самопожертвования. Он требует только честности — честности перед самим собой, готовности признать правду, как бы она ни была неудобна. И если человек честно взглянет на свою жизнь, на общество, в котором он живет, на то, в чем он участвует, — он не сможет не измениться. Это изменение может быть небольшим, но оно будет подлинным.
Сборник, который вы держите в руках, охватывает почти полвека творческой и общественной деятельности Толстого. От размышлений о природе искусства в связи с «Войной и миром» до последних статей, написанных в год смерти. Это не просто тексты, это живой голос человека, который не побоялся сказать правду своему времени. И этот голос продолжает звучать сегодня, спустя более века после смерти писателя, потому что вопросы, которые он поставил, остаются без ответа, а проблемы, которые он обозначил, не решены.
Читая Толстого сегодня, мы можем не соглашаться с его выводами, оспаривать его аргументы, считать некоторые его идеи устаревшими или ошибочными. Но мы не можем не признать силу его убежденности, искренность его поиска, масштаб его нравственного дерзания. В мире, где ценятся прагматизм и компромисс, где принято быть «реалистом» и не витать в облаках, пример Толстого напоминает, что есть вещи важнее успеха и благополучия, что бывают истины, ради которых стоит рисковать всем.
Александр Немиров
Из «Заметок о Льве Толстом»
У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов...
Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге,— о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.
Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.
В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».
Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?
— Незаконченная мысль,— сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».
* * *
Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.
— Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.
О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:
— Вы сильно распутничали в юности?
А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:
— Я был неутомимый...
Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.
* * *
Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.
— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?
Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.
— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.
Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:
— Я не зяблик.
Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:
— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.
Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама...
Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждения Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.
* * *
Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.
«Что значит — знать? Вот я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — всё это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и всё. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».
Несмотря на однообразие проповеди своей,— безгранично разнообразен этот сказочный человек.
Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей.
Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.
Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, всё думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:
«Ничего вы со мною не сделаете».
Но о том — что нашел и где — молчит.
* * *
Как-то он неожиданно спросил меня — точно ударил:
— Вы почему не веруете в бога?
— Веры нет, Л. Н.
— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле,— непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.
Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджал под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:
— От этого — не отмолчитесь, нет!
А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:
«Этот человек — богоподобен!»
Максим Горький
Одумайтесь!
«Ныне ваше время и власть тьмы».
Лука, XXII, 53
Ι
«Только беззакония ваши были средостением между вами и Богом вашим, и грехи ваши закрыли лицо его от вас, чтобы он не слышал; потому что руки ваши осквернены кровью и персты ваши беззаконием; уста ваши говорят ложь; язык ваш произносит неправду. Никто не поднимает голоса за правду и никто не судится по истине; уповают на пустое и говорят ложью, зачинают беду и рождают беззаконие. Дела их суть дела греховные, и руки их производят насилие; ноги их бегут ко злу и спешат проливать невинную кровь; помышления их — помышления греховные; опустошение и гибель на пути их; они не знают пути мира, и нет правосудия на стезях их, они сами искривили свои пути; никто ходящий по ним не знает мира. Потому то и далеко от нас правосудие, и правда не доходит до нас; мы ожидаем света, но вот тьма; ждем сияния, но ходим во мраке; ощупываем стену, как слепые, и ощупью ходим, как безглазые, в полдень спотыкаемся, как в сумерки, в темноте, как мертвецы».
Исаия, LIX 2—4, 6—10
«Ограничимся тем, что напомним, что различные государства Европы накопили долг в 130 миллиардов, из которых около 110 сделано в продолжение одного века, и что весь колоссальный долг этот сделан исключительно для расходов по войне, что европейские государства держат в мирное время в войске более 4 миллионов людей и могут довести это число до 110 миллионов в военное время; что две трети их бюджетов поглощены процентами на долг и содержанием армий сухопутных и морских».
Молинари
«Но война более уважаема, чем когда-либо. Искусный артист этого дела, гениальный убийца г-н Мольтке, такими странными словами отвечал делегатам мира:
— Война свята, божественного учреждения, один из священных законов мира. Она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость; одним словом, спасает людей от отвратительного материализма.
Так что соединиться в стада четырехсот тысяч человек, без отдыха ходить день и ночь, ни о чем не думать, ничего не изучать, ничему не научаться, ничего не читать, не быть полезным никому, загнивать в нечистоте, спать в грязи, жить как скоты, в постоянном одурении, грабить города, сжигать деревни, разорять народы, потом, встретив такое же другое скопище человеческого мяса, бросаться на него, проливать озера крови, покрывать поля разорванным мясом и кучами трупов устилать землю, быть искалеченными, быть разможженными без пользы для кого бы то ни было и наконец издохнуть где-нибудь на чужом поле, тогда как ваши родители, ваша жена и дети дома умирают о голода, — это называется спасать людей от отвратительного материализма».
Гюи де Мопассан
Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.
Люди, десятками тысяч верст отделенные друг от друга, сотни тысяч таких людей, с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.
Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть, — хочется верить, что это сон, и проснуться.
Но нет, это не сон, а ужасная действительность.
Еще можно понять, что оторванный от своего поля, бедный, неученый, обманутый японец, которому внушено, что буддизм не состоит в сострадании ко всему живому, а в жертвоприношениях идолам, и такой же бедняга тульский, нижегородский, полуграмотный малый, которому внушено, что христианство состоит в поклонении Христу, Богородице, святым и их иконам, — можно понять, что эти несчастные люди, доведенные вековым насилием и обманом до признания величайшего преступления в мире — убийства братьев — доблестным делом, могут совершать эти страшные дела, не считая себя в них виноватыми. Но как могут так называемые просвещенные люди проповедовать войну, содействовать ей, участвовать в ней, и, что ужаснее всего, не подвергаясь опасностям войны, возбуждать к ней, посылать на нее своих несчастных, обманутых братьев? Ведь не могут же эти так называемые просвещенные люди, не говоря уже о христианском законе, если они признают себя его исповедниками, не знать всего того, что писалось, пишется, говорилось и говорится о жестокости, ненужности, бессмысленности войны. Ведь потому они и считаются просвещенными людьми, что они знают всё это. Большинство из них сами писали или говорили об этом. Не говоря уже о вызвавшей всеобщее восхваление Гаагской конференции, о всех книгах, брошюрах, газетных статьях, речах, трактующих о возможности разрешения международных недоразумений международными судилищами, все просвещенные люди не могут не знать того, что всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе; не могут не знать, что кроме безумной, бесцельной траты миллиардов рублей, т. е. трудов людских на приготовления к войнам, в самых войнах гибнут миллионы самых энергических, сильных людей в лучшую для производительного труда пору их жизни (войны прошлого столетия погубили 14 000 000 людей). Не могут просвещенные люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из-за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотой тех средств, которые расходуются на войну (на освобождение негров истрачено в много раз больше того, что стоил бы выкуп всех негров юга). Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей. Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, в роде тех, которые приводил Де-Местр, Мольтке и другие, так как все они основаны на том софизме, что во всяком бедствии человеческом можно найти полезную сторону, или на совершенно произвольном утверждении, что войны всегда были и потому всегда будут, как будто дурные поступки людей могут оправдываться теми выводами и пользой, которые они приносят, или тем, что они в продолжение долгого времени совершались. Все так называемые просвещенные люди знают всё это. И вдруг начинается война, и всё это мгновенно забывается, и те самые люди, которые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей, и как бы как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых мнимо-просвещенных людей, заставляющих их совершать эти страшные, противные их совести, благу и вере дела.
II
«И Микромегас сказал:
— О, вы, разумные атомы, в которых вечное Существо выразило свое искусство и свое могущество, вы, верно, пользуетесь чистыми радостями на вашем земном шаре, потому что, будучи так мало материальны и так развиты духовно, вы должны проводить вашу жизнь в любви и мышлении, так как в этом настоящая жизнь духовных существ».
На эту речь все философы покачали головами, и один из них, наиболее откровенный, сказал, что, за исключением малого числа мало уважаемых жителей, всё остальное население состоит из безумцев, злодеев и несчастных.
— В нас больше телесности, чем нужно, если зло происходит от телесности, и слишком много духовности, если зло происходит от духовности, — сказал он. — Так, например, в настоящую минуту тысячи безумцев в шляпах убивают тысячи других животных в чалмах или убиваемы ими, и так это ведется с незапамятных времен по всей земле.
— Из-за чего же ссорятся эти маленькие животные?
— Из-за какого-нибудь маленького кусочка грязи, величиной c вашу пятку, — отвечал философ, — и ни одному из людей, которые режут друг друга, нет ни малейшего дела до этого кусочка грязи. Вопрос для них только в том, будет ли этот кусочек принадлежать тому, кого называют султаном, или тому, кого называют кесарем, хотя ни тот, ни другой не видал этого кусочка земли. Из тех же животных, которые режут друг друга, почти никто не видал того животного, ради которого они режутся.
— Несчастные, — воскликнул Сириец, — можно ли представить себе такое безумное бешенство! Право, мне хочется сделать три шага и раздавить весь муравейник этих смешных убийц.
— Не трудитесь делать этого, — отвечали ему. — Они сами заботятся об этом. Впрочем, и не их надо наказывать, а тех, варваров, которые, сидя в своих дворцах, предписывают убийства людей и велят торжественно благодарить зa это Бога».
Вольтер
«Безумие современных войн оправдывается династическим интересом, национальностью, европейским равновесием, честью. Этот последний мотив самый дикий, потому что нет ни одного народа, который не осквернил бы себя всеми преступлениями и постыдными поступками, нет ни одного, который не испытал бы всевозможных унижений. Ежели же и существует честь в народах, то какой же странный способ поддерживать ее войной, то есть всеми теми преступлениями, которыми бесчестит себя честный человек: поджигательством, грабежами, убийством...»
Анатоль Франс
«Дикий инстинкт военного убийства так заботливо в продолжение тысячелетий культивировался и поощрялся, что пустил глубокие корни в мозгу человеческом. Надо надеяться однако, что лучшее, чем ваше, человечество, сумеет освободиться от этого ужасного преступления.
Но что подумает тогда это лучшее человечество о той так называемой утонченной цивилизации, которой мы так гордимся?
А почти то же, что мы думаем о древне-мексиканском народе и его канибализме в одно и то же время воинственном, набожном и животном».
Летурно
«Иногда один властелин нападает на другого из страха, чтобы тот не напал на него. Иногда начинают войну потому, что неприятель слишком силен, а иногда потому, что слишком слаб; иногда наши соседи желают того, чем мы владеем или владеют тем, что нам недостает. Тогда начинается война до тех пор, покуда они захватят то, что им нужно, или отдадут то, что нужно нам».
Джонатан Свифт
Совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости.
Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет, что, несмотря на все заботы свои о сохранении дорогого его сердцу мира (заботы, выражавшиеся захватом чужих земель и усилением войск для защиты этих захваченных земель), он, вследствие нападения японцев, повелевает делать по отношению японцев то же, что начали делать японцы по отношению русских, т. е. убивать их; и объявляя об этом призыве к убийству, он поминает Бога, призывая Его благословение на самое ужасное в свете преступление. То же самое по отношению русских провозгласил японский император. Ученые юристы, господа Муравьев и Мартенс, старательно доказывают, что в призыве народов ко всеобщему миру и возбуждении войны из-за захватов чужих земель нет никакого противоречия. И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры, в которых подробно и старательно доказывают, — хотя и знают, что никто им не верит, — что только после всех попыток установить мирные отношения (в действительности, всех попыток обмануть другие государства) русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, т. е. к убийству людей. И то же самое пишут японские дипломаты. Ученые, историки, философы, с своей стороны сравнивая настоящее с прошедшим и делая из этих сопоставлений глубокомысленные выводы, пространно рассуждают о законах движения народов, об отношении желтой и белой расы, буддизма и христианства, и на основании этих выводов и соображений оправдывают убийство христианами людей желтой расы, точно так же как ученые и философы японские оправдывают убийство людей белой расы. Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг друга и не останавливаясь ни перед какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады доказывают, что и правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские, а не правы и слабы и дурны во всех отношениях все японцы, а также дурны и все те, которые враждебны или могут быть враждебны русским — англичане, американцы, чтò точно так же по отношению русских доказывается японцами и их сторонниками.
И не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвещенных людей, ничем и никем к этому не побуждаемых, как профессора, земские деятели, студенты, дворяне, купцы, выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам, к которым они вчера еще были доброжелательны или равнодушны, и без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем, к которому они, по меньшей мере, совершенно равнодушны, уверяя его в своей беспредельной любви и готовности жертвовать для него своими жизнями.
И несчастный, запутанный молодой человек, признаваемый руководителем 130-миллионного народа, постоянно обманываемый и поставленный в необходимость противоречить самому себе, верит и благодарит и благословляет на убийство войско, которое он называет своим, для защиты земель, которые он еще с меньшим правом может называть своими. Все подносят друг другу безобразные иконы, в которые не только никто из просвещенных людей не верит, но которые безграмотные мужики начинают оставлять, все в землю кланяются перед этими иконами, целуют их и говорят высокопарно-лживые речи, в которые никто не верит.
Богачи жертвуют ничтожные доли своих безнравственно нажитых богатств на дело убийства или на устройство помощи в деде убийства, и бедняки, с которых правительство собирает ежегодно два миллиарда, считают нужным делать то же самое, отдавая правительству и свои гроши. Правительство возбуждает и поощряет толпы праздных гуляк, которые, расхаживая с портретом царя по улицам, поют, кричат «ура» и под видом патриотизма делают всякого рода бесчинства. И по всей России, от дворца до последнего села, пастыри церкви, называющей себя христианской, призывают того Бога, который велел любить врагов, Бога-Любовь на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству.
И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. И за ними едут врачи, сестры милосердия, почему-то полагающие, что дома они не могут служить простым, мирным, страдающим людям, а могут служить только тем людям, которые заняты убийством друг друга. Остающиеся же дома радуются известиям об убийстве людей и, когда узнают, что убитых японцев много, благодарят за это кого-то, кого они называют Богом.
И всё это не только признается проявлением высоких чувств, но люди, воздерживающиеся от таких проявлений, если они пытаются образумить людей, считаются изменниками, предателями и находятся в опасности быть обруганными и избитыми озверевшей толпой людей, не имеющих в защиту своего безумия и жестокости никакого иного орудия, кроме грубого насилия.