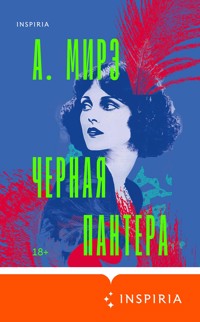
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Инспирия
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
В этом издании под одной обложкой собраны рассказы из двух изданных при жизни А. Мирэ сборников — «Жизнь» (1904) и «Черная пантера» (1909), также в него вошли избранные рассказы вне сборников, наиболее ярко иллюстрирующие тонкий стиль писательницы. Истории Мирэ — это мимолетные сценки из обычной жизни, наделенные авторской чуткостью, готическим флером и философским подтекстом.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
А. Мирэ Черная пантераАнтология
Предисловие М. В. Михайловой, подготовка текста при участии М. В. Михайловой и С. В. Кудрицкой
Составители сборника: Мария Михайлова, Софья Кудрицкая, Людмила Иванова
© Мирэ А., текст, 2024
© Михайлова Мария Викторовна, текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
В поисках настоящей любви
Сохранилась только одна фотография этой женщины: замысловатый тюрбан (следование моде начала XX века) и усталое, какое-то растерянное, чуть склоненное вбок лицо под ним. Однако встречи с ней людям врезались в память: «Женщина странная, ни на кого не похожая». Но странное впечатление складывалось еще до личного знакомства, тогда, когда читающая Россия ломала голову, кто же скрывается под звучным псевдонимом «А. Мирэ» – мужчина или женщина? Даже такой знаток литературы, как В. Брюсов, беспомощно разводил руками: «Мы не знаем французского автора с фамилией Мире»[1]. Впоследствии стало известно, что псевдоним она придумала, взяв фамилию знакомого студента «Реми» и переставив в ней слоги. Но есть и версия, что в основе французское слово mire — прицел, мушка. Возможно, она так себя и ощущала: всегда была на мушке, на взводе, на прицеле…
Впрочем о жизни Александры Михайловны Моисеевой (1874–1913), а именно она скрывалась под звучным псевдонимом, надо рассказывать по порядку: столько она заключает в себе событий, переживаний, трагизма и – любви…
Родилась Шурочка – так звали ее близкие – в семье среднего достатка в провинциальном городе Борисоглебске. Окончила гимназию. Годы юности, смутных порывов и надежд, ожиданий и волнений подробно описаны ею в одном из последних опубликованных произведений – «Страницы из дневника» (1912), где автор вывела себя под именем героини Лары. Это она, юная прелестная Шурочка-Лара, томится неясными мечтами. Замкнутая и стеснительная, она пробует разорвать круг повседневности, покидает постылый домашний очаг, устремляется к тому светлому, романтическому, что сосредоточено для нее в театре. Лара поступает на сцену, но вскоре оставляет ее (это проделала и Шурочка Моисеева), так как и там встретилась с корыстолюбием и пошлостью.
Девяностые годы позапрошлого века. Время революционного бурления в среде молодежи. Шурочка с ее стремлением к правде и справедливости оказывается в кругу радикально настроенных молодых людей. По делам революционной пропаганды она выехала в Одессу, где и была арестована, оказалась в тюрьме, откуда освободилась в 1894 году, оставшись под надзором полиции. Без паспорта, дожидаясь разрешения на выезд за границу, прожила следующие три года уже в Кишиневе. Трудно судить, насколько значимо было для нее революционное прошлое. Возможно, ее опять-таки привлекала романтика, на этот раз сосредоточившаяся в борьбе, горячих спорах, ощущении опасности. Во всяком случае, в тех странах, где она побывала после России (выехала в 1897 году), – в Бельгии, Франции, Италии – она нередко посещала рабочие собрания, митинги и даже запечатлела несколько таких сценок в своих рассказах.
1897 год. Париж. Монпарнас. Художественная богема. Шурочка позирует живописцам, становясь подругой то одного, то другого. Позже в ее рассказах возникнет много этих «моделей», являвшихся «материалом» искусства, от которых принято брать молодость, красоту, готовность служить любимому, а потом, выбрасывая на улицу, забывать о них. Для Шурочки началась вольная жизнь: веселые дружеские попойки, ночные бдения, нескончаемые разговоры об искусстве. Она пристрастилась к табаку, абсенту. Такой ее знал Максимилиан Волошин, и это знакомство оставило у него неприятные воспоминания…
Кончилось тем, что один из любовников продал ее в публичный дом в Марселе, где она развлекала пьяных матросов и из которого ей с огромным трудом удалось выбраться. Выбиваясь из последних сил, прося милостыню, она добралась до Парижа. Возможно, уже тогда у нее появились первые признаки душевного заболевания – тяжелые видения, ощущение давящей пустоты. Однако все это не заставило ее проклясть «парижскую» и ту «новую, могучую жизнь», которая ей была так необходима.
«В Париж нужно в первый раз попасть такой, какой я попала: очень беззаботной»[2], – писала она в одном из писем. Но «беззаботность» Шурочки была особого рода – это была жадность молодости, надежда на встречу, ту великую, единственную встречу, которая оправдает все лишения и падения. Любви, любви исступленно искала Шурочка на мансардах, в кафе и даже, возможно, на мостовой. Кому-то это может показаться отвратительным, ужасающе безнравственным. Но, как бы отводя подобные подозрения, она повторяла: «Вы мне говорили, что у меня никогда не было любви, а так, обрывки (от себя прибавляю) – цинизма. Дело в том, что я в глубине души никогда не была цинична. Так сложилась жизнь».
Она вернулась в Россию приблизительно в 1903 году. Поселилась в Нижнем Новгороде, где зарабатывала на жизнь, едва ли не ежедневно публикуя в местной газете зарисовки, картинки и сценки из парижской жизни. Происходило это так: она запасалась на ночь водкой, селедкой и огурцами, а наутро приносила в редакцию очередной рассказ. Естественно, такой образ жизни не проходит бесследно. Уже тогда, как свидетельствовали друзья, она «совсем потеряла образ человеческий. С утомленным лицом от бессонных ночей и вина, плохо, неопрятно одетая, с какой-то виноватой улыбкой и странным неестественным смехом»[3]. И не случайно в первом же сборнике А. Мирэ «Жизнь» (Нижний Новгород, 1904) А. Блок проницательно выделил те вещи, которые обращают на себя внимание «тихой измученностью, которая не мешает свежести восприятия… Автор в своем жанре достигает тихой простоты, которая говорит больше, чем «правда жизни», обыкновенно становящаяся фальшью в искусстве»[4]. Это были «психологические картинки с оттенком своеобразного романтизма, страстного и в то же время печального»[5]. На самом деле в книге были собраны рассказы (или, как она их чаще называла, «рассказички») двух типов. Одни – бытовые сценки, мимолетные картинки текущей жизни, всегда имеющие тонкий философский подтекст. Другие – этюды, в аллегорическом ключе разрешающие проблемы Жизни, Смерти, Красоты, Искусства, Творчества. Если первые выдавали острый глаз писательницы, ее умение наблюдать и обобщать, то во вторых – чаще всего обнаженно и прямолинейно, даже с дидактическим уклоном – излагалось ее кредо: желание борьбы, сопротивления неблагоприятному течению судьбы, зов жизни, проповедь активности, победа воли. Но даже в этих «обнаженных» по мысли произведениях можно было обнаружить неповторимое своеобразие творческого почерка Мирэ. Она импрессионистическими красками могла, например, создать образ Ночи или экспрессивными мазками нарисовать «когти» солнечных лучей, терзающих Землю.
В 1905 году Мирэ переехала Петербург, где при помощи друга юности писателя-символиста Георгия Чулкова начала печататься в модернистских изданиях «Вопросы жизни», «Золотое Руно», «Перевал», вращаться в кругах петербургской художественной элиты. Многим запомнились тогда ее «ни с чем не сообразная фигурка», «бледное, помятое лицо с растерянной жалкой улыбкой и горящими, красивыми глазами, все еще молодыми и полными ожидания»[6].
В это время довольно резко меняется творческая манера писательницы: ее рассказы приобретают мистический колорит, большу́ю роль начинают играть условность и фантастика. Черная пантера из одноименного рассказа, вызывающая у героя непреодолимое влечение, воплощает Зло «пламенных сфер», уходящих в Вечность. Образ дикого зверя, как и любовь, одновременно сулит неземное наслаждение и приносит неминуемую гибель. Появляется автоматический человек, который тем не менее остро ощущает муки ревности и, страдая, убегает от своего хозяина. Взамен настроений надежды и веры, свойственных первому сборнику (хотя и в нем слышались ноты отчаяния), здесь начинают преобладать настроения тоски, главенствует одиночество, непонимание, отчужденность. Роковые случайности, непредсказуемость поведения, алогичность поступков и, как следствие, – безнадежность, мучения, смерть. Именно они становятся законами, властно распоряжающимися жизнью. И это результат того, что Бог отвернулся от человека, оставив ему в удел страдания и скорбь. Разгул «темных сил», воля «к уничтожению» – вот что отныне становится сутью художественного мира Мирэ. Если раньше присутствовали надежда и устремленность в будущее, если у французов она восприняла импрессионизм, то теперь вечные темы решались в мрачно-декадентском, «уайльдовском» духе[7] – как «безумие каннибальской пляски чувства, эгоизма и тщеславия»[8].
Мирэ филигранно смешивает разные краски, и из-под ее пера выходит нечто, напоминающее современный стиль camp, где можно найти красоту и уродство, серьезное и манерное, трагическое и пародийное. Так, в «Черной пантере» она тасует известные всем подробности жизни Уайльда, дает своему герою имя Альфред, а фамилию скрывает за инициалом Д. (что ясно указывает на возлюбленного английского писателя – лорда Альфреда Дугласа). А вот кто скрывается за пылающей страстью пантерой? Уайльд? Или это символ разрушительной любви, пожирающей бездумно отдающихся ей (в рассказе и пантера, и Альфред погибают)? А может, это вообще пародия на чувственность и чувствительность натур, которые требовали особого к себе отношения в Серебряном веке и демонстрировали несоприкосновение с пошлым и земным? И не подсмеивалась ли она над собой, когда описывала в рассказе «Рамбеллино» любовь героини к человеку-автомату (здесь явная отсылка к «Песочному человеку» Э.-А. Гофмана), который не выдерживает ее притязаний и сбегает от нее? Но, недолго погоревав, ветреница уже готова к новым отношениям. Однако, грезя наяву, о самой себе Мирэ знала, что ей, снедаемой страстной жаждой любви, не найти успокоения нигде. Наверное, так можно проинтерпретировать ее рассказ «Весенняя ночь» (1908), где две героини, монахини, в последние часы жизни на земле думают о любви, ревности, мщении, бросаются взаимными обвинениями, забывая о Боге и искуплении.
Как бы то ни было, судьба приготовила Мирэ еще одно испытание. Ее приятельница прочитала в брачной газете объявление одинокого холостяка из Перми, по профессии агронома, с предложением вступить с ним в брак, предварительно обменявшись фотографиями и письмами. Она отозвалась на призыв, получила его фотокарточку, но, разочаровавшись внешностью, переслала фото Мирэ, которая и начала с ним переписку. Заочно Александра Михайловна понравилась «жениху», он сделал ей предложение, пригласил приехать к нему, прислал денег на переезд.
Дальше происходило все так, как и должно было происходить с витающей в облаках, абсолютно не приспособленной к жизни Александрой Михайловной. Окрыленная надеждой женщина ехала так долго и так устала, что совсем не позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. Приехав на назначенную станцию, она вышла из вагона невыспавшаяся и непричесанная. Вид ее настолько отличался от изображения на фотографии, что жених даже не сразу узнал ее. Ей пришлось самой представиться ему, и только тогда он повез ее к себе. А жил он в глухом захолустье: на станции Частые Оханского уезда Пермской губернии (во всем уезде в то время насчитывалось около полутора сотен дворян!).
Вначале, по-видимому, все шло неплохо и Александра Михайловна была близка к тому, чтобы обрести себя подлинную! Счастье окрылило ее, она радостно констатировала изменения в себе: стала спокойней, уравновешенней. В семейной жизни она мечтала обрести твердость духа, ясность, уверенность в завтрашнем дне. Величавая красота уральской природы действовала на нее благотворно: «Высокие холмы и леса, наш домик на берегу Камы. По Каме ходят пароходы. Красота, ширь…» Оказавшись волею случая в «прекрасной глуши» (ее собственное определение), она с головой окунулась в неизвестный для нее доселе мир. «Меня все здесь интересует. Разговариваю с бабами», – сообщала она в письме. Она даже стала употреблять несвойственные ей ранее выражения: «Собралась начать писать большую повесть, а что из этого писанья выйдет, знать заранее никак невозможно, как говорят крестьяне». Она продолжила интенсивно работать не только над собственными сочинениями, но и над переводами (переводила Золя, Мопассана, Барбе де Оревильи, Роденбаха), очень переживая, что заказчики не спешат расплачиваться.
Оказавшись в новом для себя месте, Мирэ присматривалась к непривычному для нее окружению. И хотя ее пугали монотонность, однообразие, отсутствие внешних впечатлений, она могла все это принять и счастливо смириться со всем… при одном условии. Этим условием был Он. Безымянный, вымечтанный, неземной, гамсуновский Глан[9] (в письмах она только так его и называет!) должен был осветить ее неприютную, призрачную жизнь любовью, теплотой, человеческой признательностью, доверительными разговорами. Но разговоров как раз и не было. Муж оказался молчуном. Все попытки Александры Михайловны что-либо понять об его отношении к жизни не увенчивались успехом. Он не пускал ее в свой внутренний мир. Да и был ли этот мир у него? По крайней мере, тот, какой был нужен Шурочке! Ведь поместивший в брачной газете объявление агроном в первую очередь, видимо, все же искал хозяйку дома, аккуратную, бережливую женщину, а не экзальтированную особу, помешавшуюся на любви. С мужской точки зрения – это наихудший вид «помешательства»!
Не получив желаемого, Александра Михайловна взбунтовалась. Подробности их расставания неизвестны. Скорее всего, это был взрыв, истерика, резкое неприятие установившейся нормы отношений. Безусловно, свою роль сыграла и душевная болезнь. А может быть, это было не заболевание, а та беспредельная, немыслимая высота требований, которые не «прививаются» к реальной жизни. Ведь свое представление о любви, свой идеал любовного накала переживаний она «без скидок» переносила на взаимоотношения с мужчинами, что и приводило к бесконечным разочарованиям. Если бы ее будущий супруг до того, как «выписывать» себе из Петербурга невесту, удосужился прочитать хотя бы один ее рассказ! Ну хотя бы «Белый ключ» (1910), в котором она заставила пережить свою героиню Ольгу сладостные минуты той настоящей любви, о которой сама мечтала всю жизнь, той, которая для нее всегда была «оправданием и завершением всего, что есть и что будет»[10], то ему бы стало ясно, что от такой женщины надо бежать куда глаза глядят…
Разбитая, опустошенная, она вернулась в Петербург. В ее окружении четко обозначились «мужская» и «женская» трактовки произошедшего: «В Петербурге виделась со всеми. Все женщины говорили, что я хорошо сделала, что уехала, а мужчины (Федор Сологуб и Вячеслав Иванов) сказали, что я была, вероятно, во многом не права…» Она так и не оправилась от пережитого. С этого момента начинаются ее метания. Нигде она не может оставаться надолго. В паспорте появляются штампы разных городов… Ее неотступно преследует чувство вины и раскаяния. Она упорно продолжает анализировать происшедшее… «Я все сама напортила. Мой муж, как я теперь сознаю, очень, очень любил меня, и, если бы я не нервничала и не делала бы таких глупостей и верила бы ему, у нас была бы хорошая жизнь. Какой ужас сознавать это теперь, когда все кончено. Я была тогда под гипнозом недоверия. Нервы много лучше. Теперь владею собой, но боль временами ужасна» (подчеркнуто автором. – М. М.).
Мысль о неосуществленной любви к покинутому Глану терзает ее. Она писала: «Я его очень сильно люблю, всем существом, очень глубоко. В этой любви много мучений, но я, как недавно прочитала в романе Коллет Вилли[11], “не променяла бы этих мучений на самую большую радость”… Помните, я говорила Вам раньше, что хотела бы знать, что такое настоящая любовь, не мимолетное увлечение, а любовь (выделено автором. – М. М.). Теперь я узнала ее…»
Она прибегает к последнему оставшемуся ей средству – работе и неустанно твердит: «Работать, запретить себе думать о любви, забыть о счастье…» И неожиданно делает в творчестве резкий поворот к реализму. Теперь в ее рассказах появляются крестьяне-пасечники, обедневшие дворяне, пейзажи русской стороны. В этих произведениях явно ощущается что-то бунинское, глубоко проникновенное. Казалось бы, очень хорошо: вернулась на землю, обогатилась новыми впечатлениями, начала осваивать новые сферы жизни. Но зачем литературе второй Бунин? И вот парадокс: теперь ее рассказы теряются в массе других. Это среднестатистическая манера русских писателей, демократически настроенных, ищущих основы русского национального характера, вскрывающих язвы жизни, прибегающих к психологическому анализу. Мирэ утратила свою «почву», на которой только и могло взрастать и развиваться ее оригинальное дарование. «Пересаженное» на другую, оно перестало давать плоды. Прежнее ощущается только в ее автобиографической повести «Страницы из дневника», где героиня Лара проделывает тот же самый путь в новый, неизведанный, полный опасностей большой мир, что и Шурочка Моисеева когда-то…
Перенапряжение привело ее в психиатрическую лечебницу, лечение в которой, казалось, принесло плоды: тревога исчезла. Но наступило оцепенение: «Мне сейчас трудно говорить, хочется быть одной, читать, думать». Ей теперь кажется: несмотря на то, что она и ее прежний муж были очень разными людьми, они «могли бы ужиться» и даже хорошо «наладить жизнь». Причиной случившегося она склонна считать те «навязчивые идеи», что овладели ею, закончившиеся, по ее мнению, «чем-то вроде истерического психоза». «Вот в чем ужас», – беспрестанно твердила она. Но на самом деле ужас был в другом: «…я не могу разлюбить теперь и никогда не разлюблю. Я полюбила навсегда, и ужас в том, что все порвано навсегда» (выделено автором. – М. М.). Это итог, к которому пришла в результате размышлений бедная Александра Михайловна. Как-то в начале своего замужества она обронила: «Я узнала любовь, но еще не знаю – для жизни или для смерти».
Обмолвка оказалась пророческой: как-то упала на улице в Москве в обморок неизвестная женщина. При ней не оказалось никаких документов, и ее отвезли в Старо-Екатерининскую больницу для бедняков. Там она в полубреду декламировала стихи, жестикулировала, чем очень веселила окружающих. Вскоре умерла. Пять дней тело неопознанным пролежало в мертвецкой. Похоронили в общей могиле на одном из московских кладбищ. О смерти Александры Михайловны – а это была она – друзья-литераторы узнали только спустя несколько месяцев. Оставшаяся после нее корзина с рукописями и письмами – единственное ее достояние – где-то затерялась. Однако еще год после ее смерти нет-нет да и появлялись в печати рассказы, подписанные знакомой фамилией. Но теперь это было уже нечто невообразимое, авантюрно-приключенческое и залихватское. Какой-то «Капитан Икамура» и какие-то «Документы полковника Фрича»… Воспользовался ли кто-то бумагами из выброшенной корзины? Или прибегнул к известной фамилии, чтобы пробиться в печать? Этого мы никогда не узнаем…
Каков же писательский облик Мирэ? Что это за литературное явление? Она, несомненно, была «одарена настоящим талантом». Но этот «талант настоящий, незаурядный <…> не расцвел», и «талантливая писательница с блестящим, чеканным стилем дала гораздо меньше того, что она могла бы дать при более благоприятной обстановке и при более уравновешенных нервах»[12]. Оформилась точка зрения, что она не сумела окончательно «из трудного и унизительного материала», который представляла ее жизнь, сделать «материал для художественного сплава»[13]. Таков был вердикт ее современников. Сегодня же наследие Мирэ прочитывается как указание на новые открывавшиеся возможности литературы.
Сборник «Жизнь»
Жизнь
Море тихо плескалось у берега.
Беловатая пена взбегала на камни ступенек и прикасалась легким поцелуем к ногам женщины с бледным, холодным лицом.
Глаза стоявшей женщины смотрели вдаль, спокойные и грустные. Там клубились туманы, в потемневшей дали – словно гигантские виденья. И они простирали объятия, они звали к себе.
«Там, должно быть, так холодно, в глубине моря», – думала женщина.
Она сошла по каменным ступенькам ближе к воде. Беловатая пена касалась уже ее платья, и холодные брызги долетали до сомкнутых губ.
Море, казалось, напевало песенку, ласкающую, словно шелест шелка: «Иди сюда! Спускайся ниже, ниже; не бойся холода. Иди своей дорогой – пока не дойдешь к смерти. Эта смерть не страшна, она знает волшебные чары земли. У нее много сладких снов. Холодная и неподвижная пелена вод сомкнется над тобой. Жизнь не посмеет прийти к тебе. Она так зла, жизнь. Вглядись, как много у нее морщин и как накрашено ее лицо! Она обманывает всех людей своим молодым видом, своей поддельной красотой. И она приникает к ним, и она входит в их сердца. Она нашептывает им безумные прекрасные мечты, великие, как мир, ласкаясь к ним, как женщина в минуты страсти».
И женщина спускалась ниже, ниже, с раскрытыми глазами… Жизнь отходила от нее. Смерть прижималась к ней. И еще несколько шагов, незаметных, неслышных…
Ресницы глаз ее отяжелели, все тело вздрагивало, руки прижались к сомкнутым губам.
И ей почудилось, что кто-то ее обнял. Это была Жизнь.
Она шептала: «Не сходи вниз по мокрым ступеням. Там ждет тебя уничтожение… И ты больше не будешь смеяться. Ты знаешь, ведь ничего нет лучше смеха, звенящего перлами радости в воздухе, – нет ничего лучше смеха. Вернись ко мне, ты будешь жить. Слышишь ты эти крики и этот смех людей? Каким безумием и какой гордостью одарила я сердца людей: все они хотят жить. Вернись назад! Я была зла и разбила все то, во что ты верила, чем ты жила. Но у меня их много – прекрасных грез. И знаешь? Ведь нельзя жить одним и тем же, – все делается старым, все разрушается.
Отыскивай же новые пути, пролагай новые дороги к новым звездам.
Вернись… Я обовью тебя, всю, с головы до ног, смеющимися снами. И я зажгу на небе много звезд, которые ты можешь сорвать хоть все, если тебе захочется. Ведь я богата».
Объятие Жизни стало крепче, крепче. Грудь женщины приподнялась широкою волной. Она замедлила шаги, поворотила голову в ту сторону, где жили люди, и медленно стала взбираться наверх.
На мостовой
Тяжелая безжизненная масса, покрытая холстиной с ярко-красными пятнами от просочившейся местами крови, неподвижно лежала на чистых камнях мостовой, блестевших под лучами солнца.
Кругом стояли люди. Ожидали прихода полиции.
– Это – женщина, – ответил кучер компании Урбэн, сошедший с козел своего фиакра и замешавшийся в толпе, – видна одна нога. Если судить по башмаку, то это была бедная, очень бедная женщина.
Башмак был жалкий, некрасивый, с распоротыми швами, с истертыми подошвами. Ступня ноги казалась длинной и широкой, словно распухшей и уставшей от ходьбы.
– Бедная женщина… – задумчиво повторил кучер. – Работала, работала, и вот конец.
– Это прачка Луиза Бошю, господин! – просунула к нему свой острый нос, покрытый рыжими веснушками, торговка зонтиками госпожа Кутан. – Нет, эта не работала. Только под старость ей пришлось… Она была из этого квартала… ходила…
– Ну, тоже нелегкая жизнь, – сказал кучер. – Вот я недавно отвозил одну в депо, хорошенькую, англичанку. А еще раньше мне пришлось везти в участок другую, японку или китаянку, не знаю. Во время выставки. Красивую… Лепечет что-то, плачет… Я ей давал сто су и звал в отель – не хотела. Пришлось ее там сдать дежурному сержанту.
– Чего хорошего! – сказала девушка в капоте и в туфлях на босую ногу: она шла с рынка, где купила кусочек мяса и редисок. – Иной раз и сама бы выбросилась из окна, да у меня ребенок.
– Что тут случилось? – сказала девушка в лиловой кофточке, обшитой белыми воланами. Она была взволнована, с раскрытыми и побледневшими от ужаса глазами.
– Разбилась женщина…
– А-а…
Девушка, казалось, побледнела еще больше и нервно сжала губы. Ее взгляд неожиданно встретился со взглядом блондина в широком бархатном костюме, смотревшего с участием вокруг себя.
– Какая это женщина? – спросил блондин.
– Это прачка Луиза Бошю, – предупредительно ответила мадам Кутан. – Но она раньше не работала. Она была в квартале… по пивным.
«Должно быть, из художников», – мелькнуло в голове у девушки в лиловой кофте.
«Еще ни разу не видал ее в квартале… Кто это может быть?» – подумал блондин.
Их взгляды снова встретились, и в грустном выражении глаз скользнули радость и надежды молодости.
Труп лежал под холстиной, неподвижный и мрачный, равнодушный и к осуждению, и к участию. Солнце светило ярко, играя искрами в витринах лавок и в стеклах фонарей. Из-за угла послышались тяжелые шаги приближавшихся городовых сержантов.
Кучку людей охватило волнение. История одной человеческой жизни окончилась на их глазах.
Блондин и девушка переглянулись снова. Они были бледны, и в их глазах читался ужас и перед шумным и изменчивым, как море, волнующимся возле них Парижем, и перед их судьбой. Они взглянули на убогий труп, и по телу их медленно пробежала холодная дрожь. И у него промелькнул страх за свой талант, охраняемый им с фанатической страстью от грубого насилия жизни. А у нее – страх за свою неопытную молодость и за свои несознанные еще силы.
Кучка людей расходилась.
Труп отправили на носилках в морг.
Скрипач
Из окна старой башни видно только широкое море, голубое, кристальное. И белый парус вдали сверкает – один белый парус.
Старик с бронзовым, строгим лицом смотрит на море и смотрит на парус: он отвернул свои взгляды от города с вереницей дворцов.
– Люди… – И он сжимает бронзовой рукою свой смычок и с силою проводит им по струнам скрипки. Скрипка дрожит и плачет глубокими, страдающими звуками. – Люди… Я все им отдал. Я принес им, как дар, мой талант. И они слушали, и они плакали, и они простирали ко мне свои руки – и они тоже брали свой смычок и играли им, этим смычком, на моем сердце, как на скрипке… Безумец Паганини, ты – не артист. Они – артисты. О, что это была за игра! Мои жилы тянулись, визжали, стонали, мои кости хрустели, и мое сердце разрывалось, разрывалось… Они все взяли у меня и не оставили мне ни одной мечты и ни одной надежды. Они украли у меня даже мой смех и стянули мне губы гримасой презрения. И они говорят мне теперь: иди сюда, безумный Паганини, и забавляй нас…
Голубое, кристальное море волнуется и улыбается в объятии солнца, под дождем поцелуев золотистых, сверкающих искр.
И старик с бронзовым лицом проводит с силою смычком по своей скрипке. В величественной буре криков и взрывов смеха, срывающихся с пробужденных струн, слышно, как сердце бьется, как оно умирает и как оно не хочет умирать…
И потом тихо-тихо плачет последняя прощальная мелодия. Сердце прощается с миром и с жизнью.
И старик, наклоняя печальным движением голову, говорит: «И если сердце мое мертвое вам нужно – я вам отдам его».
Ночь
Лампа спокойно освещала комнату. Ночь глядела в окно.
На постели лежал человек. Все тело его вздрагивало, и ему казалось, что каждый мускул у него разорван и болит. Ему казалось, что его связали, а ему нужно было убежать. Лицо его краснело от усилий, которые он делал, чтобы подняться с постели, и глаза его стали злыми. Что-то стучалось в его дверь, что-то должно было прийти. Он знал, что это будет страшно, и он не мог уйти. И на глаза его навертывались слезы, такие чистые, холодные, и они медленно катились по его бледному лицу. Все усилия были напрасны. Он запрокинул голову, закрыл глаза, и его грудь, казалось, не дышала. Что-то бесформенное появилось у порога его двери.
– Что это там?
– Это мы, люди.
– Ну, зачем вы, зачем вы? – заволновался человек и задрожал. – Зачем?
– Мы пришли, чтобы раскрыть твою душу, чтобы рассмотреть все, что в ней есть позорного, все, что в ней есть преступного. И за все это ждет наказание.
Человек облегченно вздохнул.
– Только за этим? Ну, все взято, осмеяно, растоптано тысячью ног! Больше нечего делать.
И он закрыл глаза.
И у порога его двери появилась новая фигура – определенная, спокойная и светлая. Легкие складки воздушных одежд обвивали красивое стройное тело. И на бледном лице, безмолвном и ясном, блестели глаза. Эти глаза глядели внутрь и ничего не видели вокруг себя.
– Что это там?
– Это я, Одиночество.
– Ты пришло, чтоб остаться со мной на всю жизнь!
– Да, мы будем жить вместе, мы будем совершенствоваться вместе. Будем взбираться на холодные высоты, где погибает все ничтожное, где может жить только великое, только свободное. Будем глядеть глазами внутрь себя, подниматься все выше и выше…
– А что будет потом?
– А потом смерть.
– И только.
И человек закрыл глаза.
Лампа медленно гасла, и окно побелело. Близилось утро, бледное, ничего не обещающее и неясное.
Минуты
Минуты все бегут и все торопятся – такие маленькие, подвижные.
И люди думают, что эти маленькие быстрые минуты – не что иное, как промежуток времени, в который стрелка пробегает от одной черточки к другой.
Это не так. Минуты – это маленькие существа, невидимые, стройные, которые все шепчут, шепчут, – и горе тем, кто не умеет понимать эти почти беззвучные слова.
И, может быть, минуты напоминают своим видом прозрачных бледных бабочек и, может быть, – веселых мух.
Дело не в форме, дело в смысле. Вот бедный перевод того, что говорят они:
Первая минута: «Не забывай же творить мысли! Каждая новая мысль, которую произведет твой мозг, – твоя собственность и твоя радость. Не правда ли, ведь это хорошо, когда твой мозг исполнен радости?»
Вторая минута: «Каждая новая мысль порождает другие проворные мысли. Они сцепляются и обнимаются, как голубые бабочки при утреннем сиянии, как туманы над морем в предутренний час, и поднимаются в мозгу твоем, и возвышают разум твой. Ведь это хорошо, не правда ли, когда высок твой разум?»
Третья минута: «Когда соединяются смущенные, взволнованные вереницы высоких мыслей человеческих, тогда могуче льется жизнь. И создаются тогда гордые науки, великие учения философии и дивные, сверкающие красотой своей искусства. Каждая мысль родит другую мысль, как каждая минута бежит вслед за другой минутой».
Четвертая минута: «Не забывай же творить чувства! Каждое новое чувство – как бы оно ни было мало, нежно и застенчиво, как бы оно ни походило на только что проснувшегося к жизни, разбившего свою скорлупку птенчика, – объяснит тебе что-нибудь в жизни. А разве это не приятно, когда ты будешь объяснять себе своими чувствами ту жизнь, которой ты живешь?»
Пятая минута: «Когда ты будешь объяснять себе своими чувствами, то робкими, то смелыми, ту жизнь, которой ты живешь, то эта жизнь получит для тебя глубокий, важный смысл, великое значение, и ты полюбишь ее телом и душой. Ты будешь понимать и каждую счастливую улыбку, с которой проснешься утром, и все разнообразное в своем ничтожестве, в своем величии дело жизни. Скажи, ведь нужно любить жизнь, раз ты рожден для жизни?»
Минуты все бегут и все торопятся. И маленькая стрелка весело перебегает от одной черточки к другой.
Беппо
Беппо лежит на берегу под солнцем. Горячие лучи скользят и прыгают по его смуглому коричневому телу, словно стараясь сделать Беппо негритенком.
А какое же дело до этого Беппо? Лишь бы было тепло… Он жмурит свои черные глаза и шевелит губами.
На светло-голубом прозрачном фоне моря выделяется резким живым силуэтом обнаженное темное тело отца Беппо, Джиованни Паччини. Он собирает под камнями на дне морском морские фрукты.
Беппо знает, что старый Джиованни подойдет к нему скоро, и даст ему пинка, и скажет:
– О, Беппо, ленивый мальчишка…
Беппо с презрением вытягивает губы и свистит. «Велика важность…» Он тоже занят делом: он думает. И взгляд его теряется с любовью в безбрежной дали.
«И велико, должно быть, море, – думает Беппо. – Есть ли ему конец? Доменико, матрос, говорил, что конец моря есть, что море упирается в гигантскую и почерневшую от времени скалу, а за скалою – пустота, ничего нет… И только ветер плачет на пустоте, потому что он хочет прорваться сквозь скалы и разметать, разбить все корабли на море… Но Доменико лжет: он лгун».
И Беппо задумчивым жестом взбивает вьющиеся волосы над низким лбом. «Я должен сам увидеть конец моря», – решает он.
Дзинь, дзинь, дзинь… – звенят невдалеке играющие колокольчики, подвешенные к упряжи осла, которого мать Беппо, черноволосая упрямая Кристина, погоняет на рынок с тележкой лимонов и фиг.
– Я должен сам увидеть конец моря, – повторяет задумчиво Беппо с величественным и широким жестом рук. – А ведь какие чудеса рассказывал мне дядя Карло о пиратах… Вот была жизнь! – Беппо щурит глаза, зубы его блестят под толстыми губами. – Разыгралась великая буря, и небо стало черным, и море стало черным, и ничего не было видно. И тогда полетели по морю, по холодному черному морю, отважные и грозные пиратские суда…
Дзинь, дзинь, дзинь… – долетают уже издали колокольчики.
– И пираты и режут, и рубят, и жгут, и забирают золото, и забирают женщин. А буря свищет, рвет паруса с судов и топит, забавляется. Она недобрая, жестокая, эта черная буря. Она любит смеяться над горем… Вот зачем только женщины нужны пиратам? – Взгляд Беппо выражает удивление. – Зачем они?
– Беппо, отверни нос от солнца… лентяй! – кричит старый Джиованни; его фартук, подвязанный к поясу, переполнен, а длинные, худые руки все тянутся и тянутся, все ищут, ищут…
– Я хочу быть пиратом! – И Беппо воинственно приподнимает голову. – Пиратом… Меня будут бояться… Эта старая ведьма Марианна уже не притронется к моим ушам…
Беппо смеется, и вдруг лицо его как будто омрачается, и он печально жмурит брови. – А дядя Карло мне рассказывал, как пираты убили собачку. Собачку, белую… с живыми человечьими глазами… И она плакала, плакала белая собачка… Нет, нет! Я не могу убить собачку… – И лицо Беппо омрачается: его планы о будущем рушатся, и его яркая судьба бледнеет.
Глаза его полузакрыты под длинными ресницами, и лоб нахмурен. Беппо думает, думает…
– Художником… – бормочет он. – Я буду рисовать картины. Я много видел их, художников, с широкими зонтами. Они садятся и рисуют. Всё рисуют: и улицы, и море, и людей. Пойду-ка я учиться рисовать у старого Сантини… – И прозрачные тонкие ноздри Беппо дрожат. – И будут все кричать: «Беппо Паччини… Беппо Паччини»…
– О, Беппо… ленивый мальчишка… – Старый Джиованни дал ему пинка. – Иди домой обедать. Нужно же чем-нибудь набить живот.
Глаза Беппо широко раскрыты. Они видят уже, как Сантини, Марианна, и отец, и все оборванные, грязные мальчишки из квартала Санта-Лючиа стоят возле него с открытыми от удивления ртами.
Он поднимает голову, и из его смеющегося рта вылетает торжественный крик: «Да здравствует Беппо-художник!»
В лесу
О’Донован подходит близко к дубу, срывая с него ветку.
– Среди людей зеленый цвет считается радостным цветом надежды… И я говорю вам, друзья, надежда не должна покинуть нас, если мы не уйдем из строя.
В его голосе резко звучит холодная уверенность и сила; он низко сдвинул на лоб свою шляпу, чтобы скрыть от друзей измученный блеск своих глаз.
– Наша месть, наша жажда свободы должны быть поставлены нами выше всех человеческих чувств. Это древний закон, звучащий так грустно на длинном протяжении веков – око за око… Мир живет и живет, уничтожаются и возрождаются великие народы, и вместе с миром живет этот закон – гордый закон гордых людей! Не устрашимся этим, раз примирения не может быть. На событие шестого мая в Феникс-парке из Лондона ответили судами без присяжных. В добрый час! Борьба организуется жестокая: когда победа будет за одною из сторон, то другая, разбитая, будет лежать беспомощно, без голоса, как побежденный гладиатор. Мы поднимемся снова над Англией, как грозовая туча, хранящая в себе губительные молнии возмущенного чувства и мести. Будем надеяться: победа будет наша – за нас Ирландия!
– Без святого Патрика! – насмешливо и грубо бормочет высокий рабочий. – Ирландия за нас, но без Патрика!
– Я не согласен с вами, О’Донован! – Задумчивые, серо-голубые глаза упрямо смотрят из-под сдвинутых бровей. – Строго легальная, спокойная борьба, когда мозг холоден, когда он ясно и расчетливо выбирает пути, по которым должна идти партия, которая в конце концов всегда восторжествует после упорного труда, – гораздо выше и честней, чем это страшное и возмутительное corps à corps, которое вы предлагаете…
Ряды сомкнувшихся людей в тревоге переглядываются и шевелятся.
– Гомрулер… Гомрулер…
Листья старых ирландских дубов шелестят тоже со скрытой угрозой, и они шепчут в шуме листьев:
– Нет! Нет! Бороться! Бороться или умирать…
Лицо О’Донована блекнет, и резкая глубокая морщина прорезывается между бровей.
– Иной борьбы не может быть! Парламентская борьба ни к чему не приведет. Аграрная лига, поддерживаемая и подкрепляемая пассивным молчаливым сопротивлением всего народа, – это абсурд. Это значит – играть свою игру в пользу врагов. Нет! Ведь мы не шахматные игроки, мы не атлеты в цирке – и мы должны идти наверняка к победе. За нашими спинами стоит Ирландия, протягивая к нам свои измученные руки, стремящаяся, жаждущая своего освобождения, родная Ирландия! Долой же бесполезную политику гомруля! Вперед!
– Вперед! Вперед! – с одушевлением кричит толпа, обрывая зеленые ветки.
– А если я им говорю, как шахматный игрок? – бормочет с горечью О’Донован. Он вытирает капли пота с крутого лба и медленно протягивает руки.
– Вокруг этого леса и дальше, до границ моря и земли, лежит наша родная земля. Она во власти англичан. Наш бедный «картофельный» народ страдает под игом английских лендлордов… А, черт возьми! Но наши крепкие ирландские желудки прекрасно могут переваривать и всякую другую пищу, питательней картофеля! Друзья мои, последние усилия, и наши окровавленные руки принесут сюда, в нашу родную Ирландию, – спокойствие, и благосостояние, и свободу! Долой же Англию! Мы забросаем англичан таким картофелем, что они нам уступят поле битвы без боя…
В стремительном движении толпа приподнимает руки, украшенные зеленью ветвей.
– Долой картофель!
– Я хочу… – Голубые большие глаза смотрят с грустью и твердо.
Разъяренные, резкие крики толпы отвечают ему и словно вдавливают ему в рот не прозвучавшие еще слова:
– К Парнелю! К Парнелю! Убирайтесь к Парнелю!
Деларош
Письменный стол простого дерева завален ворохом газет.
Приближаются выборы, и имя Делароша будет снова с проклятием и ненавистью волочиться в грязи.
Деларош выпрямляет согнутую спину и поводит плечами.
Опять поднимутся все грязные истории о его личной жизни, зашипят всюду сплетни о безнравственности Делароша, и о его продажности, и о его несуществующем богатстве.
– Деларош? Знаете эту ужасную историю с женщиной? Он обманул ее. Она ужасно умерла.
Деларош нервно закидывает голову, его взгляд вспыхивает вдруг недобрым огоньком. Он захотел быть выбранным во что бы то ни стало назло всем этим крикунам.
Это длилось секунду, и спокойствие снова сошло в его душу. Быть выбранным или не быть выбранным… Ведь важно только иметь возможность приводить в жизнь тем или иным путем свои идеи.
Он начинает перебирать газеты.
Газеты националистов… Он откладывает их в сторону. Там слишком много грязи; иногда кажется, что руки пачкаются от прикосновения к газете. Перед его глазами мелькнула короткая статья, подписанная именем Рошфора; он отбрасывает газету, и рука его вздрагивает. Может быть, «этого» он не хотел иметь в числе врагов, среди всей этой клики.
Его взгляд останавливается на маленькой газетке под названием «Дядя Легранж». Он пробегает первую статью.
«… Провал Делароша на выборах будет для него счастьем. Он избавится этим от необходимости чесать языком в палате перед собранием буржуа. Он займется серьезным делом народных масс».
Деларош улыбается. Он знает, кто написал эту статью. Это Бюфон, редактор «Дяди Легранжа». Он его видел на одном из собраний. Бюфон стоял там в стороне, неловкий и смущенный, в своем длинном пальто, глядя вокруг себя своими карими глазами, красивыми и нежными, как глаза женщины. Он говорил кому-то из товарищей своим тихим, тихим, почти доходящим до шепота голосом: «Я не люблю ораторов. Это какие-то кривляющиеся изломанные арлекины, которые играют своим даром перед толпою, как актеры, чтобы заслужить ее рукоплескания. Я не люблю их еще потому, что они приближают так близко отдаленное, что они лгут».
Деларош снова улыбается: ему припомнились и слова Ницше – «Les poetes mentent trop».
Он встает с кресла и тихими шагами ходит по кабинету.
Оратор соприкасается так близко с массой, – думает он, – так близко от себя он видит серьезные глаза, смотрящие на него с верой, он почти слышит, как бьется множество сердец. И он волнуется, красивыми и вдохновенными словами он приближает отдаленное, он называет завтрашним будущий век. Но лжет ли он? Лгал ли он сам?
И Деларош прислушивается к биению своего сердца.
Нет, он не лгал. Ведь он в минуты вдохновения сам верил в то, что говорил. И не так важно, завтра или позже великие идеи войдут в жизнь. Важно то, чтобы эти идеи все приближались.
Он снова начинает перебирать газеты. А! Вот…
Перед ним статья, написанная резко, сжато, холодно. Он пишет так, как говорит, – глава одной из групп громадной партии и самой узкой группы.
Доктринер, не видящий ничего в мире, кроме своей доктрины. Это его усмешка. И Деларошу кажется, что он сам видит, как узкая рука с длинными пальцами пишет эту статью.
«…Деларош? Но ведь известно, что Деларош пришел к идеям демократии недавно, – что он пришел к ним, удалившись из самого сердца либерального лагеря. И декадантская, неясная окраска этого лагеря осталась крепко-накрепко приклеенной к его коже. Деларош… Перед ним преклоняются все за его громкий голос, которым он взывает к справедливости. Но Деларош все же – не человек партии. Он отдельно стоит…»
Деларош поднял голову.
– Все то же и то же. К соглашению мы не придем. Сворачиваю ли я в сторону, чтобы помочь возвысить униженное, попранное человеческое достоинство «одного из людей», – они меня упрекают за это. Стою ли я на стороне соединения политической программы с экономической – они меня упрекают за это. А между тем мой взгляд всегда приподнят и всегда видит тот идеал…
Его небольшие глаза под припухшими красноватыми веками вспыхивают неровным стальным блеском. Он забывает про статью.
– И этот идеал так необъятен, так велик!
– Ну, что же? – говорит он спокойно своим любимым сильным жестом. – Будем бороться!
И Деларош подходит медленно к окну и долго смотрит в сторону Латинского квартала. Ему кажется, что оттуда широкой и светлой волной льется что-то могучее, новое – новая жизнь, будущее страны.
И там дальше, дальше – на высотах Монмартра, начинает упрямо светиться какой-то новый, свободный и не покоряющийся силе ветра огонек.
А еще дальше, на окраинах Парижа, медленно думает, и развивается, и созревает население фобургов.
На высоте
Тихо-тихо взбирается он по дороге – все выше и выше.
Никого нет на этой дороге, покрытой белыми, играющими пятнами серебряного солнечного света.
Он – один. И он спокойно выпрямляет свой худощавый, слегка сутуловатый стан и смотрит вверх своими близорукими глазами.
Спокойствие сверкающего утра и одиночество так полно, так гармонически сливаются с ним – одиноким всегда и везде.
– И не нужно, не нужно людей, – говорит он. На него прямо смотрит солнце – одинокое солнце, блистающее в голубом огне. И солнце говорит ему:
«Уходи, уходи от людей! Ты их не любишь… И я не люблю тоже облака и тучи, которые скользят по небу и затемняют царственный мой образ.
Поднимайся все выше и выше, к спокойным высотам, – туда, где нет людей, нет человечества, где ты будешь один.
На этой высоте твой ум будет блистать такой кристальной чистотою, как алмаз, – к нему не будет долетать ни пыль, ни смрад, ни копоть от жизни городов.
Ты не создан быть «братом» и участвовать в братстве людей. Ты создан, чтоб быть одиноким, великим и подниматься выше, выше от человечества и ближе к солнцу.
Тебя не могут упрекать. С высоты вниз в долины слетит могучий отголосок твоего смеха – такого чистого, как детская улыбка утра при его пробуждении.
И отголоски твоего кристального смеха сметут пыль и разгонят смрад и копоть больших городов. В очищенном и освеженном воздухе у людей будет лучше зрение, и они разглядят из долины твои высоты и тебя.
И пойдут одинокие люди взбираться по следам твоим. Они будут взбираться твоими рабами – на высоте же будут равными тебе.
И они тоже будут посылать в долины кристальный смех. Ты видишь, упрекать тебя нельзя; поднимайся же выше и выше».
И он взошел на высоту.
До него донеслись тогда крики людей – крики людского страдания и боли.
Он наклонил свой царственный высокий лоб, и его сердце тоже вздрогнуло от боли.
Он сказал солнцу:
«Нет, я – не солнце. И у меня в груди бьется живое человеческое сердце, родившееся на родной земле».
Наклоняя свой лоб над долинами, он сказал:
«Поднимайтесь! Идите, идите… Я помогу вам взбираться на скалы, оберегу вас от хищных зверей, от миазмов болот, – от вашей слабости оберегу вас тоже.
Тут воздух холоден, суров, но я буду дышать с такой страстной, горячей любовью – и на высотах потеплеет».
Среди болот
Я искал свое счастье повсюду, и я нашел его на дне серебряного озера.
Но как его достать?
Оно лежало там, покрытое густыми и растрепанными водорослями, среди которых спали рыбы, белыми раковинами и желтыми песками.
А воды озера были всегда печальны, неподвижны… Когда случайно лунный луч со звоном падал на поверхность озера, рассекая его золотистою раной, – оно как будто вздрагивало, пробужденное от сна, и потом снова затихало.
И я ходил, не зная отдыха, взволнованный, встревоженный и потрясенный… Я ходил вокруг тихого озера широкими и сильными шагами и громко, жалобно кричал:
– Зачем ты спряталось так далеко, мое счастье… мое светлое, чудное счастье… Как бы я крепко обнимал тебя, как бы я нежно целовал тебя, если бы ты пришло ко мне! Я был бы твоим преданным рабом, и был бы твоим кротким господином, если бы ты пришло ко мне… Ты, должно быть, так дивно красиво! Ведь правда? У тебя золотые прекрасные руки с раскрытыми и щедрыми ладонями… У тебя золотистые кудри, беспомощно разбросанные по плечам и ждущие короны… И твое милое лицо так нежно, такая светлая улыбка дрожит всегда на твоих розовых губах… У тебя хрупкое живое тело, которое я все покрыл бы поцелуями, если бы ты пришло ко мне!
Так я кричал, расхаживая возле озера широкими шагами и нахлобучивая смелым жестом свою истрепанную шляпу на распавшиеся кудри…
И когда мне казалось, что счастье мое может прийти ко мне на зов мой, я от радости широко раскрывал свои объятия.
И я ходил тогда возле серебряного озера, подпрыгивая, словно школьник, подбрасывая свою шляпу, и с звонкой радостью кричал:
– Ко мне! Ко мне!
Зловещее, угрюмое болото, раскинувшееся вокруг меня, с насмешкой повторяло этот крик:
– Ко мне! Ко мне!
Проклятые болота… Я их глубоко ненавидел. Всегда такие мутные, всегда такие грязные, – они лежали в сыром воздухе, как сытая, довольная, упившаяся грязью свинья.
Я не любил эти болота. Но когда взгляд мой отрывался хоть на мгновение от серебряного озера с его воздушными голубоватыми струями, то он встречал всегда эти ужасные и безобразные пространства, покрытые бесстыдной грязью.
Проклятые болота… На них росли цветы, лиловые печальные цветы, волнуемые легким ветром.
И цветам было скучно. Когда я приближался к ним, они печально улыбались мне своими светлыми глазами и ласково шептали мне безумные слова об одном, лишь одном поцелуе…
Как я брезгливо поводил тогда плечами, моими стройными широкими плечами юности… И уходил от них. Цветы с болота…
И снова я мечтал о моем, притаившемся так далеко, милом счастье с кудрями. И, как влюбленный юноша, я повторял:
– Мое… мое… мое…
Солнце светило и уходило. И много-много раз Аврора с розовыми крыльями и с жгучей улыбкой отдергивала и задергивала полог у постели солнца.
И шаги мои делались медленней. И мои кудри уже не так обильно вились под моей старой шляпой. И даже иногда боялся я, что у меня не будет сил обнять так крепко мое счастье, как обещал ему…
Мне было холодно. Я стал чертовски зябким с недавних пор. Бывало, кровь клокочет и кипит… А теперь под плащом моим холодно.
И плащ мой как-то постарел, осунулся. Я много уже раз чинил его, сидя на сыром камне.
Когда я прикасался рукой ко лбу, то под моими пальцами сердито бороздились морщины кожи.
Было невесело вокруг. И я с презрением глядел на тусклые болота с качавшимися кое-где лиловыми цветами и говорил:
– Вам хорошо лежать и киснуть. У вас нет счастья. А у меня ведь есть оно… Оно лежит на дне серебряного озера. И я его люблю, люблю…
По болотам шагали вблизи меня длинноногие цапли. Они глядели на меня и говорили мне:
– Оно тебя не любит, твое счастье. Полюби нас или зеленых, квакающих по ночам лягушек.
Я им не отвечал. Я низко надвигал на лоб мою изношенную шляпу, я опускал глаза и с сжатыми печальными губами ходил возле серебряного озера.
Была ночь… Наклонилось темневшее небо над заснувшей землей… И облака скользили медленно, торжественно, словно покрытые попонами и медленно идущие спокойными шагами лошади в похоронной процессии…
«Хоронят там кого-нибудь?» – подумал я.
И когда я подумал о смерти, то мне сделалось страшно.
Мое озеро было холодным и темным. И вдруг я явственно увидел, как стали зажигаться на дне его веселые и яркие огни.
Мое счастье устроило праздник… Мое счастье готово прийти.
Как горели огни в темном озере! Как хорош был ночной пир огней!..
Я не знал, сколько богатств хранит у себя счастье. Я не знал, что у него так много рубинов, напоенных кровью, и вздрагивающих от радости топазов…
Огни горели медленно, торжественно…
И прошла ночь. И наступило утро.
Утро было печальное…
Когда же я, измученный нетерпеливым ожиданием, полузамерзший, подошел к воде, чтобы наконец достать его, обнять его, мое капризное и не дававшееся мне так долго счастье, то я увидел в озере лицо свое…





























