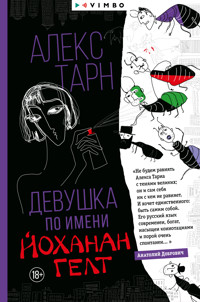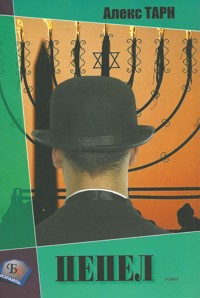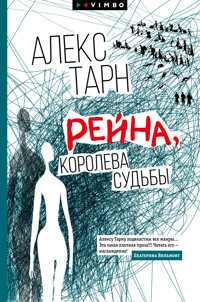Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Имена. Российская проза
- Sprache: Russisch
Увлекательный саспенс и интереснейшие философские размышления, эпический размах и пристальное внимание к судьбе каждого героя, живые, остроумные диалоги и неповторимая авторская интонация — все это вы найдете в романе Алекса Тарна «Четыре овцы у ручья». Джамиль Шхаде, один из главарей Хамас, умен, коварен и безжалостен. Кэптэн Клайв, офицер Шерута, не уступает ему в уме и проницательности. Он идет за Джамилем шаг в шаг, найти и обезвредить его — дело чести. Но у Клайва есть слабое место — Лейла, сестра Джамиля. Брат использует ее как «живую бомбу» и подсылает к врагу. Но все идет не по плану: вмешивается любовь. А она, как известно, не берет в расчет геополитику. Это могла бы быть история Бонни и Клайда. Или — более романтично — Ромео и Джульетты. Но стала историей Клайва и Лейлы, не похожей ни на какую другую. Но для тех, кто знает притчу о четырех овцах, в финале этой истории нет ничего неожиданного — напиться из ручья и уцелеть смогла лишь та овца, что помнила об осторожности. А всем известно, что как раз это — самое сложное.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
12+
Алекс Тарн
Разработка серийного оформления и дизайн обложки Юлии Стоцкой
Издание подготовлено при участии Литературного агентства «Флобериум»
Тарн А.
Четыре овцы у ручья : роман / Алекс Тарн. — М. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (Имена. Российская проза).
ISBN 978-5-389-26096-2
Увлекательный саспенс и интереснейшие философские размышления, эпический размах и пристальное внимание к судьбе каждого героя, живые, остроумные диалоги и неповторимая авторская интонация — все это вы найдете в романе Алекса Тарна «Четыре овцы у ручья».
Джамиль Шхаде, один из главарей ХАМАС, умен, коварен и безжалостен. Кэптэн Клайв, офицер Шерута, не уступает ему в уме и проницательности. Он идет за Джамилем шаг в шаг, найти и обезвредить его — дело чести. Но у Клайва есть слабое место — Лейла, сестра Джамиля. Брат использует ее как «живую бомбу» и подсылает к врагу. Но все идет не по плану: вмешивается любовь. А она, как известно, не берет в расчет геополитику.
Это могла бы быть история Бонни и Клайда. Или — более романтично — Ромео и Джульетты. Но стала историей Клайва и Лейлы, не похожей ни на какую другую.
Но для тех, кто знает притчу о четырех овцах, в финале этой истории нет ничего неожиданного — напиться из ручья и уцелеть смогла лишь та овца, что помнила об осторожности. А всем известно, что как раз это — самое сложное.
© Тарн А., 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024Издательство АЗБУКА®
1
— Рабби… рабби…
Я делаю вид, что не слышу, ведь только-только удалось согреться и почувствовать тепло в ногах. Мне не хочется шевелиться, чтобы не упустить долгожданное ощущение уюта, которое, как дикая уличная кошка, постоянно норовит выскользнуть наружу — в каменный холод иерусалимской зимы. Когда строишь кокон из дюжины дырявых байковых одеял, то, сколько ни подтыкай-подтягивай, неизбежно остаются щели. В них-то уют и выскакивает. Уют выскакивает, кашель возвращается.
— Рабби… рабби…
Судя по голосу, это Меир, называющий себя моим учеником. Теперь ученик еще и постукивает по стене, чему я его точно не учил. С этой целью Меир самостоятельно отыскал и положил возле ниши небольшой, но очень звонкий камень величиной с кулак. Каждый раз, выходя наружу, я борюсь с искушением отфутболить эту чертову стучалку куда подальше — борюсь и побеждаю, как обычно. У меня хорошо получается бороться с собой. Думаю, я один из лучших в мире мастеров этого вида боевых единоборств — не ниже черного пояса. Точнее, серого — по цвету опоясывающих меня байковых одеял. А в случае с камнем Меира мне даже не приходится особенно напрягаться для победы. Во-первых, жаль человека: не найдя своего инструмента, бедняга будет стучать в стену костяшками пальцев и непременно поранится в кровь. Во-вторых, через день-другой он все равно принесет новый каменный кулак взамен отфутболенного. И в-третьих, мой самозваный ученик так или иначе продолжит надоедать мне — с камнем или без камня.
Тук-тук. Тук-тук.
— Войди! — сдаюсь я.
Меир, как всегда, входит в три приема. Сперва отодвигает край тяжелой прорезиненной шторы, которая отгораживает нишу от улицы, и с полминуты почтительно смотрит в щелку. На следующем этапе он просовывает в щель голову и крутит ею туда-сюда, как будто проверяя, все ли в порядке. Не вознесся ли я на небеса? Не появилось ли здесь за время его отсутствия еще одного мастера боевых единоборств? Не увеличилась ли ниша каким-нибудь волшебным образом? Убедившись, что ответы на эти и подобные им вопросы одинаково отрицательны, Меир наконец просачивается в крошечное пространство, свободное от магазинной тележки с вещами, стопок книг, листов гофрированного картона и толстого кокона дырявых байковых одеял с человеческой начинкой-личинкой внутри. Таковы моя роль и мое назначение: личинка. Я — всего лишь личинка, хотя Меир зовет меня великим рабби-чудотворцем и твердо намерен убедить в этом весь остальной мир. Минуту-другую он стоит неподвижно, поблескивая глазами в скудном свете масляной лампы.
— Как себя чувствует великий рабби? — спрашивает Меир, ощупывая заботливым взглядом мое лицо, вернее оставленную на съедение холоду узенькую полоску между байковым коконом и старой солдатской шапкой-ушанкой. Все в этом мире нуждается в питании — даже холод.
— До твоего прихода все было хорошо, — отвечаю я. — А что будет дальше, одному Богу известно.
Меир страдальчески кривит лицо. Он искренне полагает, что действительно станет учеником, если будет вести себя со мной как испуганный школьник с учителем. Сколько их было таких — не сосчитать. Человеческая память хранит лишь немногие имена: Элазар, Хаим, Натан… а теперь вот Меир. Как и его предшественники, он непрерывно строчит что-то в своей тетрадке с нескрываемым намерением издать потом книгу божественных откровений «великого рабби». Потом — это после моей смерти, когда уже некому будет возмутиться и опровергнуть написанную там чушь. К сожалению, ждать ему осталось недолго. Мне уже тридцать восемь, а личинки этого вида, как правило, не дотягивают до тридцати девяти.
Меир покаянно шмыгает носом.
— Я бы никогда не осмелился нарушить покой великого рабби, но тут особенный случай… — скороговоркой произносит он и продолжает послесекундной паузы: — Спасение жизни! Даже двух: роженицы и ребенка!
— Твоя жена снова рожает?
— Нет-нет! — восклицает ученик. — Моя Двора, слава Создателю и великому рабби-чудотворцу, благополучно разрешилась от бремени полгода назад. Речь не обо мне, а о другом человеке. Он ждет снаружи и молит Всевышнего, чтобы великий рабби согласился принять его прямо сейчас. Дело не терпит отлагательств.
Я с трудом перебарываю вспышку гнева: справиться с таким противником нелегко даже обладателю серого пояса.
— Сколько раз тебе повторять: перестань водить ко мне просителей! Я не могу им помочь. Я не чудо-врачеватель и не специалист по бесплодию. Я личинка, слышишь? Личинка!
Меир часто-часто кивает, явно пропуская мои слова мимо ушей. Парадоксальным образом, чем чаще я говорю о своей ничтожности, тем сильнее он убеждается в моем величии. К сожалению, этот парадокс работает только в одном направлении: если я, напротив, стану утверждать свою беспрецедентную гениальность, мой так называемый ученик придет в еще больший восторг поклонения. Лучше не говорить вообще ничего, и я умолкаю. Впрочем, из усмиренного гнева тоже можно извлечь кое-какую пользу: как и всякая вспышка, он генерирует тепловую энергию, так что я окончательно согреваюсь в своем коконе.
— Да простит меня великий рабби, но я решил, что это особенный случай, — с унылой непреклонностью мямлит Меир. — Человек в полном отчаянии. Жена никак не может родить вот уже третьи сутки. Муки ужасные. Врачи — полные дураки. Он уже все перепробовал, звал разных докторов-профессоров, ничего не выходит. И вот кто-то посоветовал ему обратиться к великому рабби. Кто-то, кому великий рабби когда-то помог…
— Никому рабби не помогал! — рявкаю я. — И никакой он не великий! И не рабби вообще! Оставьте меня… его… меня… Оставьте меня в покое!
Пока я путаюсь в местоимениях, Меир часто-часто кивает в знак заведомо непреклонного согласия с каждым моим словом, но при этом не намерен сдвинуться ни на миллиметр.
— Да простит меня великий рабби, — продолжает он, зачем-то перейдя на шепот, — но этот несчастный не из тех, кто ходит к каббалистам и ездит на святые могилы. Он из образованных и, по-моему, вообще не носит кипы, прости господи… Если уж такой человек решается припасть к ногам великого рабби, то, значит, совсем припекло. Может ли великий рабби прогнать человека в подобном несчастье?
И я снова сдаюсь: просто не могу вынести такое количество обрушившихся на меня «великих рабби», не говоря уже о том, что очень неловко перед отчаявшимся человеком, который покорно ждет под дождем.
— Хорошо, зови. Или нет, подожди. Не зови, просто отодвинь занавеску. У него ведь есть зонтик? Пусть остается снаружи.
— Откуда великий рабби знает про зонтик? — восторженно шепчет Меир. — Хотя чему я удивляюсь…
Мне остается только вздохнуть: сам того не желая, я подарил восторженному «ученику» еще одно доказательство своей чудотворной прозорливости. И пусть нет ничего сверхъестественного в предположении, что в дождливую погоду люди пользуются зонтом, — Меира вовсе не волнуют соображения элементарной логики. Вернувшись домой, он достанет заветный блокнот и опишет этот случай своими словами, подключив к делу еще и буйное воображение. Дождь в его пересказе превратится в морскую бурю, иерусалимская улица — в гибнущий корабль, а скромный зонтик — в спасительную лодку, посланную великим рабби-чудотворцем на помощь тонущему бедняге. Но что я могу с этим поделать? Ничего. Ровным счетом ничего, разве что вздохнуть.
Итак, я вздыхаю и сдвигаю с подбородка верхний край кокона, потому что меня уже бросает в жар от всей этой дурной и бессмысленной суеты. Или, что вернее, от болезни, убивающей таких личинок, как я. Личинка и личина — эти два слова почти не отличаются друг от друга. Если надо поддержать впавшего в отчаяние человека, даже личинке не грех натянуть на себя личину «великого рабби». Что я и делаю, но Меир по-прежнему мнется, жмется и не двигается с места.
— В чем дело, Меир? Я сказал тебе отодвинуть штору.
— Великий рабби помнит, что снаружи льет как из ведра? Дождь попадет сюда, замочит вещи, книги, одеяла…
Вещи, книги, одеяла… Что за ерунда… Вещи высохнут, одеялам не помешает стирка, а книгам уже ничего не страшно. Книги уже умерли однажды от стыда за людей, когда наследники умерших стариков, едва отсидев шиву, выставили эти некогда прилежно хранимые тома на улицу, к мусорным бакам. Выбросили, чтобы освободить место на полках для бессмысленных сувениров своего бессмысленного шатания по модным туристическим тропам. Для древесной маски из Африки и гипсовой маски из Венеции. Для стеклянных шаров с аляповатыми моделями Китайской стены и мексиканского зиккурата. Для расчески Поттера и парика Элвиса. Для синайской дарбуки, индийского барабана, индонезийского калебаса и прочего бесполезного мусора, унижающего человеческий глаз. А книги… книги отправились на помойку ввиду полной ненадобности.
Там, возле баков, я и подбираю эти бумажные трупики — стопками, сколько могу унести, вернее, увезти в своей тележке, которая напоминает в такие моменты похоронную телегу в разгар чумы. Я не тешу мертвецов иллюзией возрождения, так что вряд ли их теперь испугают брызги дождевой воды, тем более что многие тут уже прошли через ливень-другой. Напротив: униженные позором радуются потопу. Нет-нет, обитатели ниши не боятся дождя.
Но есть и другие причины, по которым я прошу отодвинуть штору. В тусклом свете лампады не видно лица, а мне хочется получше разглядеть своего просвещенного современника, который настолько отчаялся, что пришел за помощью к бомжу, да еще и не просто к бомжу, а к бомжу-чудотворцу. Кроме того, внутри не слишком хорошо пахнет: бомжи редко моются. Стыдливость — одна из немногих человеческих слабостей, которую личинке так и не удалось задушить серым мастерским поясом.
— Меир, сейчас же отодвинь штору! — командую я. — Отодвинь штору или проваливай отсюда вместе со своим протеже!
Сокрушенно покачав головой, Меир берется за нижний угол занавески и задирает его. Поскольку закрепить занавеску в таком положении нечем, он вынужден остаться в этой неудобной позе, напоминая то ли железнодорожный семафор, то ли стоячую вешалку, то ли безмолвного атланта, поддерживающего небесный свод моего мира. Долго ему так не продержаться, что, безусловно, совпадает с моими интересами.
В открывшемся светлом треугольнике я вижу переулок, уходящий вниз к улице Агриппас, вижу блестящие от дождя бугристые стены, вижу бегущие по мостовой струйки воды и тесно припаркованные у противоположного тротуара горбатые автомобили. Меир, как обычно, преувеличил: льет не так уж сильно, совсем не как из ведра. Во время среднего иерусалимского ливня эта улочка превращается в горный ручей, а уж когда в небесном Иерусалиме прорывает трубу, поток и вовсе поднимается выше тротуара, затопляя эту нишу, листы гофрированного картона, книги и кокон. Но это случается не так часто, не каждый год. Скорее всего, я умру раньше, чем на город снова налетит по-настоящему большая буря. Мне неприятно думать об этом, глядя на скромные, не по-иерусалимски умеренные ручейки. Неужели личинке не суждено хотя бы еще разок порадоваться оглушительной сшибке беременных грозой облаков, ветвистой молнии на полнеба, хлещущим водопадам переулков и полноводным рекам улиц?
Я поднимаю глаза от мостовой и утыкаюсь взглядом в человека с зонтом. Он невелик ростом — чуть ниже среднего — и хорошо одет: крепкие ботинки на толстой подошве, модные джинсы, модная куртка, модные очки. К светлым прямым волосам пришпилена черная кипа — из тех, какие раздают гостям на богатых свадьбах. Кипа торчит неуместным горбом, как седло на собаке, и, видимо, вынута из автомобильного бардачка, где лежала вместе с другим случайным хламом, специально по случаю визита к «великому рабби». Типичный инженер или программист из хайтека — успешный, много зарабатывающий, просиживающий по десять-двенадцать часов в сутки за монитором и еще по полтора-два часа в автомобильных пробках. Работа, тренировочный зал три раза в неделю, утренняя пробежка, вечерний телевизор, на выходных — велосипед, барбекю с армейскими приятелями и клуб с оглушительной музыкой.
На вид гостю лет тридцать пять, он немногим младше меня, но выглядит совершеннейшим младенцем. Что неудивительно: при таком режиме человеку некогда притормозить, чтобы подумать. Просто подумать — о чем угодно, необязательно о смысле безостановочной беготни, которая заглатывает его, как питон теленка. Разница лишь в том, что заглатываемый теленок знает о своей участи, а этот несчастный ошибочно полагает, что жизнь удалась. Так он полагает — притом что на самом деле челюсти уже сомкнулись над его головой, и, скованный железными мышцами повседневности, он совершает бесчувственное движение по змеиному пищеводу в направлении змеиного заднего прохода, откуда лет через сорок-пятьдесят выпадут ботинки, очки, одежда и прочие несъедобные приложения.
Странно ли, что при столкновении с реальностью этот на четверть переваренный бедняга понятия не имеет, как поступить, к кому бежать, какие молитвы повторять? Я вижу его насквозь: чтобы понимать телят, не требуется быть «великим рабби», достаточно выплюнуть жвачку, поднять голову от травы и годик-другой понаблюдать за стадом и за самим собой. Растерянность в глазах гостя сменяется страхом, и он опускает взгляд.
— Не бойтесь, — говорю я. — Обещаю, что не скажу вам всей правды. Что случилось?
Он сглатывает слюну, на мгновение забывает держать зонтик против ветра, и тот радостно выворачивает спицы наизнанку, коленками назад. Какое-то время человек борется с этим рвущимся из рук гигантским многосуставным кузнечиком, потом комкает зонт как попало и тут же хватается за голову, обнаружив, что свадебная кипа слетела и безвозвратно уплыла в сторону улицы Агриппас.
— Извините, — в отчаянии произносит он. — Я даже не знаю, что я… не знаю, зачем…
Я ободряюще улыбаюсь.
— Это заметно. Меир сказал, что у вашей жены трудные роды…
Гость с готовностью кивает, наклоняя для верности не только голову, но и всю верхнюю часть туловища.
— Да! Очень. Врачи ничего не объясняют. Я уже не уверен, понимают ли они что-нибудь. Если вы можете помочь, я буду очень вам благодарен. Очень… — он бросает быстрый взгляд на Меира.
Меня передергивает. Неужели этот сукин сын — ученик — по-прежнему выманивает у просителей деньги? Если так, то он у меня дождется… Но это потом, пока нужно успокоить отчаявшегося теленка. Я выпрастываю из кокона руку, стаскиваю с головы шапку, с полминуты пристально вглядываюсь в нее, затем поднимаю взгляд:
— Послушайте меня. Все будет в порядке. Я вижу это так же ясно, как вас. Все, можете идти.
— Все? — недоверчиво повторяет он.
— Все, — твердо отвечаю я.
Конечно, то же самое я мог бы сказать ему и без разглядывания шапки, но с шапкой слова выглядят намного убедительней. Телята верят в сверхъестественные чудеса, но сверхъестественность в их понимании неполна без колдовских жезлов, ковров-самолетов, чудесных зеркал, старых книг и прочих обыкновенных вещей, притворяющихся волшебными. По-хорошему, сейчас нужно было бы взять какой-нибудь растрепанный том и сделать вид, будто вычитываешь ответ оттуда, но мне ужасно не хочется вылезать из-под одеял. Тем более что шапка, как показывает опыт, работает ничуть не хуже прочих вуду-предметов.
— А как же… — начинает гость и вдруг принимается судорожно шарить по карманам.
Теперь и я слышу дребезжание мобильника. Человек смотрит по сторонам в поисках места, где можно было бы укрыть телефон от дождя, и за неимением иного варианта просовывает голову в нишу.
— Да! — кричит он в трубку. — Мама?! Да! Ну, говори же!.. Что? Что? Скажи еще раз…
Потом он опускает руку с мобильником, не замечая воды, стекающей по рукаву на экранчик дорогого айфона. Он смотрит на меня взглядом, в котором мешаются благодарная радость и нарастающее восхищение.
— Что? — спрашиваю я. — Родила?
Теленок кивает, не в состоянии вымолвить ни слова.
— Ну и слава Богу. Теперь беги к ней. Что ты стоишь? Беги!
Гость еще раз кивает и, подхватившись, пускается бегом вниз по переулку. Меир опускает штору. Он молчит, но в этом молчании громы и молнии. Сегодня ему будет о чем написать в блокноте. Ну как же: волшебная шапка, впитавшая мысли великого рабби-чудотворца, — о таком сюжете можно только мечтать! Боже, как это надоело… Если бы в мире и впрямь существовали волшебные шапки, я попросил бы прежде всего шапку-невидимку.
— Меир, что он там говорил о благодарности?
Мой самозваный ученик откашливается, прочищая горло, перехваченное судорогой восторга.
— Великому рабби… — пискливо начинает он, откашливается еще раз и продолжает уже более-менее обычным своим голосом: — Великому рабби пришлась бы очень кстати теплая одежда и новая обувь. Известно, что даже святой цадик Зуся Аннопольский принимал…
— Молчать! — перебиваю его я. — Молчать! Слушай внимательно, Меир, слушай и запоминай каждое слово. Если ты в благодарность за мою помощь осмелишься хотя бы один разок взять у кого-нибудь из просителей хоть что-нибудь, будь то самая мелкая медная монетка, или самая дешевая вещичка, или что-либо еще помимо простого «спасибо», я немедленно прогоню тебя прочь, навсегда. Запомнил? Запомнил?
— Запомнил… — глухо повторяет Меир.
— Иди.
Он благоговейно кланяется, выскальзывает за штору, и я остаюсь наедине с душой — с бабочкой, которая вот-вот выпорхнет из личинки. Но перед этим она еще успеет научить меня новому знанию, которое осветит прошлое, приоткроет будущее и порадует глаз неизбывной красотой Творения. В этом знании нет так называемой практической пользы, то есть информации о местонахождении пастбищ и качестве тамошней травы, зато есть пронзительное счастье постижения мира — счастье, о существовании которого многие телята даже не подозревают. За свою недлинную бестолковую жизнь я потерял годы драгоценного времени, растратил его попусту, бездумно и безоглядно, и теперь приходится дорожить каждой минуткой. Поэтому я здесь, в этом коконе, максимально свободный от лишних вещей, лишних обязательств, лишних забот и лишних людей, наедине с нею. Нас всего двое в нише: только я и она — душа, которую я и рад бы назвать своей, но не могу, поскольку она принадлежит очень и очень многим.
2
Когда ребенок рождается, ему ни капельки не скучно. Но затем родители суют в младенческий кулачок погремушку и тем отвлекают маленького человечка от диалога с его внутренним собеседником, то есть от главного дела, ради которого он явился на свет. Мы — это то, чему научила нас душа, временно поселившаяся в нашем теле. Ее первые уроки кажутся прекрасными и полезными, но их немедленно заглушает грохот погремушек, треск аляповатых пластмассовых шаров и мельканье разноцветной канители. В итоге младенец за неимением иного выбора принимается следить взглядом за пустой чепухой, подвешенной взрослыми перед его сопливым носом.
Чепуха не учит ничему, но приучает к себе, и душа, пожав плечами, удаляется в глухой закоулок — ждать, когда ее в очередной раз выпустят на волю. Она уже повидала множество человеческих личинок и могла бы рассказать уйму всего об устройстве мира, о жизни и даже о смерти, если бы только нашелся заинтересованный слушатель. Однако шарики над колыбелью сменяются куклами и машинками, песчаными замками и велосипедными педалями, тетрадками и футболом, брачными танцами и мрачными попойками, одуряющей работой и отупляющим телевизором, а кроме того, еще и покупкой новеньких погремушек для свеженьких новорожденных. Время от времени душа, улучив редкий момент, когда ее временному хозяину решительно нечем заняться, робко напоминает о своем присутствии, но теперь это лишь пугает личинку. Теперь личинка, так и оставшаяся невеждой, пустым листом, нетронутым полем, готова на все, лишь бы заглушить звучащий внутри голос.
В этом, собственно говоря, и заключается природа скуки, которая представляет собой не что иное, как панический страх оказаться наедине с одолженной человеку душой. Да-да, скука — это всего лишь страх, страх перед знанием, которое непременно окажется неприятным, ведь, помимо всего прочего, оно содержит в себе еще и рассказ о потерянном времени, то есть о близкой смерти, а о смерти смертной личинке смерть как не хочется думать. И тогда она кричит во все горло, перекрикивая свой потный унизительный страх: «Мне скучно! О, как мне скуу-у-учно! Я просто умираю со скуки! Принесите же поскорей новую погремушку, бутылку, таблетку, женщину, поездку, вещь — и желательно подороже!..»
В детстве я боролся со скукой при помощи компьютерных игр — тогда они только появились. Нет ничего проще, чем самозабвенно убивать недели и месяцы в погоне за экранным монстром, в поедании экранных кроликов или в стрельбе по экранным летающим тарелкам. По чьей-то дьявольской иронии успех оценивался там в дополнительных «жизнях». Зарабатывая десятки и сотни игровых «жизней», ты теряешь одну-единственную — свою. Просыпаешься утром, включаешь игралку и — вперед, до самого вечера. Часы пролетали со скоростью минут — даже в школе, если на задней парте и незаметно.
Угнетало одно: игры тех лет были довольно примитивными. Я быстро достигал максимального мастерства и тогда обнаруживал, что дальше уже действую автоматически, рефлекторно. Погремушка переставала греметь, и в моей освободившейся голове, голове юной личинки, тут же начинали звучать непрошеные мысли и голос души, которая никогда не утрачивает надежду на то, что ее наконец удостоят вниманием. Иначе говоря, мне становилось скучно.
Мои тогдашние приятели принадлежали к тому же кругу «геймеров»; мы были нужны друг другу исключительно для обмена игралками и для сопутствующей похвальбы о пройденных «уровнях» и заработанных «жизнях». Именами и прочими приметами реальной, то есть не «заработанной», жизни мы не пользовались в принципе, а наши прозвища соответствовали виртуальному миру: Пакмэн, Тетрис, Утопия, Снэйк… Меня звали Клайвом в честь сэра Клайва Синклера. Самым продвинутым геймером был Темпест — старший брат моего одноклассника, единственный студент в компании школьников. Когда я пожаловался ему на скуку, Темпест рассмеялся.
— Чего же ты ждешь? — сказал он. — Если тебе наскучили стрелялки для новичков и дебилов, усложни программу или напиши свою.
— А можно? — изумился я.
— Еще как. Правда, для этого надо выучить языки программирования. «Си», «Ассемблер», «Си-плюс-плюс»… — и он продолжил сыпать незнакомыми словами, явно рассчитывая, что я испугаюсь и отстану.
Но я не испугался. Языки всегда давались мне поразительно легко. Я ненавидел все школьные предметы, за исключением английского и арабского. Знакомство с другим языком напоминало погружение в сложную игру с ее новыми понятиями, правилами и словами, абсолютно чуждыми для непосвященных. Здесь ты тоже переходил с уровня на уровень и зарабатывал «жизни» — жизни в иной игровой среде. Пожалуй, это единственное, что хоть как-то могло отвлечь меня от компа. И если уж я за месяц научился худо-бедно болтать по-арабски, всего лишь общаясь с рабочими, которые делали ремонт нашего дома, то стоило ли бояться каких-то там языков программирования?
— Покажи мне начало, — сказал я. — Только начало, дальше я сам.
Темпест покачал головой:
— С чего это вдруг я буду тебя учить, Клайв? Уроки стоят денег.
— Сколько?
— Двести за час, — зарядил он, уверенный, что уж теперь-то я оставлю его в покое.
Деньги я взял у родителей, честно объявив, что хочу учиться программированию. Само собой, предки пришли в совершеннейший восторг: наконец-то оболтус решил заняться чем-то путным! Думаю, они согласились бы заплатить и несколько тысяч, но мне хватило двух уроков и списка литературы. Месяц спустя я написал первую игру — кривую, корявую, но свою. В тот год мне только-только исполнилось двенадцать. Так я попал в вундеркинды, хотя на деле всего лишь боролся со скукой. Со скукой, то есть с мыслями и с голосами, которые посягали на мою погремушку, на ее нескончаемый шум, оглушающий голову и заглушающий душу.
Четыре года спустя меня приняли в университет на компьютерные науки. Необходимые для этого баллы аттестата зрелости я, конечно, не заслужил — скорее, мне их выправили, невзирая на постыдную неуспеваемость по всем предметам, кроме языковых. Звание вундеркинда, как заработанный в игре волшебный ключик, открывает многие неприступные пещеры и запертые сундуки. Когда настало время призыва в армию, я остался в академическом резерве — разрабатывать систему распознавания телефонных разговоров, значимых для военной разведки. Это уже было близко к тому, чем занимается Шерут — служба контрразведки и внутренней безопасности, и я не удивился, когда они предложили перейти к ним. Меня интервьюировал массивный наголо обритый человек неопределенного возраста, попросивший называть его «кэптэн Маэр».
— Шерут слегка отстал от нынешней моды, — сказал он. — Начальство думает, что нам пора набрать группу компьютерных фриков вроде тебя. Но лично мне больше нравится, что ты хорошо знаешь язык. Ну-ка, скажи по-арабски: «Я полный идиот и сукин сын, но считаю себя гением».
— На каком диалекте? — уточнил я. — Могу предложить иракский, ливанский, египетский и хевронский. Могу попробовать и на азатском, но там я не слишком силен.
— Выпендриваешься, да? — грустно проговорил кэптэн Маэр. — Ничего-ничего, в Шеруте и не таких обламывали.
Вообще-то я и не думал выпендриваться, ну разве что совсем чуть-чуть. Работа с системой распознавания в самом деле многому меня научила. К тому же в университете я привык к уважительному отношению и не собирался терпеть хамство от незнакомого здоровяка, будь он хоть капитан, хоть фельдмаршал. В конце концов я в Шерут не навязывался — они сами вызвали меня на интервью.
— Да вы просто мастер рекламы потенциального места работы, — сказал я, поднимаясь со стула. — За что отдельное спасибо. Передайте вашему начальству, что я не тот фрик, который подходит для обламывания.
— Подожди. Сядь, — он устало взмахнул рукой. — Извини, парень. Я не спал две ночи подряд. Сам понимаешь, время сейчас такое…
То время наивно полагалось «напряженным»: это был период терактов после соглашений Осло и триумфального возвращения Арафата. Никто тогда и понятия не имел, какое оно в действительности — по-настоящему «напряженное» время. Я сел, подумал и произнес на диалекте сирийских друзов:
— Ты полный идиот и сукин сын, но считаешь себя капитаном.
Кэптэн Маэр рассмеялся.
— Молодец, два ноль в твою пользу. Только «кэптэн» — это не капитанское звание, а что-то типа прозвища. Так у нас принято. Ты вот тоже будешь какой-нибудь «кэптэн». Например, кэптэн…
Мой интервьюер призадумался. Как видно, он не врал насчет бессонных ночей: мозги у него работали туго, с задержкой. Казалось, еще немного — и в комнате будет слышен скрип и скрежет несмазанных шестеренок. Я пришел к нему на помощь.
— …Клайв. Как насчет «кэптэн Клайв»?
Человек из Шерута одобрительно покачал лысиной:
— Неплохо, неплохо… Кэптэн Клайв — звучно и коротко. Ты мне нравишься, парень. Считай, что имя у тебя уже есть. Теперь дело за малым: проверки, то да се…
«То да се» длилось еще несколько месяцев. Поначалу я не отнесся к этому серьезно, но чем дальше, тем больше хотел, чтобы меня приняли. К тому моменту мне порядком опостылели и армейские проекты, и университет; я чувствовал примерно то же, что и в двенадцать лет, когда компьютерные игры вдруг перестали отключать мою голову и все чаще оставляли меня наедине с тем, что называется скукой. Я вспоминал красные от недосыпа глаза кэптэна Маэра, и мне хотелось того же. Хотелось занять себя выше крыши, до полного отупения, когда падаешь в постель не потому, что нечем заняться, а из-за полного истощения сил, точно зная, что, очнувшись от сна, обнаружишь перед собой еще большую гору дел.
Работа в Шеруте рисовалась мне подобием стратегической игры, компьютерной охотой за монстрами — только не на экране, а в реальности. В мечтах я видел себя в роли глубоко законспирированного агента; я строил хитрые планы по нейтрализации вражеского подполья и осуществлял их на практике, врываясь с автоматом наперевес в тайные гнезда террористов; я руководил разветвленной сетью информаторов, стрелял без промаха, бил наверняка и на каждом шагу зарабатывал все новые и новые «жизни», только не виртуальные призы дебильной стрелялки, а настоящие жизни спасенных от гибели сограждан.
Действительность, как водится, оказалась совершенно иной: после ряда специализированных курсов меня определили в компьютерный отдел — заниматься почти теми же программами, от которых я бежал из университета. Промаявшись с полгода, я пришел к кэптэну Маэру — теперь уже моему непосредственному начальнику.
— Ты с ума сошел! — сказал он, выслушав мои жалобы. — Никто не выпустит тебя туда, где работают под прикрытием. Все наши псевдоарабы — бывшие спецназовцы, с боевым опытом, устойчивой психикой и доскональным знанием территории. Ты там и дня не продержишься.
— Тогда поставь меня работать с осведомителями!
Начальник отрицательно помотал головой:
— Невозможно, дурачок! Посмотри на себя в зеркало: ты же еще ребенок! Оператору осведомителей нужна солидность, авторитет, иначе никто ему не доверится. Сначала подрасти лет на десять…
Я кивнул и положил на стол листок:
— В таком случае я увольняюсь. Вот заявление.
Кэптэн Маэр взял мою бумагу, прочитал ее — столь же короткий, сколь и единственный абзац, зачем-то посмотрел, нет ли чего на обороте, и снова погрузился в чтение. Я терпеливо ждал. Наконец начальник вздохнул, смял мое заявление в комок и бросил в корзину для мусора.
— Нет проблем, напишу новое, — пообещал я.
— Заткнись… — мрачно проговорил он и, порывшись в стопке канцелярских дел, вытащил оттуда тоненькую папку. — Вот, возьми, коли уж так неймется. Этого мужчину зовут Джамиль Шхаде. В больших делах пока не замечен, но они всегда начинают мало-помалу. Вызови его к себе, поговори, прощупай — кто, что и почем. Считай его своим персональным заданием. Доволен? Теперь вали отсюда…
Из кабинета кэптэна Маэра я выпорхнул как на крыльях. Конечно, этот Джамиль Как-его-там был всего лишь мелкой рыбешкой или даже мальком мелкой рыбешки. Конечно, начальник сунул мне эту папку с одной-единственной целью — отделаться от назойливого сотрудника. И все же, все же в мои руки наконец-то попала первая реальная задача — начальный уровень настоящей большой игры! А умелый геймер никогда не задерживается на начальном уровне…
Вернувшись к своему столу, я изучил содержание дела. С фотографии на меня смотрело открытое интеллигентное лицо уверенного в себе человека: широко расставленные веселые глаза, красивые брови вразлет, короткая стрижка, аккуратно подстриженная шкиперская бородка. Террорист? Эта внешность куда лучше подошла бы университетскому преподавателю — возможно, чересчур молодому для должности профессора, но явно по дороге к этому званию. Впрочем, фотографии часто врут…
С другой стороны, сопроводительные документы и отчеты осведомителей даже близко не упоминали о каких-либо серьезных вещах. Так, ерунда на постном масле: организация демонстраций, выступления на митингах, острые статьи в прессе… Учитывая, что Шхаде происходил из большой деревни Дир-Кинар, которая считалась одним из главных оплотов ХАМАС к северу от Рамаллы, подобное поведение выглядело скорее естественным, чем из ряда вон выходящим. Мне и в самом деле подсунули очень незначительную фигуру. Но обижаться не имело смысла: начальные уровни часто выглядят разочаровывающе простыми.
Для вручения повестки уже в то время требовалось сопровождение едва ли не взвода автоматчиков на нескольких армейских джипах. Координатор соответствующего района, ответственный в числе прочего за Дир-Кинар, сразу известил меня, что никто не станет организовывать столь хлопотную операцию ради того, чтобы вызвать на допрос какого-то третьеразрядного активиста. Подожди, мол, пока наберется достаточно повесток для более крупных птиц. И добавил с досадой:
— Так или иначе, смысла в этой дурацкой экспедиции никакого.
— Почему?
— Ты, я вижу, еще совсем зеленый, — усмехнулся координатор. — Потому что никто никогда не приходит. Они нашими повестками даже подтереться брезгуют. В общем, оставь мне свою бумажку, отвезу вместе с другими, вручу той, кто откроет. Самих-то их дома не застать, женщин своих к дверям посылают.
— Нет, спасибо, — отказался я. — Лучше я сам отдам. Позвони, когда соберешь экспедицию.
Ждать пришлось полтора месяца. Отправились, когда стемнело, пятью джипами с армейской базы в Бейт-Эле. Повестки вручали ночью: как объяснил комвзвода, так меньше шансов нарваться на засаду или попасть под град камней. Деревни в темноте и в самом деле казались вымершими. Координатор из Шерута направлял по рации передовой армейский джип, я сидел рядом с ним. Возле нужного дома солдаты занимали круговую оборону, мой коллега шел вручать повестку, возвращался, вычеркивал фамилию из списка, и мы двигались к следующему пункту заранее намеченного маршрута. Когда въехали на главную улицу Дир-Кинара, координатор выругался:
— Ах, черт! Опять будет балаган. С этой гадской деревней всегда проблемы. Хамасник на хамаснике сидит.
— Откуда ты знаешь, что будет балаган? — удивился я.
— Оттуда, — мрачно отвечал коллега. — Ты что, не слышал свиста?
— Не обратил внимания.
— Теперь будешь обращать, — пообещал он. — Все, прибыли, вылезай. Видишь тот королевский замок напротив? Иди вручай свою повестку…
Резиденция семьи Шхаде действительно напоминала дворец, заметно превосходя размерами и богатством отделки все наши прежние адреса. Солдаты выскочили из джипов и заняли позиции, уставив автоматы вдоль улицы и на крыши соседних вилл. Я подошел к железным воротам — кованым, с позолотой и узорчатыми завитками. Заперто.
— Там сбоку звонок! — крикнул координатор из окна джипа. — И поторопись. Здесь лучше не задерживаться.
Сбоку и в самом деле мерцала коробка переговорника. Я позвонил — раз, другой, третий, — чувствуя неловкость оттого, что вынужден будить людей посреди ночи. Ответил хриплый со сна женский голос.
— Служба безопасности, — сказал я по-арабски. — Откройте. Мне приказано вручить повестку господину Джамилю Шхаде.
Молчание. Четверть минуты спустя послышался зуммер, створки ворот дрогнули и стали медленно раздвигаться.
— Давай быстрей! — снова подогнал меня координатор.
Я протиснулся внутрь и, борясь с желанием перейти на несолидный бег, двинулся по обрамленной розовыми кустами мраморной дорожке к главному входу, чьи массивные двери красного дерева не посрамили бы самого Людовика Пятнадцатого. На крыльце меня уже поджидала женщина… вернее, дама в элегантном шелковом халате и наброшенном на голову кисейном платке. Золотые узоры халата и платка хорошо гармонировали с позолотой дверных ручек и мерцающими прожилками мрамора. Вкусы хозяев явно благоволили к презренному металлу. Приблизившись к крыльцу, я почтительно поклонился и достал из папки повестку.
— Да простит меня госпожа за поздний визит. Если госпожа позволит, я хотел бы поговорить с господином Джамилем Шхаде.
— Его нет дома, — ответила она, взирая на меня сверху вниз, как королева на смерда.
— Вы его жена?
Она усмехнулась:
— Благодарю вас. Получать комплименты приятно даже от оккупантов. Я его мать. Что вам нужно?
— Вот повестка… — Я поднялся по ступенькам и протянул ей конверт. — Он приглашается на беседу. Там все написано.
Женщина взяла конверт и повертела его в руках, как будто сомневаясь, выбросить сразу или погодить.
— Я отдам это Джамилю, — сказала она. — А дальше уже он сам решит, что с этим делать. Может, порвет, а может, бросит собакам.
Я снова поклонился:
— Конечно, госпожа. Спасибо, госпожа. Пожалуйста, передайте вашему сыну, что мы не гордые. Если кто-то не идет к нам, мы приходим к нему. Как Мухаммад и гора из той известной поговорки. Значит, так или иначе мы увидимся. Евреи — оптимисты по натуре. А пока — извините за поздний визит. До свидания, госпожа.
Она не ответила. Ненависти в ее глазах было достаточно, чтобы расплавить не только позолоту ворот, дверных ручек и прочих садовых финтифлюшек, но и аналогичные проявления затейливого арабского вкуса во внутреннем оформлении дворца — не приходилось сомневаться, что там золота еще больше.
Джипы у ворот на низком старте ждали, когда я выйду, и только что не переминались с колеса на колесо от нетерпения, а заметно нервничавший координатор выбранил меня за задержку. И неспроста: на выезде из деревни нас встретил настоящий град камней. К счастью, арабы не смогли полностью перегородить шоссе глыбами песчаника. Передовой джип аккуратно объехал недостроенную баррикаду; мы последовали за ним. Летящие из темноты булыжники барабанили по крыше, бортам и забранным металлической сеткой пластиковым окнам машины, так что создавалось впечатление, будто мы сидим в наглухо запаянной жестяной бочке, по которой лупят несколькими дубинами одновременно.
— Теперь видишь? — сказал координатор, когда град поутих. — Дир-Кинар — дурная деревня. Наше счастье, что они не успели поджечь покрышки, а то пришлось бы задержаться надолго. Черт бы побрал этих подростков — и что им не спится? И главное — ну какой смысл в этой дурацкой повестке? Все равно он не явится, твой активист…
«Не явится…» «Не придет…» За две недели, остававшиеся до указанного срока, я настолько привык к этому прогнозу, что не на шутку растерялся, когда на моем столе зазвонил телефон и дежурный по проходной сообщил о приходе посетителя.
— Какой посетитель? Я никого не жду.
— У него повестка, — сказал дежурный. — Зовут Джамиль Шхаде. Прогнать, что ли?
— Нет-нет! — опомнился я. — Сейчас спущусь.
Вживую Шхаде выглядел еще лучше, чем на фотографии. Изысканно одетый красавец с внешностью Марчелло Мастроянни, он был старше меня на целых семь лет, а в молодые годы это существенная разница. Старше меня, выше меня, импозантней меня, богаче меня… Каждая деталь облика Джамиля Шхаде спокойно и уверенно утверждала его несомненное превосходство. Роскошные туфли, белоснежная рубашка, швейцарские часы, шелковый галстук, модная прическа и умеренный запах дорогой парфюмерии против разношенных сандалий на босу ногу, неглаженной отроду футболки и двухдневной небритости.
Я не нашел ничего лучше, чем поблагодарить его за визит. Шхаде посмотрел на меня почти сочувственно:
— Судя по рассказу моей матери, вы были похвально вежливы. Некрасиво отвечать на это грубостью. Кроме того, хотелось бы узнать: в чем причина вашего интереса ко мне?
— Ну как… — Я все еще чувствовал себя неловко. — Честно говоря, ничего особенного. Просто в последнее время вы стали… как бы это определить… заметны. Отчего бы не познакомиться?
Шхаде рассмеялся:
— Охотно. Давайте знакомиться. Только вы первый, кэптэн Клайв… — он произнес мое прозвище с откровенной иронией. — Расскажите, как такие молодые люди становятся капитанами.
— А я вундеркинд, — парировал я, довольный, что хоть в чем-то могу уесть непробиваемого Мастроянни из деревни Дир-Кинар. — Поступил в университет на два года раньше.
Он вздохнул:
— Ах, студенческие годы… Сколько ностальгии в этих словах, не так ли?
Это было что-то новенькое: в тоненькой папке с делом Джамиля Шхаде не говорилось ни слова о высшем образовании.
— Вы учились в Бир-Зейте?
Шхаде скромно потупился:
— Нет, в Сорбонне…
В Сорбонне! Ну и фрукт! Мы продолжили беседовать в том же духе: я — преодолевая неловкость, растерянность и постыдную неготовность к разговору, он — с выражением спокойного и снисходительного превосходства. Что выглядело совершенно естественным: при всем желании я не мог бы назвать его поведение наглым или вызывающим — мой гость просто вел себя в полном соответствии с реальной расстановкой сил. К тому же за ним не числилось никаких серьезных дел — по крайней мере, в системе Шерута; думаю, он осознал это, едва увидев меня и справедливо рассудив, что статусного персонажа вряд ли доверили бы такому молокососу. Иначе говоря, у него была полная рука козырей, в то время как у меня — ни одной завалящей шестерки.
Прошло с четверть часа, прежде чем я осознал, что Джамиль Шхаде пришел не просто так, а за информацией, которая могла понадобиться в будущем. Расположение проходной, количество охранников и их вооружение, число лестничных пролетов, длина коридоров, вид кабинета, размер окна, лексика противника — все эти данные доставались ему абсолютно бесплатно и без каких-либо усилий. Визит вежливости? Как бы не так! Он воспользовался нашим приглашением как заведомо безопасной возможностью узнать то, с чем другие его коллеги сталкивались в иных, не располагающих к любопытству обстоятельствах — после ареста, в стрессовом состоянии, в наручниках, в синяках, а то и с фланелевой повязкой на глазах. Он выуживал полезное знание: пригодится потом — хорошо, а не пригодится — тоже не страшно. Дир-кинарский Мастроянни забрасывал свою сеть с прицелом на завтра, размашисто и широко, то есть в масштабе, совсем не соответствующем статусу третьеразрядного активиста.
Напоследок я поинтересовался, чем движение «братьев-мусульман» из ХАМАС может привлечь такого человека, как он, — утонченного, европейски образованного и явно не нуждающегося ни в чем.
— Вы окончили Сорбонну, жили в свободном обществе, далеком от средневекового фанатизма, — сказал я. — Ваш дом похож на дворец французского аристократа, хотя, на мой вкус, чересчур перегружен золотом…
Шхаде рассмеялся:
— Насчет золота вынужден с вами согласиться, кэптэн Клайв. Но тут уже ничего не поделаешь: таковы местные вкусы, волей-неволей приходится соответствовать. Аналогично и с тем, что вы называете средневековым фанатизмом. Сорбонна Сорбонной, но я родился здесь, как и многие поколения моих предков. Треть оливковых рощ вокруг Дир-Кинара принадлежала моей семье еще до прихода крестоносцев. Это наша земля, и мы не успокоимся, пока не выбросим вас вон, как когда-то выбросили их. Так что вам следует поторопиться, пока не поздно. Запомните и запишите в своем отчете: доктор университета Сорбонны Джамиль Ибрагим Шхаде не постесняется своей рукой вырезать тех из вас, кто не успеет убежать вовремя.
Он произнес это, нисколько не меняясь в лице, с прежней благожелательной улыбкой в глазах и на устах.
— Обязательно запомню и запишу, — пообещал я. — Спасибо за откровенность.
— Конечно, конечно, — еще шире улыбнулся мой гость. — Какое же знакомство без откровенности? У вас еще есть ко мне какие-нибудь вопросы?
Я пожал плечами:
— Нет, на этом всё. Но, знаете, у меня такое чувство, что мы еще встретимся.
— Вовсе не обязательно! — запротестовал он. — Я ж говорю: встретимся только в том случае, если не успеете убежать вовремя.
Я проводил Джамиля Шхаде до выхода; на прощание мы пожали друг другу руки. Думаю, излишне упоминать, что его рука оказалась существенно крепче моей. Два дня спустя, читая отчет о беседе, кэптэн Маэр скептически покачивал лысой головой, а затем определил мою писанину как типичную ошибку новичка.
— Ничего страшного, не расстраивайся, — сказал он. — Это нормально, все так начинают. Первое самостоятельное дело всегда кажется крупней Второй мировой войны, а первый фигурант непременно выходит масштабней Гитлера. Ну с чего ты взял, что этот Шхаде «чрезвычайно опасен»? И где ты усмотрел «разрушительный потенциал»? Есть факты? Есть свидетельства? Нет ведь, правда? О-хо-хо… Не беда, парень, еще годик-другой — и пооботрешься, научишься отличать морковку от динамитной шашки. А пока — вот тебе новый объект…
Начальник смахнул мой выстраданный отчет в ящик стола и вытащил из груды канцелярских дел еще одну тоненькую папочку.
3
В Кейсарии дождь. Непогода стерла линию горизонта, и кажется, будто море поглотило небесную твердь и теперь намерено завладеть еще и землей. Серые валы, словно взбесившись, наваливаются на волнорезы порта, пятятся и снова лезут на стены. Что будет с нами, если они прорвутся? Затопчут, задавят, закинут за спину — в жадную бушующую прорву. Я не люблю моря и побаиваюсь его дикой неуправляемой мощи. Мне больше по нраву долины Галилеи и Аялона, леса иудейских предгорий и рощи шаронской равнины.
Сегодня особенно холодно, даже для зимнего месяца Кислева. Мой плащ промок насквозь, в рубахе не осталось ни одной сухой нитки. Ноги тоже мокры, но это к лучшему: можно не беречься луж и не перескакивать через бегущие по улице потоки. Вода торопится влиться в море-небо, чтобы затем перетечь снизу вверх и снова вернуться на землю дождем. Я добираюсь до тюремной стены и останавливаюсь перевести дух. Стража не любит запыхавшихся — их вид ассоциируется с бегством и пробуждает в солдатах опасные рефлексы погони. Поэтому нужно заранее принять как можно более уравновешенный, смиренно-покорный облик.
В будке у ворот четверо стражников играют в кости. Кости требуют умения считать. Кроме того, солдаты умеют жрать, испражняться, совокупляться и убивать, но это свойственно также и волам. Получается, что игра в кости — единственное, что отличает этих двуногих животных от прочего зверья. Отсюда вопрос: следует ли тогда считать азартные игры грехом? Размышляя об этом, я встаю перед окном будки и молча жду, пока его превосходительство начальник стражи обратит на меня свое высочайшее внимание. Мои глаза устремлены вниз, в топкую грязь, частью коей я, собственно, и являюсь, с точки зрения его превосходительства.
— Опять приперся?
А! Вот! Помимо простейшего счета, они еще знают слова — не так много, но вполне достаточно, чтобы запугать человека до смерти. Теперь, когда ко мне обратились, можно приподнять глаза и ответить.
— Да простит великодушный господин офицер своего ничтожного раба… — тихо говорю я и умолкаю.
Когда человек приходит сюда так часто, даже самые тупые болваны в состоянии запомнить, кто он, к кому и зачем.
— Ну?! — подгоняет меня начальник.
В переводе на человеческий язык это означает: «Давай уже скорее то, что принес!» Я передаю в окно запечатанный кувшин с паршивым сирийским вином.
— А что под плащом?
Под плащом — завернутые в тряпицу лепешки. Их пять. Четыре отправляются в будку — по одной на каждого стражника; последнюю мне дозволено сохранить.
— Ладно, проходи…
Они возвращаются к костям, а я просачиваюсь через калитку, пересекаю двор и спускаюсь в большое подвальное помещение. Здесь сыро, холодно и темно, но, по крайней мере, нет дождя. Воняет мочой и немытым телом. Три-четыре десятка узников расположились на земляном полу, подстелив себе солому в соответствии с местным статусом: сильным — большие пышные охапки, тем, кто послабее, — несколько гнилых соломин. Рабби Акиве бен-Йосефу за восемьдесят, он тут самый беспомощный, поэтому сидит на голой земле. Я присаживаюсь рядом. Акива смотрит на лепешку и качает головой:
— Совсем не хочется есть.
— Пожалуйста, рабби. Хотя бы половину.
Я разламываю лепешку пополам. За моими руками жадно следят десятки горящих глаз. Старик неохотно берет хлеб и начинает вяло жевать, шамкая беззубым ртом; другую половину я наугад бросаю в полумрак подвала, откуда тут же слышатся звуки драки, рычание и стоны. Теперь они утратят к нам интерес, ведь больше с нас взять нечего.
— Ты зря переводишь на меня хлеб, Шимон, — говорит Акива. — Я так и так долго не протяну. Кроме того, лучше умереть самому, чем от руки палача.
Я отрицательно качаю головой:
— Господь не допустит.
Старик усмехается. Съев кусок лепешки, он немного приободрился.
— Кто ты такой, чтобы решать за Него? Нам принадлежит только тело, да и то лишь отчасти. Зато душа — Его безраздельная собственность. Рано или поздно наступает момент, когда Хозяин решает, что это… — Акива хлопает себя по впалой груди, — …что это вместилище чересчур износилось и пора подыскать душе новую оболочку.
— Помню, ты говорил, что человек — это то, чему его научила душа, которую ему выдали взаймы.
— Так и есть, — кивает он. — К сожалению, пока большинство людей живут как глиняные горшки. Ты сегодня принес стражникам вино?
— Как всегда.
— Ну вот. Разве кувшину не все равно, что у него внутри? Налей туда лучшее в мире вино — он не отличит его от ослиной мочи.
— Но, рабби, человеческая плоть не глина… — возражаю я.
— О том-то и речь, сынок, — смеется старик. — О том, что человек не должен быть бесчувственным горшком из обожженной глины. О том, что он должен впитывать свое вино, его запах, его вкус, его цвет, его знание. Если ты пропитался всем этим достаточно сильно, вино просачивается наружу и может научить не только тебя, но и других — тех, кому не хватает сил и смелости отказаться от собственного горшка. Ведь если душа побывала в таком количестве тел, она непременно знает о мире намного больше, чем все мудрецы, вместе взятые. Подумай об этом: одна-единственная душа! Больше, чем все мудрецы мира! Это ли не причина вспомнить о ней, пока она еще теплится в тебе?
Я смотрю на вонючую агрессивную трусливую массу, которая копошится в полумраке подвала, и думаю: о чем говорит старый рабби? Разве у этих животных есть душа? Разве возможно втиснуть хоть что-то в эти тесные бесчувственные черепки? У них нет желаний — есть лишь потребности. Нет чувств — есть лишь инстинкты. Нет разума — есть лишь низменная подленькая хитрость. О чем они могут «вспомнить», что могут найти, обратившись вовнутрь своей грязной, заросшей мерзостью пустоты?
— Они просто слабы, Шимон, — говорит Акива, угадав мои мысли. — Слабы и слишком озабочены выживанием, чтобы задумываться о жизни. Думаешь, я всегда был таким, как сейчас? В молодости я пас овец своего тестя — в точности как Моше Рабейну. Временами мне кажется, что я — это он. Не иначе, у нас с ним гостила одна и та же душа, так что сегодня мне нужно всего лишь слегка поднапрячься, чтобы вспомнить дворец фараона, берега Нила и пустыню у горы Хорев. В те годы я ужасно заикался, слова не мог вымолвить при людях и умел говорить только с овцами. Когда нужно было что-то сказать, за меня это делал брат. Что бы ты подумал, увидав одичавшего в одиночестве косматого пастуха, который умеет только мычать, как неразумный теленок? Ты бы отвернулся от него, как от животного, — в точности как отворачиваешься от этих несчастных.
— Ты сравниваешь Моше Рабейну и этот сброд?
Старик вздыхает:
— Выслушай, Шимон, рассказ пастуха. Четыре овцы подошли к ручью, чтобы напиться. Первая, недолго думая, бросилась к воде, оступилась, и быстрый поток унес ее к смерти. Вторую настолько потрясла гибель подруги, что она тронулась рассудком и принялась заполошно бегать вокруг, забыв, кто она, откуда и зачем пришла. Третья, глядя на них, решила вовсе отказаться от чистой воды и стала выживать, утоляя жажду из мутных отвратительных луж. Напилась из ручья лишь четвертая — та, которая не желала уступать, но помнила об осторожности и не подчинилась ни страху, ни безумию. Душа человеческая — тот же поток. Далеко не всякий способен заглянуть в нее и при этом уцелеть.
— Неужели это настолько опасно?
— Как видишь, — улыбается он. — Суть мира обманчиво проста, и очень многие не в силах это переварить. Нужно защитить таких овец от гибели и сумасшествия. Если ты откроешь им истину чересчур поспешно, они бросятся вперед очертя голову и непременно утонут в первом же омуте, принятом ими за отмель. Другие либо не поверят, либо примут тебя за мошенника, откажутся от света и примутся выдумывать другие объяснения, столь же темные, сколь и безумные. А третьи… С этими хуже всего: они отрекутся, прекратят поиски и приникнут губами к лужам.
— Что же делать? Как защитить их от истины? Лгать?
Акива смотрит на меня, будто увидел впервые:
— Ни в коем случае, Шимон! Как ты мог такое подумать?
— Тогда как?
— Так же, как Моше вел их сюда, вызволив от фараона. Надо петлять, возвращаться, снова уходить в пустыню, долго ждать неизвестно чего, упрекать, оправдывать, обвинять, угрожать, прощать и снова петлять, и снова возвращаться. Надо выстроить вокруг истины огромный лабиринт многолетней учебы, сложных обычаев, подробнейших описаний, нелепейших обсуждений — так, чтобы человек бродил там годами, подбирая по дороге намеки, постепенно вникая в их смысл, сменяя толкования одних и тех же вещей.