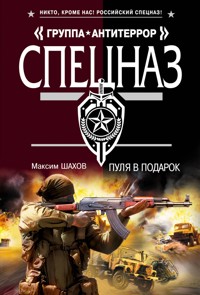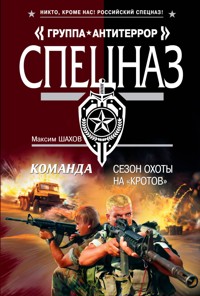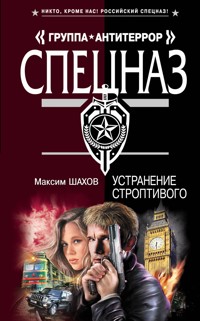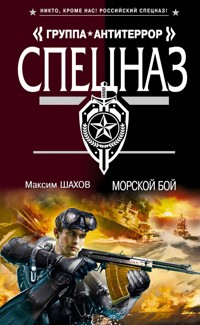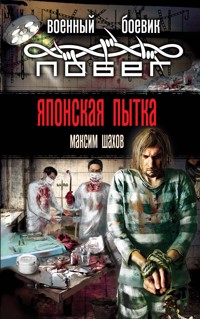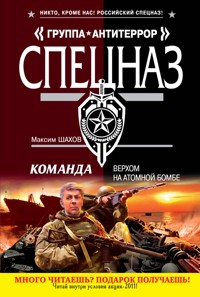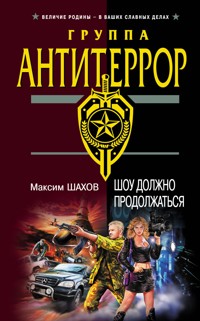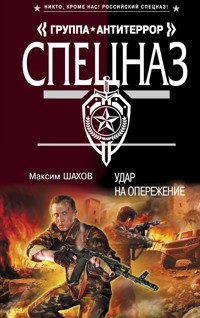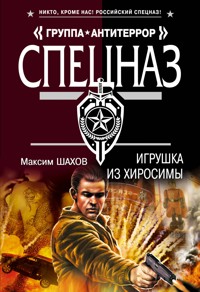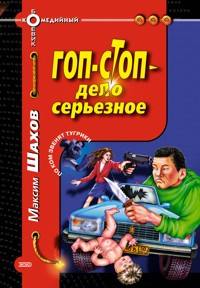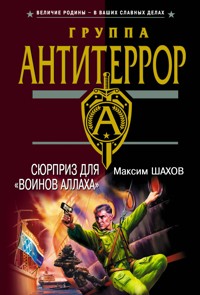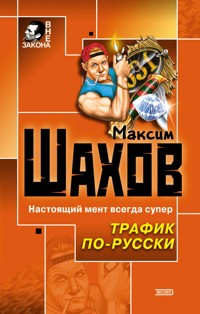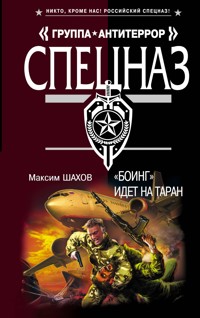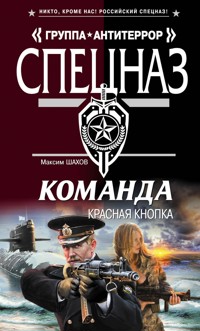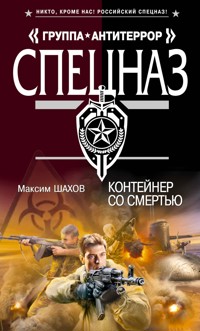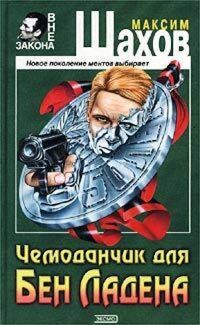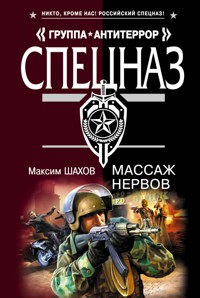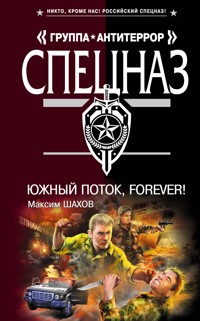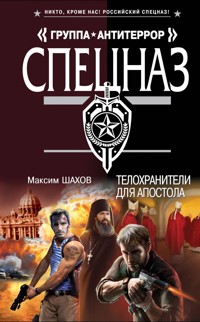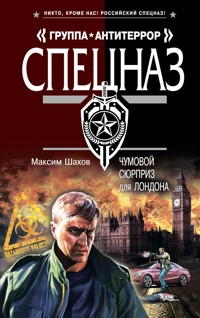2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Побег из плена. Военный боевик
- Sprache: Russisch
Советско-финская война, зима 1939 года. На одном из островов Аландского архипелага финнами организован лагерь для пленных красноармейцев. Остров крохотный, вокруг ледяное Балтийское море, и побег практически невозможен. Но для жаждущих свободы не существует преград. Группа пленных советских офицеров разрабатывает дерзкий план побега. Им удается вырваться из лагеря, захватить рыболовецкое судно и выйти в открытое море. Однако путь к свободе на этом только начинается: до фронта сотни морских миль, а на хвосте висят преследователи-надзиратели, которым приказано вернуть беглецов обратно в лагерь любой ценой...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Максим Шахов Дьявольский остров
1
– Бистро! Бистро! – кричали на колонну военнопленных грозные охранники в серой военной форме. Они угрожали ударить штыком в бок каждому, кто хоть чуть-чуть замешкается.
Сапоги и промокшие валенки пленных мерно хлюпали в талом снегу, во все стороны разлетались тяжелые брызги.
– Стой! – раздалась команда.
Колонна остановилась перед спуском на узкий причал, собранный из бетонных плит.
Недалеко в море прозвучал резкий гудок.
Над Балтикой нависали свинцовые тучи. Моросил холодный дождь вперемешку с тяжелыми хлопьями снега. Порывы ветра серыми вихрями гнали их с моря на прибрежные валуны, скалы и каменную набережную. Землю покрывало влажное снежное одеяло, в котором лужи моментально проедали темные проплешины. Шпиль собора – уменьшенная копия шпиля питерского Исаакиевского собора – неожиданно появлялся из мрачных облаков и тут же скрывался в их клубах. Погода в Хельсинки была мерзкой, поэтому жители предпочитали сидеть по теплым квартирам, пить горячий чай или глинтвейн, а на улицу выходили только в случае крайней необходимости. Впрочем, для второй половины декабря такая погода на южном побережье Финляндии была обычным явлением.
Уже, наверное, тысячу проклятий этому дождю, мокрому снегу и пронизывающему ветру процедили сквозь зубы финские солдаты – усатые и бородатые мужики, вооруженные русскими трехлинейными винтовками Мосина со знаменитым четырехгранным штыком. Рана от него – это знал каждый военфельдшер – получалась не рваная, а «аккуратно» колотая, края сразу же стягивались, и возникало внутреннее кровотечение, еще более опасное, чем наружное. Винтовки Мосина оказались в Германии после Первой мировой войны в качестве трофеев, а в двадцатых годах немцы продали их финнам. Под конец 1939 года такое стрелковое оружие многими военными специалистами считалось уже устаревшим, но для пожилых финнов, призванных из запаса и служивших в роте охраны военнопленных, оно было вполне пригодным. По иронии судьбы, теперь эти русские винтовки были обращены против советских красноармейцев.
Советско-финская война, которую прозвали Зимней, уже длилась три недели. И плененные красноармейцы создали немалую проблему для правительства Финляндии. Оно явно не было готово к приему такого их количества. Взятых в плен советских солдат спешно отводили в тыл, а там распределяли по временным лагерям. Такой точкой распределения была одна из набережных Хельсинки.
Красноармейцы, в разодранной в клочья или простреленной форме, промокшие, голодные и уставшие от долгого перехода, дрожали от холода. Впрочем, совсем не сладко было и двум десяткам финских охранников. Ветер так и норовил сорвать с них головные уборы, бил колючим снегом прямо в лицо.
Маленький буксир с приподнятым носом медленно толкал к причалу небольшую баржу, с крутыми, ржавыми бортами. В нее, как догадались военнопленные, и планировали их погрузить.
– Не потопят ли? – тревожились бывалые красноармейцы. – Как беляки наших людей топили в Гражданскую войну на Волге.
– Да и мы беляков не щадили. Всех в баржу, а баржу на середину реки и потом на дно.
– Навряд ли, ведь финны тоже в плен к нашим попадают, – успокаивал себя и стоящих рядом щуплый человек. Казалось, его светло-голубые глаза всегда были чуть прищурены, вокруг них образовалась паутинка неизгладимых морщин. У него был тонкий нос, тонкие бледные губы – лицо утомленного жизнью аристократа.
Ему было за сорок. Среднего роста. От пронизывающего холода он втягивал шею в поднятый воротник шинели, сутулился. Глядя на него, можно было подумать, что он намного старше своих лет. У него на петлицах сохранились знаки отличия – золотая чаша со змеей – эмблема военно-медицинского состава.
– Дьявол их знает, Альберт Валерьянович, – сплюнул стоявший рядом с «аристократом» крепкий малый в морском бушлате по имени Бронислав, – бормочут что-то на своем. Ни черта не разобрать. Язык ни на немецкий, ни на голландский не похож.
У краснофлотца из-под бескозырки торчал лихо закрученный с каштановым отливом чуб. Хоть мореман был чуть выше среднего роста, его можно было назвать здоровяком – сильные руки, широкие плечи. У него были карие живые глаза, чуть раскосые, выступающий подбородок, квадратные челюсти, мясистый нос и большой рот. Когда он зычным голосом выкрикивал ругательства – показывал крупные передние зубы.
– Финский – из отдельной группы языков, не родственной ни немецкому, ни русскому. Вот карелы бы их поняли, – объяснил военфельдшер.
– А вдруг они, черти рогатые, надумали изобразить крушение этой калоши? – волновался краснофлотец. – Зачем им столько лишних ртов кормить?
Баржа ударилась в причал бортовыми кранцами, которыми служили плетенные из троса мешки, набитые пробковой крошкой. Матросы бросили швартовые и положили трап.
Старший охраны что-то крикнул на финском. Группа конвоиров выстроилась в живой коридор, ведущий к трапу.
– Бегом! – скомандовал старший охраны на русском языке.
Один за другим военнопленные побежали на борт.
– Эй, военврач, смотри-ка, – сказал краснофлотец.
К причалу подошел мотобот. Из него выскочил крепкий офицер, оставив мотор включенным. Офицер быстрым шагом направился к старшему охраннику. В руке он держал кожаный портфель, скорее всего, со спешным донесением.
– Экстренный приказ, – прошептал краснофлотец… и вдруг резко произнес: – Вперед!
Он сам бросился к берегу, соскочил на причал и что есть духу помчался к мотоботу.
За ним побежал и Альберт Валерьянович. Как показалось ему самому, сделал он это чисто инстинктивно. Хотя, когда военфельдшер увидел человека с кожаным портфелем, у него тоже возникли нехорошие подозрения – а не инструкция ли это, разъясняющая, как надо поступить с военнопленными?
Альберт Валерьянович, не чуя собственных ног под собой, стучал каблуками армейских сапог по скользкому бетонному причалу.
– Стоять! – раздался сзади окрик.
Ближайший охранник вскинул трехлинейку, быстро прицелился в спину военфельдшера и нажал на курок. Но вместо выстрела раздался треск. Старая винтовка дала осечку.
Правда, военфельдшер этого не видел: ни он, ни краснофлотец не оборачивались.
Бах! Бах! – зазвучали выстрелы, словно далекий лай сторожевых собак. Это открыли огонь другие охранники. Красные всполохи отчетливо проступали сквозь бело-серую пелену снега. Одна пуля расщепила борт мотобота. Остальные улетели в море.
Солдаты, не переставая, угрожающе кричали.
Краснофлотец спрыгнул в мотобот и встал за штурвал. Как только деревянная посудина закачалась от того, что на нее заскочил Альберт Валерьянович, мореман дал полный ход.
Еще несколько пуль просвистели в считаных сантиметрах от беглецов – вести прицельный огонь, когда в глаза бьет ветер со снегом, оказалось не так уж просто. А тем временем краснофлотец уже выруливал на открытую акваторию.
– Там! – кивнул он.
Впереди в море вырисовывался длинный силуэт сухогруза, на синей трубе был изображен желтый крест – флаг королевства Швеции.
– Шведы держат нейтралитет! – прокричал сквозь дождь и снег краснофлотец, – они нас не выдадут!
– Только бы успеть добраться! – крикнул в ответ Альберт Валерьянович.
– Доберемся! Это близко.
Пули пронзали воздух у них над головами. И казалось, они сейчас доберутся до цели.
– Ложись! – проревел краснофлотец. – На дно! Быстрее!
– А ты?
Военфельдшер лег и замер.
– А я заговоренный! – резко выкрутил штурвал краснофлотец.
Очередная «стая» пуль пролетела мимо и прошила оловянно-серые волны Финского залива.
– А теперь держись, – Бронислав повернул мотобот в другую сторону.
Прямо перед ним из-за мола появился полицейский быстроходный катер. Из кабины торчал ствол карабина. Краснофлотец успел заметить сполох выстрела и резко выкрутил штурвал.
Пуля разбила стекло и прошила поднятый воротник бушлата около самой шеи Бронислава, но его самого, к счастью, не зацепила.
– Я же говорил, что я заговоренный… Меня цыганка в Питере заговорила. Пройдешь войну, шепчет прямо в ухо, только искупаешься, а вот пули тебя не тронут.
Теперь мотобот на полном ходу мчался к шведскому сухогрузу. За ним, набирая скорость, гнался полицейский катер. Из-за мола показался спешащий на подмогу полицейским катер береговой охраны. Он был больше, на носу у него торчала небольшая пушка.
– Внимание! Русские солдаты, остановитесь! – с сильным финским акцентом произнесли в громкоговоритель. – Остановитесь! Иначе мы будем стрелять на поражение!
В снежной кутерьме, что кружила над морем, все отчетливее начал вырисовываться высокий борт сухогруза.
– Врешь, не выстрелишь – рядом швед! – прорычал со сжатыми зубами Бронислав.
Он уже повел мотобот параллельным курсом к шведскому кораблю и дал сигнал шведским морякам. Их силуэты показались над штирбортом.
Финский полицейский катер взял резко вправо, пошел наперерез, и расстояние между ним и мотоботом беглецов начало резко сокращаться.
– Давай, старая лоханка! Давай! – Бронислав дал полный ход, полный возможный.
Мотобот натуженно ревел, прорывался сквозь неспокойные волны, подскакивал на них, а полицейский катер, словно нож, разрезал пенные гребни и неуклонно приближался.
Вдруг краснофлотец понял, что финский полицейский идет на таран.
– Полундра! – воскликнул Бронислав.
Мотоботу не хватало места для маневра и скорости, чтобы уйти.
Услышав крик краснофлотца, военфельдшер приподнялся – прямо перед собой он увидел железный нос катера.
– Быстро за борт!
Альберт Валерьянович в секунду вскочил и бултыхнулся в море. Уже барахтаясь под волнами, он попытался расстегнуть шинель. Холодная вода обожгла тело, а намокшая одежда моментально потащила его вниз. Неимоверными усилиями – отчаянными гребками рук и ног – военфельдшер стал подниматься к поверхности.
Бронислав нырнул в набегающую волну, когда затрещали борта мотобота – нос полицейского катера вонзился в хлипкую посудину, разрезая ее на две части.
Голова военфельдшера несколько раз показалась над уровнем моря. Русые волосы цветом почти сливались с пеной Балтийского моря. Он жадно глотал воздух – изо всех сил боролся с бушующей стихией.
Наконец, с борта полицейского катера ему бросили спасательный круг. Окоченевшими от ледяной воды руками, словно крюками, Альберт Валерьянович сумел зацепиться за леер – трос по бокам спасательного круга. Это его и спасло.
* * *
На берегу Альберта Валерьяновича бросили в местную кутузку, где приказали раздеться догола. Вместо одежды ему кинули какую-то бесцветную сухую тряпку, скорей всего половую. Альберт Валерьянович тщательно вытерся ею и стал растирать тело; не шутка – вода в Балтике в это время года всего на пару градусов выше нуля.
Вдруг открылась дверь, и в подсобку ворвались полицейские. В таком жалком виде – голого, босого, с набедренной повязкой из тряпки, военфельдшера погнали по холодной каменной лестнице в кабинет, поочередно подгоняя тумаками.
Там, в кабинете, за широким столом сидел тот самый офицер с мотобота, Альберт Валерьянович сразу узнал его. Рядом с офицером стояло несколько полицейских.
Увидев военфельдшера, офицер диким голосом заорал.
– Вы идиот, – перевел этот крик пожилой полицейский, наверное, служивший городовым в Гельсингфорсе еще при царе. – И мы вполне могли вас не спасать.
«Ну, да, конечно, могли не спасать, – подумал про себя Альберт Валерьянович, – и это на глазах у шведов, которым вы хотите продемонстрировать свою заботу о несчастных военнопленных…»
– Но, как видите, наш народ не желает зла даже своим врагам, понимая все тяготы войны, которой мы никак не хотели, – говорил офицер. – Вы военный врач, старший военфельдшер и, как никто, должны понимать это.
Альберту Валерьяновичу уже в самом начале плена попадались на глаза прокламации финнов о чуть ли не отеческой заботе, которую проявляет главнокомандующий финской армии Карл Густав Эмиль Маннергейм к военнопленным. И этот офицер, как понял Альберт Валерьянович, отвечает за пропаганду.
– Почему вы бежали? – вдруг спросил он.
– Из-за подозрения.
– Какого подозрения?
– Что вы потопите баржу с военнопленными, – честно признался Альберт Валерьянович.
Выслушав перевод, офицер что-то воскликнул. Полицейский замялся, подбирая нужное слово, а затем произнес:
– Дикость.
– Я надеюсь, что вы оцените то, что мы вас спасли, и разъясните своим, что мы обороняемся и вовсе не желаем зла простым советским людям. Подпишите, – офицер положил перед военврачом Красной армии на стол какую-то бумагу.
– Вы предлагаете сотрудничество? – не читая, спросил Альберт Валерьянович.
– Нет. Содействие.
– Я не могу это подписать, но могу дать слово, что постараюсь донести своим товарищам доброжелательную позицию финского правительства относительно военнопленных, – уверил старший военфельдшер.
Офицер обвел взглядом худощавую фигуру Альберта Валерьяновича – голый, дрожащий от холода, тот держался гордо, с необыкновенным достоинством.
– Хорошо, я вам поверю, но учтите, я вас отошлю туда, откуда сбежать невозможно.
– А где Бронислав?
– Какой Бронислав? – переспросил офицер.
– Мой товарищ, с которым мы хотели бежать.
– На дне, – сказал офицер.
Альберт Валерьянович, глядя в лицо финну, не смог понять, говорит он правду или нет.
– Пошли, – сказал бывший городовой.
Альберта Валерьяновича отвели назад в кутузку, забрав его мокрую одежду.
– Отнесем в сушилку, завтра вернем, а пока вам принесут одеяло, – проворчал конвоир.
Он запер военфельдшера, оставив его в полной темноте.
* * *
И все-таки финский офицер обманул. Вечером в кутузку бросили голого и избитого Бронислава. Его спасли моряки финской береговой охраны. Вначале избили, затем дали глотнуть водки, узнав, что он коллега – моряк, а потом сдали тому же самому офицеру. Ничего подписывать Бронислав не стал, за что получил еще зуботычин и палок.
Через день под конвоем полицейских, в сопровождении того самого офицера Альберта Валерьяновича и Бронислава отправили в дальний лагерь на Аландские острова.
2
Старший военфельдшер Красной Армии Альберт Валерьянович Шпильковский открыл глаза. Все вокруг него грохотало и дрожало. Первым делом подумал, что начался артобстрел. Он приподнял голову – где-то совсем рядом отчаянно кричала женщина, а какой-то мужчина громко говорил что-то на совершенно непонятном Шпильковскому языке.
Его деревянные нары нещадно трясли. «Слава богу, не бомбежка и не обстрел…» Он потянулся, расправил плечи…
Однако трясти нары не переставали, а наоборот даже, усилили амплитуду и заорали еще громче.
«Сейчас Хомутарь сверху свалится и шею себе свернет», – представил Альберт Валерьянович и зевнул.
Мужик, в униформе мышиного цвета, из-под фуражки которого выбивалась седая прядь, перестал трясти стойку двухуровневых деревянных нар и бесцеремонно сорвал с военфельдшера шинель, служившую ему одеялом. Затем он яростно замахал руками, мол, вставай, одевайся. Альберт Валерьянович неторопливо сел на край нар, еще раз широко зевнул, закрыв тыльной стороной ладони рот, и тут же получил увесистый шлепок тяжелой лапой по спине, что означало – не рассиживайся, а быстрее одевайся.
Старший военфельдшер протянул руку за своим галифе болотного цвета, аккуратно сложенным на грубо сколоченной табуретке рядом с нарами. Мужик в униформе что-то резко буркнул в сторону женщины. Та закрыла лицо руками, чтобы не видеть, как Альберт Валерьянович одевается, и завыла чуть глуше.
Шпильковский понял, что у этой женщины произошло нечто из ряда вон выходящее, раз его подняли прямо посреди ночи – вероятнее всего, нужна его профессиональная помощь.
Звание старшего военфельдшера соответствовало званию старшего лейтенанта сухопутных и воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И хотя Шпильковскому было сорок пять, в Первую мировую он, уже будучи молодым доктором, спасал раненых в лазаретах русской армии. После революции Альберт Валерьянович остался военврачом, но по службе смог дорасти только до старшего военфельдшера. Правда, он работал в Гатчине, в армейском госпитале, и форму носил только для проформы. Все было как в обыкновенной клинике, вот только пациенты – военные.
Подниматься по служебной лестнице Шпильковскому мешало происхождение – он был из семьи земского врача, а врач, понятное дело, не принадлежал к пролетариату. Да и имя – Альберт – армейским чиновникам казалось уж больно буржуазным, а фамилия и вовсе подозрительной.
– Иду, – сказал старший военфельдшер, он протер заспанные глаза и уже быстро, по старой армейской привычке, оделся.
Мужик в униформе провел Шпильковского из недавно сколоченного барака, который все еще пах сырым деревом, на улицу, где лежал свежий снег. За мужчинами, всхлипывая и вздрагивая всем телом, засеменила женщина. Альберт Валерьянович украдкой глянул на нее. На вид ей было лет тридцать пять – сорок. У нее было круглое с ярко-розовыми щеками лицо, большие голубые глаза, светлые волосы, которые она укрывала шерстяным платком. Платок придерживала руками, грубыми, красными. Это свидетельствовало о том, что ее руки привыкли работать на холоде, скорей всего, в холодной воде. «Рыбачка», – предположил военфельдшер.
По протоптанной в снегу тропинке мужчины и женщина прошли к замку. Известный еще со Средневековья, он и сейчас выглядел строгим и довольно грозным: массивные каменные стены, устремляющиеся далеко ввысь остроконечные башни. Убыстряя шаг, мужик в униформе двинулся вдоль стены, и, наконец, все трое оказались около массивной и низкой двери кирпичной пристройки. Все окна этого сооружения были узкими и зарешеченными, а из одного струился бледный свет.
Мужик жестом показал, куда идти, и открыл чрезвычайно скрипучую, обитую железом дощатую дверь. Рукой он показал – мол, давай, заходи сюда.
Через нее в пристройку можно было войти, только согнувшись почти пополам. Шпильковский понял: от него хотят, чтобы он вошел первым. Военфельдшер отвесил поклон и очутился в коридоре, тускло освещенном электрическим светом. По его сторонам виднелись четыре двери и дверь в конце коридора. Именно туда мужик в униформе повел Шпильковского и рыдающую женщину.
В пристройке к замку находилось не то карантинное помещение, не то местный лазарет. Двери и стены там были выкрашены белой краской, а в главном кабинете в конце коридора, – первое, что бросилось в глаза фельдшеру, – стоял медицинский шкафчик времен Российской империи и сейф той же эпохи для хранения спирта, – точно такой же находился в приемном кабинете у отца Шпильковского. Ведь мужики, которых Валерьян Анатольевич лечил в Вятском крае, славились своей суровостью и были охочие на выпивку. В таком сейфе у отца еще хранился морфий, хотя земским врачам его не выдавали, отец умел доставать его полулегальным способом, потому что спирт все-таки менее действенное обезболивающее, чем морфий. Многие лекарства помогали закупать местные купцы. Помощь медицине они считали делом достойным и охотно сами навещали отца, чтобы вручить ему пачку ассигнаций.
– Ты, Валерьян, – говорил богатый торговец мехами, – если будешь давать эти лекарства жене генерал-губернатора, намекни, что купил его на средства купца Соковнина.
– Конечно, конечно, Степан Андреевич, – улыбался отец.
Эти картины из прошлого, казавшегося теперь уже недосягаемо далеким, пронеслись перед взором Шпильковского… А вот и свидетельства нового времени – на стене в массивной золоченой раме висел портрет сурового человека с усами, бровями «домиком» и пронзительным взглядом. Это был верховный главнокомандующий Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм, бывший генерал-лейтенант русской армии. На противоположной стене находилась физическая карта Аландских островов со всеми, даже самыми крохотными населенными пунктами. Островов в архипелаге – тысячи. Это самое большое скопление островов на Земле, поэтому карта очень напоминала изображение далекой неправильной галактики.
Под картой стоял младший офицер с деревянной кобурой на боку, явно призванный из запаса – рыжие с сединой усы и борода, глаза, обрамленные паутиной морщин, и красный нос с шелушащейся кожей свидетельствовали, что человек уже прожил половину своей жизни, в течение которой не упускал случая для обильного возлияния.
На столе перед офицером стояла миска с водой, он смачивал в ней кусок марлевой ткани и прикладывал ко лбу мальчика, который лежал на железной кушетке под портретом Маннергейма. Шпильковский понял, что именно ради этого подростка, которому на вид можно было дать лет тринадцать-четырнадцать, его разбудили среди ночи и привели сюда, в убогую местную санчасть. Мальчик был чрезвычайно бледен, осунувшийся, он лежал без сознания с закрытыми глазами.
Старший военфельдшер быстро подошел к больному, осмотрел его, прикоснулся ладонью ко лбу. У подростка была повышенная температура, но, как отметил про себя Шпильковский, она не была угрожающе высокой. Военфельдшер проверил пульс мальчика. Пульс прощупывался неплохо, хотя и не очень отчетливо, и казался учащенным. Молодой организм явно сопротивлялся пока еще неизвестной Шпильковскому болезни. В шкафчике военфельдшер поискал нашатырь, но его не оказалось, правда, там он нашел флакон с нюхательными солями. Альберт Валерьянович откупорил его – запах был довольно резкий, но не очень сильный. Военфельдшер поднес открытый флакон к носу подростка, однако это не подействовало. Тогда Шпильковский похлопал мальчика по щекам, никакого эффекта это не дало – только еще громче зарыдала женщина.
– Тихо, тихо… Попрошу без нервов, – проговорил скорей себе, чем ей, Шпильковский.
В шкафчике он заметил стародавний стетоскоп – деревянную трубку с небольшими раструбами на концах, быстро задрал на больном холщовую рубаху, приложил к его груди стетоскоп. Внимательно прослушал дыхание. Легкие были чистыми.
– Ну, и что же случилось с этим молодым человеком? – спросил Альберт Валерьянович, привычно подняв брови.
Никто в кабинете его вопрос не понял. Тогда военфельдшер попытался объяснить жестами, показал руками на лицо, грудь, живот мальчика, мол, где у него что болело. Женщина вроде догадалась, о чем спрашивал медик, схватила себя за горло, высунула язык, замотала головой и снова сильно завыла.
– Что вы говорите, горло болело? – нахмурился Шпильковский, – или, черт побери, он хотел повеситься?
Альберт Валерьянович еще раз глянул на шею подростка – характерных ран от веревки не наблюдалось.
– И что же с его горлом?
Мужик, который привел медика в эту санчасть, начал что-то говорить по-своему и при этом тормошить женщину, та зарыдала еще отчаянней.
Альберт Валерьянович видел, что взаимопонимания не было совершенно никакого.
Мужик отошел от женщины и что-то сказал приказным тоном рыжебородому офицеру. В ответ тот смешно козырнул, приложив ладонь к натянутой на самые брови пилотке, и, переваливаясь с ноги на ногу, быстрым шагом вышел в коридор.
Буквально через пару минут скрипнула дверь, раздались отрывистые слова. Затем рыжебородый, угрожая револьвером, привел в смотровой кабинет странного вида красноармейца. Шинель – рваная, без нашивок, вместо галифе – растянутые шерстяные штаны серого цвета, на одной ноге финский сапог пьекс с загнутыми носами для лыж, на другой – черный дамский сапог большого размера с отломанным каблуком.
– Здравия желаю, – сказал красноармеец, обращаясь к Шпильковскому.
Военфельдшер оторвал взгляд от больного и поднял глаза на вошедших.
– Здравия желаю! – ответил Альберт Валерьянович, с любопытством разглядывая красноармейца.
– Батальонный комиссар Самуил Стайнкукер.
– Старший военфельдшер Альберт Шпильковский…
Мужик в униформе мышиного цвета резким возгласом прервал взаимное представление командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
– Он хочет, чтобы я переводил, – произнес Стайнкукер.
– Если вы понимаете этот дикий диалект, то милости просим, – проговорил старший военфельдшер. – Моего знания немецкого совершенно недостаточно, чтобы уловить хоть слово из этого перекрученного шведского.
– Ну, моя специализация – скандинавские языки, и я поймал себя на мысли, что скорее понимаю этих людей, чем нет, – усмехнулся Стайнкукер.
– Что с мальчиком произошло? – спросил Шпильковский у мужика и женщины.
Батальонный комиссар перевел вопрос.
Женщина перестала рыдать и затараторила.
– Не могли бы вы говорить помедленнее? – на шведском языке попросил Стайнкукер.
Женщина, сильно сжав руки в замок, начала рассказывать.
Батальонный комиссар внимательно ее выслушал.
– Это Ульрика – сестра коменданта, – начал Стайнкукер и кивком головы показал на мужика в униформе мышиного цвета. – Сегодня вечером Готтфрид, – так зовут пацана, – пришел домой поздно, она заметила, что мальчик очень слаб и бледен. Ульрика спросила, что с ним, а он ответил, что очень сухо во рту и сильно хочется пить. Готтфрид побежал на кухню, попил из чайника горячей воды, пошел назад в комнату и вдруг упал.
– Попил горячей воды и упал? – задумался Альберт Валерьянович. – Может, отравление? А Ульрика сама пила из этого чайника?
Стайнкукер перевел слова Шпильковского.
– Да, она пила, и с ней ничего не произошло, и своему мужу она тоже заваривала чай этой водой, и ничего.
– Нам надо открыть ему рот и посмотреть язык. Ты держи ему голову.
Со второй попытки Шпильковский сумел разомкнуть челюсти подростка, находящегося без сознания, и заглянул ему в рот.
– Мне нужен фонарь, есть ли у кого-нибудь фонарь?
Комендант принес переносной фонарик «летучая мышь» и передал военфельдшеру.
Шпильковский осветил ротовую полость подростка. Язык молодого пациента казался белесо-серого цвета.
– Так, язык густо обложен, – отметил военфельдшер. – Здесь есть медицинский термометр?
Рыжебородый офицер достал из шкафа ртутный градусник в металлическом футляре, на котором стоял год изготовления «1899» и была выгравирована Эйфелева башня с надписью «dix annees».
– Красивая вещица, – сощурил свои черные глаза Стайнкукер.
– Прошлого века, французская, – военфельдшер вставил подростку термометр под левую подмышку, – скажите, офицеру, чтобы он хорошо держал его руку.
Стайнкукер перевел. Рыжебородый тут же исполнил команду.
– Голубушка, а вашего сына не рвало? – Шпильковский обратился к Ульрике.
– Говорит, что когда Готтфрид пришел с пирса на обед, он жаловался на боль в животе. И еще отказался есть. Только попил бульона и сразу же ушел, даже не взял хлеба, – переводил батальонный комиссар.
– А где у него болел живот?
Шпильковский провел ладонью по животу мальчика, прощупывая возможные вздутия или уплотнения. Подросток оставался без сознания и никак не реагировал на манипуляции врача.
Ульрика остановила руку военфельдшера в области желудка мальчика.
– У него раньше случались желудочные боли? – спросил Альберт Валерьянович.
– Говорит, что пару лет назад у него тоже болел живот, но тогда все обошлось.
– Дайте мне термометр – сказал военфельдшер.
На градуснике ртутный столбик остановился на отметке: 37.4.
– А теперь, пожалуйста, скажите офицеру, чтобы он точно так же плотно подержал его правую руку, – военфельдшер вставил градусник под правую подмышку.
– А что, разве у другой половины тела может быть другая температура? – язвительно ухмыльнулся Стайнкукер.
– Я прошу вас не комментировать мои действия, я же не спрашиваю у вас, каким образом вы выявляли шведских или норвежских шпионов в нашей доблестной Красной Армии.
– Рабоче-Крестьянской Красной Армии, – поправил батальонный комиссар.
Шпильковский пропустил мимо ушей это замечание. Альберт Валерьянович начал методично ощупывать правую подвздошную область, придавливая мышцы пальцами.
– Вот так и выявляли шпионов, на ощупь, – хмыкнул Стайнкукер.
– Прошу вас мне не мешать, – возмутился военфельдшер, все больше и больше морща свой и так морщинистый лоб.
В кабинете возникла напряженная тишина, даже Ульрика перестала рыдать, она внимательно смотрела на тонкие интеллигентные пальцы Альберта Валерьяновича.
– Ну-ка, градусник, – сказал Шпильковский.
Рыжебородый выполнил требование, и военфельдшер вслух произнес:
– Я так и знал – тридцать семь и пять. Быстрее! Теперь как можно быстрее. Мне нужен спирт, эфир или хлороформ и хирургические инструменты.
Стайнкукер перевел, но слова Альберта Валерьяновича вызвали одно только недоумение у младшего офицера и коменданта.
– Объясните им, что это флегмонозный аппендицит, который в любой момент может перейти в гангренозный. И если не сделать вовремя операцию по удалению червеобразного отростка, то острый аппендицит перейдет в стадию перфоративного. Тогда мальчику уже никакая операция не поможет.
– Ясно, – проговорил Стайнкукер и произнес по-шведски всего два слова.
Ульрика завыла как никогда раньше, комендант побагровел и что-то резко крикнул, и офицер пулей выбежал из кабинета.
– Что-то у вас очень короткий перевод получился, – удивился Альберт Валерьянович.
– Знаете, я таких слов, которые вы мне наговорили, и по-русски-то не знаю. Я сказал им – надо резать, иначе он умрет.
– А куда рыжебородый убежал?
– Начальник, то есть комендант, приказал своему помощнику бежать к ветеринару, а тот живет в центре острова. У него могут быть инструменты, и все прочее.
– Черт, я же не могу долго ждать, – посетовал Альберт Валерьянович.
* * *
– Пока у нас есть время на перекур, – сказал Стайнкукер.
– Я не курю, – пробурчал Шпильковский, – и вам не советую, у вас и так уже дыхание тяжелое.
– Это все от здешнего климата. А вот курить, наоборот, полезно. Легкие согревает, – снова оскалился в своей язвительной улыбке Стайнкукер, – в условиях лагеря курение помогает заводить полезные знакомства. Вот, например, угостил папироской или сам угостился, глядишь, и уже с человечком словом перемолвился. Если погнали на тяжелую работу, то пару минуток на перекур каждый охранник разрешит. А тот, кто не курит, тот пускай и дальше надрывается, здоровье свое гробит. Так что в некоторых ситуациях курево выручает.
– Иезуитские у вас рассуждения, молодой человек, – сказал Альберт Валерьянович.
– Ну да, я много повидал в жизни, вернее, чужих жизней у самой их кромки… То бишь у стенки, – неприятным тоном проговорил комиссар.
– Сам, видимо, подводил людей к ней? – резким тоном спросил военфельдшер.
– Было… Все было. – Стайнкукер обернулся к коменданту и по-шведски попросил вывести их покурить.
Тот понимающе кивнул, пробурчал своей сестре, чтобы она осталась с мальчиком.
На улице комендант достал из кармана пачку немецких папирос и предложил русским пленным.
Альберт Валерьянович отказался, он не курил, а вот Стайнкукер взял две папироски, как говорится, «себе и своему товарищу». Одну папироску спрятал в карман шинели. Комендант чиркнул бензиновой зажигалкой.
– Спасибо, – по-шведски поблагодарил Стайнкукер, затянулся, задержал дыхание и с шумом выдохнул дым.
Шпильковский отошел от него подальше. Он смотрел на звездное небо, на белую, словно череп, луну, пробивавшуюся сквозь облака, на берег моря, видневшийся впереди, на прибрежный лед и барашки волн вдали.
– Хорошо? – не то спросил, не то утвердительно произнес Стайнкукер. – А когда-то это была российская земля, – он выпустил клуб дыма, – столица Аландских островов – Мариехамн – гавань Марии. Названа в честь супруги императора России Александра II – Марии Александровны.
– Чего-то вы так восторженно рассказываете? – неприветливо произнес Шпильковский. – Ведь вы же ненавидите императоров, царей, королей. А независимость Финляндии, между прочим, дал товарищ Ленин.
– Ничего, скоро эта земля опять будет нашей… Не смогут же белофинны устоять против доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, – последние слова Стайнкукер произнес с едва заметной тревогой в голосе.
– Знаете, – после затянувшейся паузы проговорил Альберт Валерьянович, – курите где-нибудь подальше от меня. Пассивное курение тоже сокращает жизнь.
– Нашу жизнь и так укоротят, – неприятно засмеялся Стайнкукер, – финны скоро лапки над головой подымут, сложат оружие, а нас выдадут на родину. Только там мы не герои, а предатели. СССР не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, потому что боец Красной Армии не должен сдаваться в плен, последний патрон он должен приберегать для себя, – Стайнкукер бросил окурок на землю.
Комендант тут же резко что-то произнес, и батальонному комиссару пришлось поднять окурок и положить его в карман.
– На родине нас ждет лагерь похуже этого. А может быть, и та пуля, которую мы с вами не пустили себе в лоб… Хотя Финляндия также не подписала Женевскую конвенцию, однако Маннергейм заявил, что все ее положения финны будут соблюдать и даже постараются создать хорошие условия для военнопленных. Это чтобы русские сами сдавались.
– Что-то подобное я читал в местной стенгазете, которая называется «Друг пленного», – сказал Альберт Валерьянович.
– Ну да, это же я все писал, рисовал и клеил.
– То есть вы и тут работаете по специальности?
– Приходится, – признался Стайнкукер. – Я для себя уже решил – надо любым способом оставаться здесь, на Западе, лучше – в Швеции. Светлое будущее в Советском Союзе уже будут строить без нас. Да и у финнов в лагере – лафа, работаешь, если хочешь, в местном коровнике. А дома нас ждет лесоповал до полного изнеможения.
– А чего это у вас такой странный вид? – поинтересовался Шпильковский. – И в бараке я вас не видел.
– Я свои сапоги в болоте утопил. Меня финны вытянули уже без них, ну вот и дали, может быть, ради смеха, – батальонный комиссар посмотрел на женский сапог без каблука, надетый на его правую ногу. – Комендант обещал достать другую обувь, если не буду нарушать дисциплину. А так меня держат отдельно. Они вообще не понимают, кто такие комиссары. То ли попы, то ли надсмотрщики, которые могут даже стрелять в командиров. Поэтому комиссаров держат отдельно от остальных пленных.
– Ну а вы кто? Поп или…
– Я должен был работать с захваченными буржуазными добровольцами. Одурманенные финской пропагандой шведы, датчане, норвежцы прибывали на помощь белофиннам. Ну, вот с такими пленными мне нужно было и работать. И наши трусы попадались на удочку финской пропаганде… – Стайнкукер докурил вторую папиросу, посмотрел на коменданта, заискивающе улыбнулся и снова спрятал окурок в карман шинели.
– Сейчас попросимся на чай, – сказал он и тут же затараторил по-шведски.
Комендант кивнул головой, провел военнопленных в свой кабинет. Там он поставил на стол спиртовой самовар с витиеватой надписью на кириллице «Бр. Шемарины».
– Ого, – подмигнул Стайнкукер Шпильковскому, – это же надо, сжигать спирт, чтобы подогреть воду… Смотреть больно. Давайте попросим граммов по сто этого горючего?
– Пожалуйста, не паясничайте, мне еще предстоит серьезная операция… – урезонил его Альберт Валерьянович. – Между прочим, это русский самовар, так что в императорской России тоже сжигали спирт, чтобы подогреть чай. А на островах, где дефицит дерева, такой самовар вполне уместен.
Комендант – пожилой, но бодрый человек, которому было явно за шестьдесят, показал на два старинных стула возле массивного стола, достал из шкафчика два куска сахара, дал каждому военнопленному, разлил в железные кружки настоящий английский чай.
Стайнкукер с шумом подул в свою кружку, чтобы немного остудить напиток, сделал глоток, отгрыз уголок от куска сахара. От теплого чая батальонный комиссар осоловел и вскоре начал клевать носом.
– Леннарт, – сказал комендант, показывая на себя, – Хольмквист.
– Альберт Валерьянович Шпильковский, – представился военфельдшер. – Мы, пленные, конечно же, знаем, как зовут начальника лагеря, – военфельдшер ткнул локтем Стайнкукера, чтобы тот перевел. – Но вот так близко вижу вас впервые.
– Он говорит, что, конечно же, знает имя своего начальника… – начал по-шведски батальонный комиссар.
– Йа! – проговорил комендант, достал из ящика стола журнал, открыл его, провел по списку имен указательным пальцем и на свой манер прочитал, – Альберт Шпылековескы. Браа… Корошо.
– Да… только вот ваш малый плох. Дайн зон ист нихт гут, – военфельдшер перевел на немецкий свои слова, и ему показалось, что комендант его понял.
В коридоре послышались шаги. В кабинет коменданта вошли рыжебородый офицер и седой сгорбленный старик лет под семьдесят. В руке у старика был саквояж.
– Кристофер Андерссон, – представился он и протянул сухонькую руку военфельдшеру.
– Альберт Шпильковский. – Старший военфельдшер РККА пожал руку ветеринару, – Готтфриду необходима срочная операция, апендэктомия. У мальчика острый аппендицит, – сказал он по-немецки.
– Их ферштэе… Шнеля, – кивнул головой ветеринар.
Все двинулись в смотровой кабинет, где остался лежать мальчик.
Тот по-прежнему не приходил в сознание. Его мать, увидев входящих мужчин, снова отчаянно зарыдала.
– Пожалуйста, попросите, чтобы они организовали хорошее освещение, – сказал Шпильковский Стайнкукеру.
Тот перевел, и рыжебородый выбежал из смотрового кабинета. Вскоре он вернулся, держа в руках большой фонарь.
– Вешайте его над столом, – приказным тоном сказал военфельдшер, – и быстрее.
Когда освещение было, наконец, установлено, ветеринар раскрыл свой саквояж, достал металлический ящичек для хирургического инструмента. Все было на месте – скальпели, зажимы, пинцеты, ножницы, шприцы, иглы, ранорасширители, похожие на вилочки. Правда, инструмент был больше по размерам и тяжелее обычного… В специальном отделении саквояжа находились нитки, перчатки, стерильная вата, марля.
– Я в основном специализируюсь по домашним животным, – произнес по-немецки Андерссон, увидев, как военфельдшер оценивает его хирургический набор.
– Все в таком отличном состоянии. А есть эфир или хлороформ? – спросил Альберт Валерьянович.
– Хлороформ. Вот в той бутылочке, – указал ветеринар на пузырек.
Шпильковский надел марлевую повязку, резиновые перчатки, то же самое сделал и ветеринар – он и без просьб военфельдшера догадался, что его задача – ассистировать доктору при операции.
– Попрошу никому к столу не приближаться, даже не дышать в эту сторону, не делать резких движений и не рыдать, – последние слова Шпильковский адресовал Ульрике.
Стайнкукер перевел, и сестра коменданта сразу же перестала всхлипывать.
Шпильковский хорошенько протер спиртом правую подвздошную область мальчика, аккуратно прощупал, нарисовал специальным карандашом крест.
Затем дал подышать мальчику хлороформом, после этого взял предложенный Андерссоном скальпель и сделал аккуратный надрез. Ветеринар тут же подал коллеге вилочки-ранорасширители.
Операция длилась минут десять, не больше, – благо червеобразный отросток у мальчика находился в обычном положении.
Когда Шпильковский отрезал аппендикс и передал его Андерссону, чтобы тот бросил его в металлическую ванночку, матери мальчика стало плохо. Ее успел поддержать комендант, подсунув под нос флакон с нюхательной солью. Ульрика встрепенулась, затем глубоко вдохнула. Правда, Альберт Валерьянович всего этого не видел, он в это время зашивал рану.
– Всё… Теперь жить будет, – наконец сказал он, вытерев пот со лба.
Однако его слова никто не перевел. Военфельдшер обернулся – Стайнкукер стоял не бледный, а зеленый.
– Дайте понюхать соли комиссару, – Шпильковский сказал по-немецки, а ветеринар повторил это по-шведски.
Рыжебородый офицер подошел к Стайнкукеру, хлопнул того по щекам, дал понюхать соли. Лицо батальонного комиссара порозовело.
– Черт, я ни разу не присутствовал на операциях…
– Да, это тебе не языком чесать, – проговорил Шпильковский, – господин Андерссон, вы расскажите госпоже Ульрике и господину Леннарту, как теперь нужно ухаживать за мальчиком.
– Я-я, – согласился ветеринар.
Шпильковский снял повязку и перчатки, улыбнулся коменданту, мол, операция – это сущий пустяк.
– Сторт так, – сказал комендант, – сторт так.
– Большое спасибо, – перевел Стайнкукер, – он тебе очень благодарен.
Леннарт Хольмквист пожал руку военфельдшеру, а затем к Шпильковскому подошла его сестра. Ульрика протянула ему небольшой сверток.
– Сторт так, – сказала она, – матен… ер смакрик.
– Большое спасибо, здесь немного еды. Очень вкусно, – проговорил батальонный комиссар.
– Спасибо вам. Сторт так, – теперь уже сказал Шпильковский и взял сверток.
Комендант произнес еще несколько слов.
– Спрашивает, что он может для тебя еще сделать? – перевел вопрос Стайнкукер.
– А что он может сделать? Да ничего… – улыбнулся Альберт Валерьянович.
– Дурак, давай хоть выпьем, чтобы заснуть можно было, – засуетился комиссар.
– Что, нервы пошаливают?
– Да после такого…
– Ладно, давайте выпьем за здоровье мальчика и спать… – согласился военфельдшер.
Стайнкукер перевел это предложение.
Мужчины засмеялись… Ульрика приложила палец к губам…
Ветеринар и мать мальчика остались с больным, четверо мужчин отправились в кабинет коменданта.
Теперь спирт не служил горючим для кипячения воды, а использовался для непосредственного «разогрева» крови. Шпильковский хотел для закуски предложить продукты, которые ему дала сестра коменданта, но Леннарт Хольмквист жестом остановил его, мол, это твое, и сам достал из шкафчика хлеб, тарелку с холодной телятиной и вареной картошкой.
Под утро сам комендант и его рыжебородый помощник отвели батальонного комиссара в его камеру, а военфельдшера – в общий барак.
3
Не бывает войны без пленных, и этих пленных всегда надо где-то содержать. Вот и с началом советско-финской войны – с 30 ноября 1939 года – стали появляться первые советские военнопленные. И их оказалось гораздо больше, чем ожидало финское правительство. Для взятых в плен красноармейцев наспех создавались лагеря в западных частях страны, подальше от линии фронта. Как раз один такой временный лагерь и был организован на Аландских островах.
Он был небольшой, и привозили сюда только представителей комсостава РККА. К концу января 1940 года тут насчитывалось чуть менее ста человек. Условия были довольно сносные – Маннергейм держал слово.
В недавно сколоченном бараке вокруг печки-«буржуйки» по периметру стояли двуспальные деревянные нары – военнопленные спали ногами к печке, головой к стенам с узкими в одну доску решетчатыми окнами.