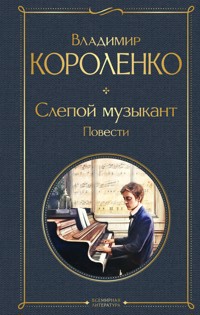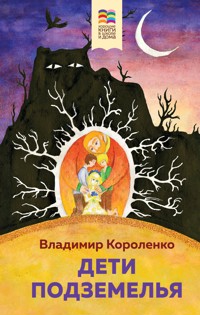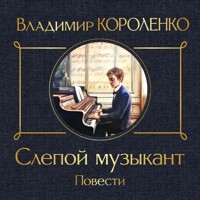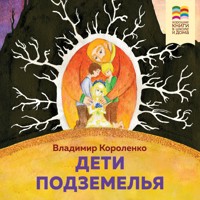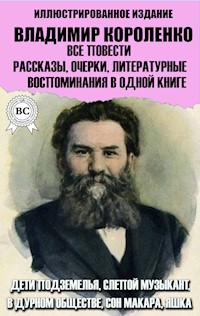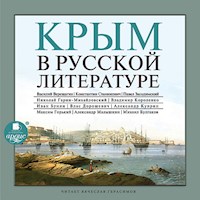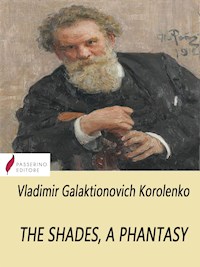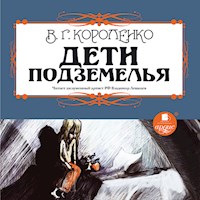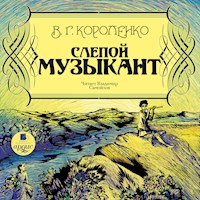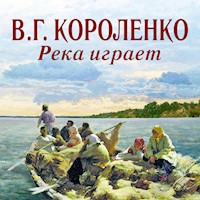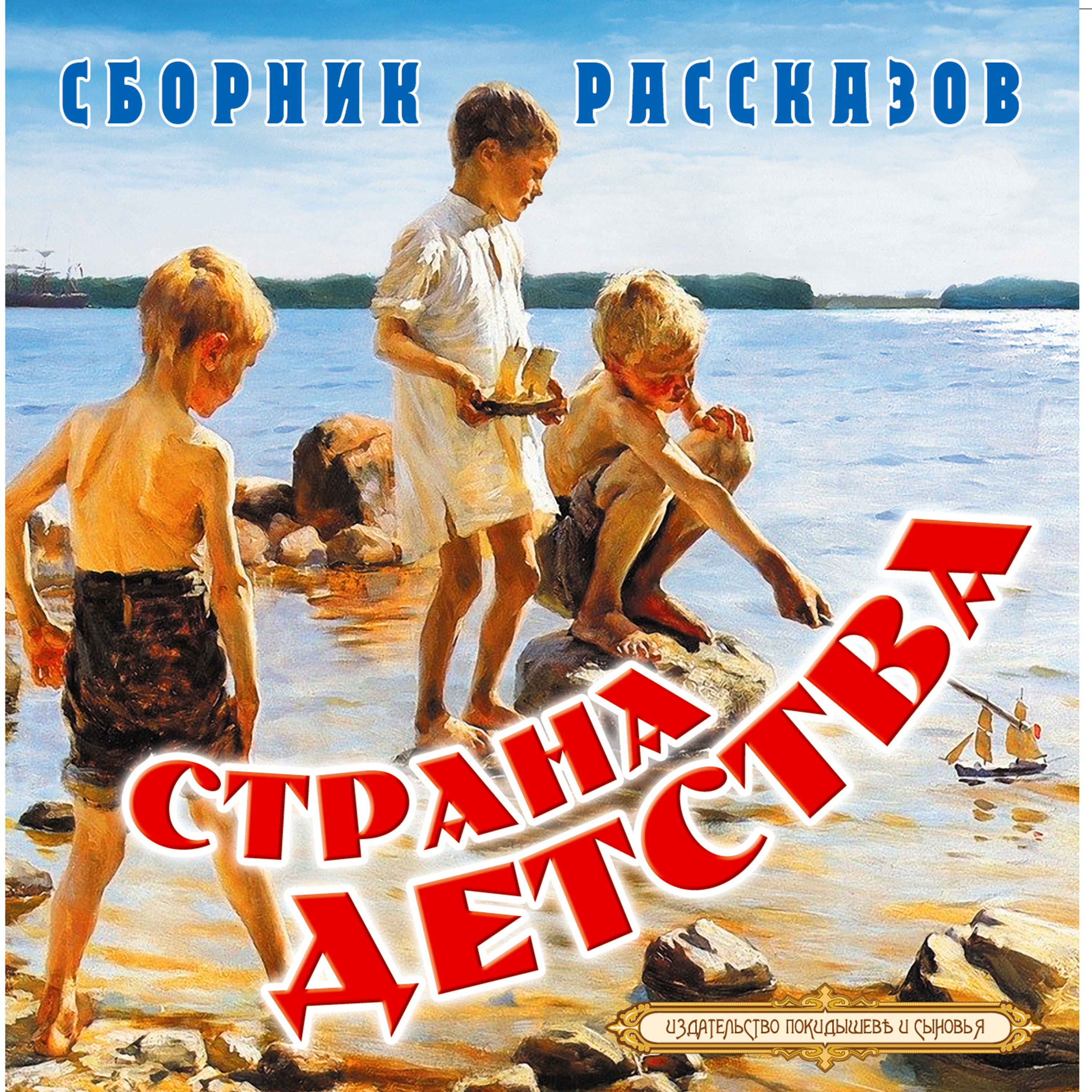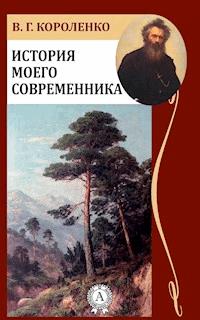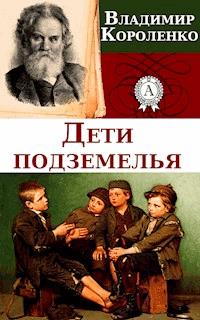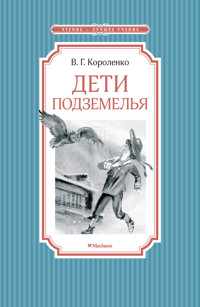
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Чтение-лучшее учение
- Sprache: Russisch
«Дети подземелья» – это сокращённый вариант повести Короленко «В дурном обществе», который был сделан в 1886 году специально для детского журнала «Родник». В этом виде повесть сразу вошла во все школьные хрестоматии и с тех пор постоянно переиздаётся. В центре сюжета – трагическая судьба детей-сирот, вынужденных жить в мире жестокости и равнодушия, под влиянием «дурного общества». Рассказ пробуждает в читателях чувства милосердия и сострадания, обострённую совестливость и жажду справедливости.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Вступительная статья Евгении Белоусовой
Короленко В. Г.
Дети подземелья : повесть / Владимир Галактионович Короленко ; вступ. ст. Е. Белоусовой ; ил. В. Плевина. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023. : ил. – (Чтение – лучшее учение).
ISBN 978-5-389-24296-8
«Дети подземелья» – это сокращённый вариант повести Короленко «В дурном обществе», который был сделан в 1886 году специально для детского журнала «Родник». В этом виде повесть сразу вошла во все школьные хрестоматии и с тех пор постоянно переиздаётся.
В центре сюжета – трагическая судьба детей-сирот, вынужденных жить в мире жестокости и равнодушия, под влиянием «дурного общества». Рассказ пробуждает в читателях чувства милосердия и сострадания, обострённую совестливость и жажду справедливости.
0+
© Плевин В. Ф., иллюстрации, 2023
© Вступительная статья, оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023Machaon®
«Общий закон жизни есть стремление к счастью…»
Повесть «Дети подземелья» написана автором, чья жизнь прошла под знаменем борьбы с несправедливостью. Владимир Галактионович Короленко родился в 1853 году в Житомире – городке на северо-западе Украины. Он был сыном уездного судьи, неподкупность и справедливость которого сильно повлияли на формирование мировоззрения маленького Володи. Дети в семье Короленко жили просто, им не доводилось разделять людей на благородных и неблагородных: Володя с братьями и сёстрами с увлечением слушали рассказы старой кухарки о страшной нечистой силе, играли вместе с дворовыми ребятами и бегали смотреть на установку телеграфных столбов. В одиннадцать лет Владимира отдали учиться: сначала в гимназию в Ду́бно, затем в Ро́вно, куда переехала семья. Занимался мальчик прилежно, следуя заветам отца, который очень верил в «книгу и науку». Но больше всего Володю занимали уроки русской литературы: Вениамин Васильевич Авдиев, учитель словесности в реальной гимназии в Ровно, стал для воспитанников проводником в удивительный мир творчества Некрасова, Тургенева, Гоголя. Именно Авдиев вложил в сознание подрастающего юноши, что ни национальная, ни какая иная идея не могут стоять выше веры в человека. Гимназист Короленко всегда боролся за честность, не боялся открыто противостоять злому и низкому. Однажды он при всех обличил подслушивающего надзирателя и в лицо назвал того шпионом, что могло привести к исключению из гимназии, но правда стоила риска. К слову, окончил гимназию Владимир с серебряной медалью.
Уже будучи взрослым, В. Г. Короленко участвовал в движении за социальное равенство, вследствие чего подвергался арестам и ссылкам. Писатель был настолько верен своим принципам, что сознательно отказался от возможного помилования: не согласился присягнуть взошедшему на престол царю Александру III, за что был вновь сослан, теперь в Восточную Сибирь, Якутию.
За Владимиром Галактионовичем прочно закрепилось имя защитника слабых и обездоленных. По мнению Луначарского, министра просвещения в правительстве большевиков, Короленко был достоин встать во главе молодой советской республики. Однако Короленко никогда не искал власти и славы, а революцию, цена которой была кровь, не принял, ведь его любовь и сострадание к людям были выше политики. Писатель защищал нуждающихся всеми доступными ему способами. Во время Гражданской войны, например, организовывал сборы продуктов и бесплатную еду для беспризорных детей. Но главное – всем своим творчеством он призывал обратить внимание на несчастных, тех, кому голодно и холодно.
Именно о таких людях рассказывает Короленко в одном из самых известных своих произведений – повести «Дети подземелья». Самому Владимиру Галактионовичу в момент создания этой повести было нелегко – он находился в якутской ссылке. Однако, воспитанный примером честного отца-судьи и писателей-гуманистов, Короленко, как всегда, думал не о себе, а о других.
В «Детях подземелья» Короленко, описывая тяжёлые, трагичные условия жизни героев, затрагивает множество очень важных тем: это и взросление маленького Васи, и обретение истинной дружбы, и взаимоотношения отца и сына, и вопросы нравственного выбора. Васе всего шесть лет, но он уже испытал «ужас одиночества»: мама умерла, а отец, целиком погрузившийся в своё горе, не мог дать сыну заботы и тепла. Но мальчик не ожесточился, напротив, научился искренне сочувствовать беднякам, дарить тепло и внимание обездоленным. Вася увидел, какую злую шутку может сыграть социальное неравенство: будучи сыном уважаемого судьи, он и предположить не мог, что существуют некие «серые камни», которые высасывают из человека радость, что фарфоровая кукла может быть воспринята нищей девочкой как неземной дар.
Судьба, как показывает Короленко, бывает жестокой и несправедливой: несмотря на все свои достоинства и положительные качества, люди подземелья (а тем более дети) обречены. Из нежной, хрупкой Маруси, «бледного, крошечного создания, напоминавшего цветок, выросший без лучей солнца», серый камень подземелья высасывает жизнь. Её брат Валек с детских лет вынужден добывать пропитание преступным путём. Поэтому по прочтении повести невольно возникает вопрос: «Есть ли будущее у тех, кто оказался в дурном обществе?»
Книгу эту нельзя назвать лёгкой и развлекательной, но познакомиться с ней необходимо каждому. Она ценна тем, что заставляет задуматься над важными вопросами, которые могут помочь в формировании личности человека и в воспитании честных «законов сердца». И. А. Бунин как-то сказал, что может «спокойно жить в России, зная, что тут есть такой человек, как Владимир Короленко». Сегодня великого писателя-защитника уже нет с нами, но живы произведения, которые продолжают его дело.
Евгения Белоусова
1. Развалины
Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.
Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-Западного края.
Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой» [1]. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах тёмными воротами еврейских «заезжих домов» [2]; казённые учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колёсами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот ещё минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся берёзы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.
Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.
Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нём ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», – передавали старожилы, и моё детское испуганное воображение рисовало под землёй тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался ещё страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободрённые светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, – так страшно глядели чёрные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго ещё стоял стук, и топот, и гоготанье.
А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом.
В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У неё кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.
Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Всё, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – всё это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребёнными под грудами старого мусора. «Живёт в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались – вообще как-то поддерживали своё существование.