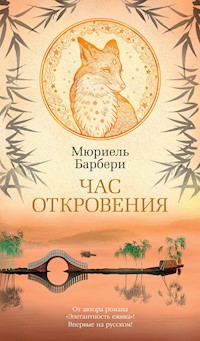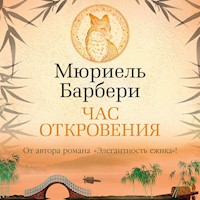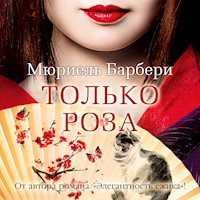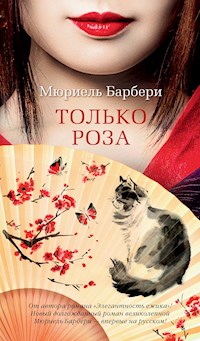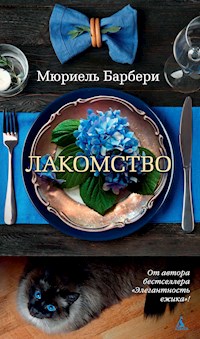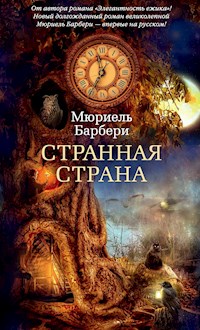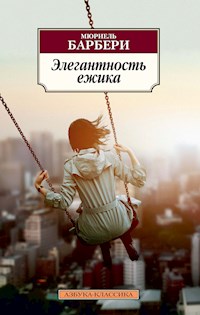
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
"Элегантность ежика" - второй роман французской писательницы Мюриель Барбери (р. 1969), прославил ее имя не только во Франции, но и во многих других странах. Мюриель страстно влюблена в творчество Л. Н. Толстого и культуру Японии, и обе эти страсти она выразила в этой книге. Девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире… О том, что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, читатель узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
MurielBarbery
L’éléganceduhérisson
© Editions Gallimard, Paris, 2006
Перевод с французского Натальи Мавлевич и Марианны Кожевниковой
Барбери М.
Элегантность ежика : роман / Мюриель Барбери ; пер. с фр.Н. Мавлевич и М. Кожевниковой. — СПб. :Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-10160-9
16+
«Элегантность ежика», второй роман французской писательницы Мюриель Барбери (р. 1969), прославил ее имяне только во Франции, но и во многих других странах. Мюриель страстно влюблена в творчество Л. Н. Толстого и культуру Японии, и обе эти страсти она выразила в этой книге.
Девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире… О том, что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, читатель узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман.
© Н. Мавлевич, перевод, 2009
© М. Кожевникова, перевод, 2009
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014 Издательство АЗБУКА®
Стефану, вместе с которым я писала эту книгу
Маркс
(Вступление)
1. Посеешь желание
— Маркс совершенно изменил мое видение мира, — сказал мне сегодня утром молодой Пальер, никогда прежде со мной не заговаривавший.
Антуан Пальер — богатый наследник династиипромышленников, сын одного из восьми моих работодателей. Молодой человек, один из последних отпрысков крупной деловой буржуазии, которая в наши дни размножается исключительно путем непорочной отрыжки, просто хотел блеснуть новыми познаниями, у него и в мыслях не было, чтоя что-нибудь соображаю в таких вещах. Разве трудящиеся массы способны разобраться в Марксе! В этом сложном тексте, научном слоге, утонченном языке, запутанных умозрениях.
И тут я чуть было глупейшим образом себя не выдала.
— Вы бы почитали «Немецкую идеологию», — ляпнула я этому балбесу в модной курточке бутылочного цвета.
Чтобы понять, что такое Маркс и в чем он ошибался, надо прочесть «Немецкую идеологию». Это антропологическая база, из которой выросли все его россказни о новом мире и на которой зиждется главнейшее его убеждение: следует не гоняться за химерой желаний, а ограничиться потребностями. Только в мире, где будет обуздан гибрис1 желания, станет возможным новое общественное устройство, без войн, угнетения и тлетворного неравенства.
Еще немного — и я, забыв, что, кроме моего кота, меня слышит кто-то еще, пробормотала бы:
— Посеешь желание — пожнешь угнетение.
К счастью, Антуан Пальер, которого пренебрежение к людям и легкий намек на усы еще не приближают к кошачьему роду, смотрит на меня так, будто ослышался. Меня, как обычно, спасает человеческая неспособность поверить во что-то, чтоне укладывается в уютные привычные представления. Консьержки «Немецкую идеологию» не читают, и им, слава богу, неведом одиннадцатый тезис о Фейербахе2. Если же вдруг найдется среди них такая, которая читает Маркса, значит, она ступила на путь порока и продала душу дьяволу, имя которому — профсоюз. А что консьержка может читать подобную литературу просто-напросто для общего образования — так это полная нелепость, которая ни одному нормальному буржуа и в голову не придет.
— Кланяйтесь мамаше, — буркнула я и закрыла свою дверь у него перед носом, надеясь на то, что вековые предрассудки окажутся сильнее, чем диссонанс двух фраз.
1Похоть, гордыня, излишество(греч.).
2Имеется в виду одиннадцатый тезис из работы Маркса «Тезисы о Фейербахе»: «Философы лишь различным образомобъяснялимир, но дело заключается в том, чтобыизменитьего».
2. Шедевры мирового искусства
Меня зовут Рене. Мне пятьдесят четыре года. И вот уже двадцать лет я работаю консьержкой в доме номер семь по улице Гренель, красивом особняке с внутренним двором и садом. Тут восемь огромных роскошных квартир, и ни одна не пустует. Я вдова, некрасивая, толстая, маленького роста, на ногах у меня торчат косточки, а изо рта разит по утрам, как из помойки. Я это чувствую, когда уж очень сама себе бываю противна. Я нигде не училась и всегда оставалась бедной, скромной и незаметной. Живу одна, с котом, здоровенным и ленивым, в котором нет ничего примечательного, разве что манера всюду следить вонючими лапами, когда он чем-то недоволен. Ни он, ни я — и тут мы заодно — ничуть не стремимся влиться в ряды себе подобных. Поскольку я не очень-то приветлива, хотя всегда учтива, меня не слишком любят, но относятся ко мне вполне терпимо, ведь я идеально соответствую укоренившемуся в общественном сознании стандартному образу домашней консьержки, тем самым выполняя свою роль колесика в огромном механизме мировой иллюзии: согласно ей, жизнь будто бы имеет некийсмысл,который ничего не стоит разгадать. На тех же небесных скрижалях человеческой глупости, где значится, что все консьержки — старые, сварливые уродины, записано огненными буквами, что вышеупомянутые консьержки держат жирных котов, которые целый день валяются на подушках, накрытых вязанными крючком накидками.
Далее сказано, что, пока коты валяются и спят, консьержки непрерывно смотрят телевизор и что в вестибюле непременно должно пахнуть стряпней: тушеным мясом, супом с капустой или свиным рагу. Мне страшно повезло, что я консьержка не в каком-нибудь, а в суперреспектабельном доме. До чего унизительно было готовить всю эту гадость, и как же я обрадовалась, когда месье де Брольи, государственный советник со второго этажа, вежливо, но твердо — должно быть, так он выражался, когда рассказывал жене об этом своем шаге, — дал мне понять, что подобные плебейскиезапахи неуместны в жилище такого класса. Однако я притворилась, что неохотно подчиняюсь.
Это было двадцать семь лет тому назад. И каждый день с тех пор я покупаю в мясной лавке ломтик ветчины или кусок телячьей печенки, кладу в кошелку и несу домой вместе с пачкой лапши и пучком моркови. Глядите все: вот пища бедняков, имеющая то похвальное преимущество, что не издает неподобающего запаха, ведь я беднячка в доме богачей; таким образом я одновременно удовлетворяю общественные ожидания и своего кота по кличке Лев — он оттого и жирный, что обжирается едой, по идее предназначенной мне: свининой, макаронами с маслом, а я, пока он чавкает, могу спокойно, не смущая обоняние ближних, питаться тем, что отвечает моим собственным вкусам, о которых никто не имеет понятия.
Куда труднее оказалось утрясти вопрос с телевизором. Пока был жив мой муж, не возникало никаких проблем: Люсьен смотрел все подряд, избавляя меня от этой повинности. В вестибюль бесперебойно поступали нужные звуки, и этого хватало для поддержания устоев социальной иерархии; когда же Люсьена не стало, мне пришлось поломать голову, чтобы придумать, как сохранять необходимую видимость. Люсьен исполнял вместо меня тягостную обязанность, его невежество надежно укрывало меня от подозрений окружающих; лишившись мужа, я лишилась этой защиты.
Все решилось с появлением видеонаблюдения.
Раньше каждый входящий должен был нажимать кнопку вызова, теперь же у меня автоматически звенел звоночек, соединенный с инфракрасным датчиком, давая мне знать о том, что в вестибюле кто-то есть, как бы далеко от входа я ни находилась. Потому что обычно я провожу почти все время в задней комнатке, изолированной от навязанных моим положением запахов и звуков, где могу делать что хочу и при этом оставаться в курсе всего, что должен знать исправный страж: кто, когда и с кем входит и выходит.
Таким образом, жильцы, проходя через вестибюль, слышали невнятный шум, говорящий о том, что за дверью работает телевизор, и этого вполне хватало их воображению — в силу его убожества, а вовсе не богатства, — чтобы нарисовать образконсьержки, сидящей перед экраном. Я же, забившись в свое логово, ничего не слышала, но понимала, что кто-то вошел. Тогда я подходила к круглому окошку, выходящему на лестничную клетку, и смотрела, кто там, оставаясь невидимой за белой муслиновой занавеской.
Видеокассеты, а потом божественные диски DVD еще более радикально изменили к лучшему мое существование. Поскольку консьержка, млеющая перед «Смертью в Венеции», — явление довольно странное, как и симфония Малера, доносящаяся из привратницкой, я посягнула на скопленные с большой натугой семейные сбережения и купила новый телевизор с плеером, который установила в своем тайном убежище. А старый остался в офисе и обеспечивал мне конспирацию, изрыгая рассчитанную на улиточьи мозги дребедень, пока я со слезами на глазах наслаждалась шедеврами мирового искусства.
Глубокая мысль № 1
Погонишься за звездами — Кончишь жизнь в аквариуме Золотою рыбкой.
Насколько мне известно, взрослым случается иногда задуматься о своей бездарной жизни. В таких случаях они начинают стенать, бестолково метаться, как мухи, которые тупо бьются и бьются в стекло, чахнуть, страдать, переживать и удивляться, как занесло их туда, куда они вовсе не стремились. У самых умных эти причитания превратились в ритуал: о презренное, никчемное буржуазное прозябание! Такие циники попадаются среди папиных знакомых. Сидят в гостиной за столом и вздыхают с самодовольным видом: «Эх, где мечты нашей молодости! Развеялись как дым, такая сволочная штука — жизнь». Ненавижу эту их фальшивую умудренность! На самом деле они ничем не отличаются от остальных — такие же ребятишки, которые не понимают, что с ними случилось, им хочется плакать, но они пыжатся и корчат из себя больших и крутых.
Между тем понять совсем нетрудно. Беда в том, что дети верят словам взрослых, а когда сами взрослеют, в отместку врут собственным детям. «Взрослые знают, в чем смысл жизни» — вот всемирное вранье, в которое все обязаны верить. А когда станешь взрослым и поймешь, что это неправда, уже поздно. Тайна так и остается неразгаданной, а энергии больше нет — вся она давно растрачена на глупейшие занятия. Чтобы было не так горько, приходится притворяться, делать вид, будто не видишь, что никакого смысла в твоей жизни не обнаружилось, и обманывать детей в надежде убедить самого себя.
Все, с кем общаются мои родители, прошли один и тот же путь: в молодости старались выжать все, что можно, из своих мозгов, воспользоваться преимуществом хорошего образования и выбиться в элиту, а потом всю жизнь давались диву: почему такой многообещающий дебют привел к такому убогому существованию? Люди пускаются в погоню за звездами, а кончают тем, что трепыхаются, как золотые рыбки в аквариуме. Так не проще ли, спрашивается, с самого начала учить детей, что жизнь абсурдна. Пусть это несколько омрачит детство, зато сбережет немало времени в зрелости да еще, между прочим, предохранит от душевной травмы — я имею в виду аквариум.
Мне двенадцать лет, и я живу в доме номер семь по улице Гренель, в роскошной квартире. У меня богатые родители, богатая семья, и, значит, теоретически мы с сестрой тоже богатые. Мой отец раньше был министром, сейчас он депутат, а когда-нибудь, глядишь, взлетит на самый верх и будет попивать казенное винцо в особняке Лассэ3.
Мать... Ну, она не блещет интеллектом, зато очень образованная. Доктор филологических наук. Так что пишет приглашения гостям без единой ошибки и вечно пристает к нам с литературными намеками («Коломба, не строй из себя госпожу де Германт», «Ах, золотко мое, ты настоящая Сансеверина»).
Но, несмотря на такое везение и богатство, я давно знаю, что конец один: аквариум. Откуда знаю? Дело в том, что я очень умная. Просто зверски. По сравнению с ровесниками — и говорить нечего! Но поскольку мне вовсе не хочется, чтобы это было заметно, — в семье, где умственные способности ценятся превыше всего, одаренному ребенку не дадут спокойно жить, — я, как могу, стараюсь в школе поменьше проявлять свои таланты, и все равно по всем предметам первая. Можно подумать, что симулировать нормальное развитие, когда ты в двенадцать лет соображаешь на уровне выпускного филологического класса, ничего не стоит. А на деле — ничего подобного! Казаться глупее, чем ты есть, ужасно трудно. Хотя, по крайней мере, не сдохнешь со скуки: ведь чтобы понять и усвоить то, что объясняют в школе, мне требуется совсем не много времени, и неизвестно, куда девать остальное — а тут я все время занята: играю роль типичной отличницы, чтоб было все как полагается: тот же стиль, те же слова, повадки, вкусы и те же мелкие ошибки. Я внимательно изучаю все письменные работы Констанс Борель, второй ученицы в классе, по французскому, математике и истории и мотаю на ус, что и как делать мне: во французском должно быть связное изложение и правильное написание, в математике — механическая запись бессмысленных действий, а в истории — перечисление событий, разбавленное логическими связками. Даже если сравнивать со взрослыми, большинство из них далеко не так умны, как я. Таков факт. Гордиться тут нечем — моей заслуги в этом нет. Но в аквариум я, уж точно, не попаду. Таково мое непоколебимое решение. Судьба даже такой способной, яркой личности, как я, незаурядной и превосходящей основную массу людей, заранее предопределена, и это обидно до слез; почему-то никому не приходит в голову, что если жизнь не имеет смысла, то нет никакой разницы, добьешься ли ты в ней блестящего успеха или окажешься неудачником. Разве что будет житься полегче. Да и то: разумному человеку успех приносит разочарование, тогда как посредственность всегда питает какие-то иллюзии.
Для себя я твердо все решила. Я уже скоро выйду из детского возраста и, несмотря на то что знаю, какая жалкая комедия наша жизнь, вряд ли сохраню трезвость мысли до конца. В людях заложена вера в то, чего нет, потому что они живые существа и не хотят страдать. Вот мы и стараемся изо всех сил внушить себе, что есть некие высшие ценности, которые якобы придают жизни смысл. И, при всем своем могучем интеллекте, я не знаю, как долго смогу противиться этой биологической потребности. Выдержу ли горькое сознание того, что жизнь бессмысленна, когда мне придется включиться во взрослые гонки? Не думаю. Потому-то я и решила: в конце этого учебного года, в день, когда мне исполнится тринадцать лет, то есть шестнадцатого июня, я покончу с собой. Заметьте, трубить об этом, будто о каком-то отважном и дерзком деянии, я, конечно, не собираюсь. Наоборот, мне нужно, чтобы никто ничего не заподозрил. У взрослых истерическое отношение к смерти, они придают ей непомерную важность, разводят вокруг нее всякие церемонии, тогда как это самая обычная вещь на свете. Лично для меня имеет значение не то, что я умру, а то, как это произойдет. Моя японская жилка, естественно, склоняет меня к харакири. Под этой «жилкой» я разумею свою любовь к Японии. Как только у нас в школе начался второй язык, я выбрала, само собой, японский. Правда, учитель попался не ахти, по-французски говорит так, что ни слова не разберешь, и большую часть урока растерянно чешет в затылке, но есть приличный учебник, и я уже неплохо продвинулась с начала года. Надеюсь, еще несколько месяцев — и смогу читать свои любимые манги в оригинале. Мама не понимает, «как это такая умная девочка, как ты, может читать манги!» Я даже не пытаюсь объяснить ей, что слово «манга» по-японски означает просто «комикс». Пусть себе думает, что я сдвинулась на молодежной субкультуре. В общем, я рассчитываю через пару месяцев прочесть по-японски Танигучи4. Однако — возвращаясь к нашему предмету — надо успеть до шестнадцатого июня, потому что в этот день я кончаю с собой. Правда не по-японски. Харакири — это, конечно, прекрасно и благородно, но... очень уж больно, а мне не хочется мучиться. Мучительная смерть не для меня, наоборот, по-моему, если решаешь умереть и тем более считаешь, что смерть в порядке вещей, то нужно все сделать безболезненно. Смерть должна быть незаметным переходом, мягким скольжением в вечный покой. Некоторые выбрасываются из окна с пятого этажа, травятся кислотой или вешаются. Как глупо! И даже, я бы сказала, непристойно! Ведь умираешь для того, чтобы не страдать? Я к своему уходу готовлюсь основательно: вот уже целый год каждый месяц беру по таблетке снотворного из коробочки в маминой спальне. Она употребляет их в таком количестве, что, верно, не заметила бы, даже если б я таскала по штуке в день, но я предпочитаю не рисковать. Когда задумываешь что-то, чего, скорее всего, никто не одобрит, надо соблюдать крайнюю осторожность. Иначе не успеешь оглянуться, как окружающие набросятся и не дадут тебе исполнить самое заветное желание, вопя при этом о «смысле жизни», «человеколюбии» и прочем идиотизме. Или вот еще о том, что «детство свято!».
Короче говоря, я шаг за шагом приближаюсь к шестнадцатому июня и не испытываю никакого страха. Разве что легкие сожаления. Но в целом этот мир не создан для принцесс. Однако же все это вовсе не означает, что, задумав самоубийство, обязательно надо киснуть, как гнилой помидор. Совсем наоборот. Не важно, что умрешь, не важно, в каком возрасте, важно, за каким занятием тебя застанет кончина. Герои Танигучи умирают во время восхождения на Эверест. У меня нет ни малейшего шанса штурмовать Чогори или Гран-Жорасс до шестнадцатого июня, поэтому моим Эверестом будет интеллектуальная высота. Я задалась целью продумать до этих пор как можно больше глубоких мыслей и записать их в тетрадь: пусть ничто не имеет смысла, но почему бы уму не поизощряться на эту тему? А поскольку во мне сильна японская жилка, я усложнила себе задачу: каждая глубокая мысль должна быть облечена в форму миниатюрного японского стихотворения, хокку (из трех стихов) или танка (из пяти).
Больше всего мне нравится хокку Басё:
Хижина рыбака. Замешался в груду креветок Одинокий сверчок5.
Это вам не тесный аквариум, а настоящая поэзия!
Но в мире, где я живу, поэзии гораздо меньше, чем в хижине японского рыбака. По-вашему, нормально, когда четыре человека занимают квартиру в четыреста квадратных метров, тогда как множество других людей, среди которых, очень может быть, есть проклятые поэты, не имеют приличного жилья и ютятся вдесятером на двадцати? Когда прошлым летом в новостях передали, что несколько африканцев погибли из-за того, что их битком набитый дом загорелся от брошенной на лестнице спички, я подумала вот что. Эти люди каждый день тычутся в стенки своего аквариума, и никакие сказки не заслонят очевидной реальности. А мои родители и сестра, в своей четырехсотметровой квартире, заставленной мебелью и увешанной картинами, воображают, будто плавают в океане.
Так вот, шестнадцатого июня я постараюсь напомнить им об их сардиньем уделе: возьму и подожгу квартиру (с помощью разжигательной жидкости для барбекю). Заметьте, я не убийца, я это сделаю, когда в квартире никого не будет (шестнадцатого июня — суббота, а в субботу вечером Коломба отправляется к Тиберу, мама — на йогу, а папа — в свой клуб, дома остаюсь одна я), кошек выпущу в окно и заблаговременно вызову пожарных, чтобы обошлось без жертв. А сама спокойненько улягусь в маминой кровати и проглочу свое снотворное.
Может, лишившись квартиры и дочери, они задумаются о мертвых африканцах?
3Особняк Лассэ — резиденция президента Национального собрания.
4Хиро Танигучи — японский художник, автор множества популярных рисованных книжек-манга.
5Перевод Веры Марковой.
Камелии
1. Аристократка
По вторникам и четвергам ко мне заходит на чай единственная моя подруга Мануэла. Это простая женщина, которая двадцать лет подряд вытирает пыль в чужих домах, но ничуть от этого не остервенела. «Вытирать пыль» — это такой стыдливый эвфемизм. У богатых не принято называть вещи своими именами.
— Я вытряхиваю корзинки с грязными прокладками, — рассказывает она со своим мягким, пришепетывающим акцентом, — подтираю собачью блевотину, чищу птичьи клетки — никогда и не подумаешь, что такие крохотные пташки столько гадят! — мою сортиры. В общем, та еще пыль!
Вот и представьте себе, что к двум часам дня, когда Мануэла спускается ко мне — во вторник от Артансов, а в четверг от де Брольи, — она успевает до блеска отдраить их унитазы, позолоченные, но от этого не менее вонючие и грязные, чем прочие толчки на белом свете, ибо если есть у богачей что-то, что, как ни крути, равняет их с бедняками, так это зловонные кишки, которые должны куда-то извергать свое мерзостное содержимое.
Отдайте же должное Мануэле. Хоть в мире, где одни брезгливо зажимают нос, предоставляя делать грязную работу другим, ей отведена роль жертвы, она не теряет некой душевной утонченности, которая стоит неизмеримо больше любой позолоты, тем паче украшающей отхожее место.
— Подай на стол хоть корочку, да на красивомблюде, — говорит Мануэла и достает из своей старой кошелки светлую плетеную корзиночку, из которой свешиваются уголки шелковистой пунцовой бумаги, там, словно в гнездышке, лежат миндальные пирожные. В одну чашку я наливаю кофе — пить его мы не будем, но нам обеим нравится вдыхать кофейный аромат, в две другие —зеленый чай, и мы принимаемся молча потягиватьего, заедая хрустящими пирожными.
Мануэла точно такое же ходячее нарушение стереотипа прислуги-португалки, как я — стереотипа консьержки, только сама не ведает об этомотступничестве. Она появилась на свет в Фаро, под фиговым деревом, из материнской утробы, чтородила еще семерых детей до и шестерых после этой дочери; сызмала работала от зари до зарив поле, очень рано была отдана в жены каменщику,который вскоре уехал во Францию; у нее четверо детей, французов по праву рождения, но в глазах французов все равно португальцев. Так вот, Мануэла, во всем, от косынки на голове до черных эластичных чулок, типичная крестьянка из Фаро, — это самая настоящая, чистейшая аристократка, которая ни на что не ропщет, потому что для нее, отмеченной печатью душевного благородства, предрассудки и титулы ровно ничего не значат.Что такое аристократка? Та, кого не затрагивает пошлость, даже если окружает ее со всех сторон.
Пошлость воскресных семейных застолий, со смачным хохотом, скрывающим обиду безвинно попранных людей, которым не на что надеяться;пошлость нищего быта, такого же мертвяще-скучного, как неоновый свет в заводских цехах, куда мужчины каждый день бредут, точно тени в ад; пошлость работодательниц, чью низость не прикроют никакие деньги и которые обращаются сней хуже, чем с шелудивой собакой. И надо видетьМануэлу, преподносящую мне торжественно, каккоролеве, плоды своего кондитерского искусства,чтоб оценить ее великодушие. Да-да, как королеве. Стоит появиться Мануэле — и привратницкая становится дворцом, а наша бедная пирушка —королевской трапезой. Подобно сказочнику, который превращает серую жизнь в сияющую феерию,Мануэла умеет наполнить обыденность сердечнымтеплом и весельем.
— Сынок Пальеров поздоровался со мной на лестнице, — вдруг говорит она, прерывая молчание.
Я фыркаю и пожимаю плечами:
— Начитался Маркса.
— Маркса? — переспрашивает Мануэла, и «кс»звучит у нее почти как «ш», мягкое и ласковое, как ясное небо.
— Это отец коммунизма, — уточняю я.
— Политика, — презрительно морщится Мануэла. — Игрушка для богатых деток, которой онини с кем не поделятся. — И, подумав, поднимает бровь. — Странно, обычно он читает совсем другие книжки.
Кто-кто, а Мануэла отлично знает, какие журнальчики молодые люди прячут под матрас, и сынок Пальеров одно время такой литературой оченьувлекался, причем имел свои пристрастия, судяпо замусоленной страничке с красноречивым заголовком: «Маркизы-озорницы».
Мы с Мануэлой смеемся и еще какое-то времяболтаем о том о сем как две добрые подружки. Я страшно люблю эти наши посиделки, и у меня сжимается сердце при мысли о том дне, когда исполнится мечта Мануэлы и она уедет на родину насовсем, а я останусь тут дряхлеть в одиночку, и некому будет дважды в неделю возводить меня в ранг тайной королевы. И еще я со страхом думаю о том, что, когда уедет Мануэла, моя единственная за всю жизнь подруга, единственный человек,который все понимает, хоть никогда ни о чем не спрашивает, ее отъезд, пожалуй, станет концом, саваном забвения для той, кого никто не знает.
В парадном послышались шаги и характерныйзвук — кто-то нажал кнопку лифта, старого подъемника с черной сеткой и кабиной с откидными дверцами, обитой кожей и обшитой деревом — ни дать ни взять старинная карета, не хватает лишь грума, вот только места для него не предусмотрено. Шаги знакомые — это Пьер Артанс с пятого этажа, гастрономический критик с замашками олигарха в худшем смысле слова: каждый раз, когда ему случается заглянуть в привратницкую, он щурится, как будто я живу в темной пещере, хотя его собственные глаза свидетельствуют об обратном.
А эти его знаменитые статьи, читала я их...
— Лично я ни слова не поняла, — так говорит о них Мануэла. Сама она считает, что хорошее жаркое само за себя говорит.
Да и нечего там понимать. Жалко смотреть, кактакой талант растрачивается понапрасну из-за слепоты его обладателя. Пьер Артанс может написать несколько страниц, допустим, о помидорах,причем написать блестяще — под его пером критическая статья превращается в увлекательный рассказ, что само по себе поразительно большое искусство, — но так, как будто автор никогданевидел,не держал в рукахпростого помидора, и потому написанное производит впечатление плачевных потуг на живость. Как можно быть столь даровитым и в то же время столь слепым ко всему, что тебя окружает? — часто думала я, когда он, гордо задрав свой внушительный нос, проходил мимо меня. Выходит, можно. Некоторые хоть и смотрят на мир, но не способны ощутить живуюсубстанцию, аромат всего сущего, о людях они разглагольствуют так, словно это автоматы, а о вещах — будто все они бездушны и их можно исчерпать словами, произвольно взятыми из головы.
Как нарочно, шаги вдруг приблизились, еще миг — и Артанс звонит в мою дверь.
Я встаю и иду открывать, не забывая шаркатьногами в таких классических тапочках, что толькосвязка берета с длинным батоном могла бы поспорить с ними в соответствии шаблону. Шаркаю и отлично понимаю, что вывожу из терпения Мэтра, являющего собою образец пресловутой нервозности крупных хищников, поэтому старательноприоткрываю дверь как можно медленнее и опасливо высовываю нос, надеюсь красный и лоснящийся, как полагается.
— Мне должны доставить пакет, — говорит Артанс, прищурясь и стараясь не дышать. — Вы могли бы сразу же принести его?
Сегодня на благородной шее месье Артанса красуется завязанный бантом шелковый шарф в горошек, который ему совсем не идет — легкие пышные складки в сочетании с львиной гривой напоминают воздушную балетную пачку и лишают его наружность всякой брутальности, которую сильная половина человечества почитает своим украшением. А кроме того, что, черт возьми, напоминает мне этот шарф? Есть, вспомнила — и еле сдерживаюсь, чтоб не улыбнуться. Конечно же, шарф Леграндена. Легранден — герой романа «В поисках утраченного времени» небезызвестного Марселя — тоже своего рода консьержа, — сноб, который разрывается между двумя кругами: тем, где вращается, и тем, куда хочет проникнуть, — напыщенный сноб в таком же шарфе, чутко отражающем все оттенки его эмоций, от надежды до обиды и от раболепства до высокомерия. Однажды на площади в Комбре он столкнулся с родными повествователя, здороваться с ними ему не хотелось, а избежать встречи не получалось, и вот он распускает шарф по ветру, что должно послужить знаком рассеянно-меланхолического настроения и избавить его от нормальных приветствий.
Пьер Артанс, который Пруста, разумеется, читал, но не проникся от этого особой симпатией к консьержам, нетерпеливо покашливает.
Итак, он спросил меня: «Вы могли бы сразу же принести его?» (Имеется в виду пакет, который принесет курьер, — не может же корреспонденция такого важного лица прийти обычной почтой.)
— Да, — отвечаю я в рекордно краткой форме, адекватной форме вопроса, в котором, на мой взгляд, сослагательное наклонение не искупает отсутствие слова «пожалуйста».
— И поосторожней, прошу вас, это хрупкая вещь, — добавляет Артанс.
Сочетание безличного понукания с «прошу вас» мне тоже не очень понравилось, тем более что Артанс явно считает меня нечувствительной к стилистическим тонкостям и выражается таким образом вполне сознательно, его учтивости просто не хватает на то, чтобы предположить, будто это может меня оскорбить. Если богач формально обращается к вам, но по голосу его ясно, что фактически он говорит скорее сам с собой и даже не ждет, что вы его поймете, значит, вы просто ил на дне общественной лужи.
— Как это — хрупкая? — спрашиваю я не слишком любезно.
Он обреченно вздыхает, и меня обдает легким запахом имбиря.
— Это инкунабула, — говорит он, уставясь мне в глаза (я в меру сил придаю им стеклянность) самодовольным взглядом сытого собственника.
— Господи, твоя воля, — говорю я брезгливым тоном. — Не беспокойтесь, как курьер придет, так я ее вам мигом доставлю.
И захлопываю дверь.
А про себя смеюсь — представляю, как вечеромПьер Артанс будет потешать за столом гостей рассказом о том, как возмутилась его консьержка, услышав слово «инкунабула», — ей, верно, померещилось что-то неприличное.
Один Бог знает, кто из нас двоих больше достоин насмешки.
Дневник всемирного движения
Запись № 1
Уйти в себя и не терять трусов.
Регулярно записывать глубокие мысли, конечно, прекрасно, но, боюсь, этого недостаточно. То есть что я имеюв виду: раз я собираюсь через несколько месяцев покончить с собой и спалить квартиру, то времени у меня не так много, и надо в оставшийся срок успеть сделать что-нибудь значительное. Кроме того, я словно бы проверяю сама себя: если уж кончаешь жизнь самоубийством, надо быть уверенной, что поступаешь правильно, зачем же зря поджигать квартиру! Если на свете есть что-нибудь такое, что имеет смысл пережить, я не должна этого упустить, потому что, во-первых, когда умрешь, жалеть будет поздно, а во-вторых, умирать, потому что ошиблась, слишком глупо.
Ну так вот, глубокие мысли — это само по себе. Но там я в своем амплуа — умничаю (и издеваюсь над другими умниками). Не всегда удачно, но занятно. И я подумала: чтобы не было перекоса, надо уравновесить эту «игру ума» другим дневником, где говорилось бы о чем-то телесном или вещественном. Пусть это будут не глубокие мысли, а перлы материи. Что-то плотное, осязаемое. Но в то же время красивое, прекрасное. Кроме любви, дружбы и Искусства, я что-то не вижу ничего, что могло бы наполнить человеческую жизнь. До настоящей любви и дружбы я еще не доросла. Но Искусство... если бы я продолжала жить, то жила бы только им. Поймите меня правильно: под Искусством с большой буквы я подразумеваю не только шедевры великих мастеров. Даже за Вермеера держаться не стану. Все это, конечно, замечательные произведения, но они мертвые. Нет, я имею в виду прекрасное в мире, то, что может открыть намдвижение жизни. И этот«Дневник всемирного движения» будет посвящен движению людей, одушевленных или, за неимением лучшего, неодушевленных предметов и поискам чего-то до такой степени прекрасного, что придало бы ценность жизни. Поискам красоты, гармонии, энергии. Если такое найдется, я,может быть, пересмотрю своипланы: если вместо прекрасной умозрительной идеи найду прекрасное движение физических тел, то, может, все-таки решу, что жизнь достойна того, чтобы ее прожить.
Идея вести два дневника (один для ума, другой для тела) возникла у меня вчера, когда папа смотрел по телевизору регби. Обычно в таких случаях я сама больше смотрю на папу. Это очень забавно: он сидит на диване перед экраном в рубашке с засученными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива и тарелкой колбасы, и, кажется, у него на лбу написано: «Глядите! Я и таким тоже могу быть!» Видимо, ему не приходит в голову, что один стереотип (серьезный государственный муж, министр), помноженный на другой (свой парень, не дурак хлебнуть пивка), дает стереотип в квадрате. Так вот, вчера, в субботу, папа вернулся пораньше, зашвырнул подальше свой портфель, скинул носки, закатал рукава, сходил на кухню за пивом, включил телевизор, рухнул на диван и сказал мне: «Пожалуйста, принеси колбаски, а то, боюсь, пропущу хаку». Ну, что касается хаки, то я прекрасно успела порезать и принести колбасу, а она еще и не начиналась — всё крутили рекламу. Мама с презрительным видом присела на подлокотник (тоже стереотип: в такой семье жене положено быть занудой-интеллектуалкой левых взглядов) и пристает к отцу с какой-то сложной затеей: устроить званый ужин, чтоб помирить на нем две разругавшиеся пары. Зная, какой из моей матушки тонкий психолог, смешно подумать, чем это кончится. Я отдала папе колбасу и, поскольку Коломба у себя в комнате слушала умеренно авангардную музыку, модную в богатых кварталах, подумала: а что, чем хуже хака? Мне смутно помнилось, что это какая-то шуточная пляска, которую новозеландская команда всегда исполняет перед матчем. Что-то вроде устрашения противника на обезьяний лад. А само регби — грубая игра, где игроки только и делают, что валят друг друга на траву, падают, вскакивают и тут же сцепляются снова.
Реклама наконец закончилась, и после титров на фоне катающихся по траве здоровенных детин показали стадион с голосами комментаторов за кадром, потом комментаторов крупным планом (все, как на подбор, не дураки поесть) и опять стадион. На поле вышли игроки, и тут на меня накатило. Я не сразу разобралась, в чем дело: на экране вроде бы ничего особенного, но со мнойтворилось что-то странное, я чувствовала какое-то покалывание, и у меня, как говорится, захватило дух, будто я чего-то лихорадочно ждала. Папа тем временем успел выдуть банку пива и просил маму, которая поднялась со своего насеста, принести вторую, собираясь дать волю галльскому темпераменту. А меня все не отпускало. Я силилась понять, что происходит, пялилась на экран, но не могла сообразить, что же такого я вижу и откуда эти колючие мурашки.
Все стало понятно, когда новозеландцы принялись отплясывать свою хаку. Среди них был один совсем молодой высоченный игрок маори. Он-то и привлек мое внимание — сначала, наверно, высоким ростом, но потом еще и какой-то необычной манерой двигаться. Движения его отличались особой плавностью, а главное, оставались движениями в себе. Большинство людей передвигаются в пространстве с определенной целью. Вот, например, как раз сейчас, когда я это пишу, мимо меня, волоча брюхо по полу, идет наша кошка по кличке Конституция. У этого создания нет осознанной цели всей жизни, но в данный момент она идет в определенном направлении, скорее всего, к креслу. И сама манера двигаться говорит об этом: она идет куда-то. А вот прошла в переднюю мама, она собирается в поход по магазинам и уже наполовину ушла, стремление обгоняет движение. Не знаю, как бы это лучше объяснить, но когда мы передвигаемся, то словно разорваны этим целенаправленным движением: мы еще здесь, но уже не вполне, поскольку куда-то устремлены, понимаете? Чтобы не распадаться, надо совсем не двигаться. Или ты двигаешься и разрываешься, или остаешься цельным, но тогда совсем не двигаешься. А этот игрок... я сразу, как только он появился на поле, почувствовала, что он чем-то не похож на других. Впечатление было такое, как будто, двигаясь — он двигался, а как же! — он оставался на месте. Скажете, нелепость? Когда началась хака, я не сводила с него глаз. Конечно же, он совсем не такой, как все. Вот и обжора № 1 говорит: «Сомю, великолепный новозеландский замыкающий, как всегда, впечатляет своим богатырским телосложением: рост — два метра семь сантиметров, вес — сто восемнадцать килограммов, такое прелестное дитя!» Ну да, все смотрят на него как завороженные, но никто толком не знает почему. А ведь теперь, в хаке, это прямо-таки бросалось в глаза: он делал те же движения, что и все остальные (хлопал себя по ляжкам и по локтям, отбивал ногой ритм, глядя в лицо противнику, как разъяренный воин), но, если жесты его товарищей были направлены в сторону соперников и зрителей, то его — оставались при нем, были жестами в себе, и это придавало ему невероятную энергию, невероятную интенсивность. И вот хака, воинственная пляска, развернулась во всю силу. А в воине ценна не та сила, которую он расточает, устрашая врага грозными воплями и жестами, а та, которую он способен сосредоточить в себе, не выпуская еенаружу. Молодой маори превращался в дерево, в огромный несокрушимый дуб с мощными корнями и широко раскинутой кроной, это чувствовали все. Однако было совершенно ясно, что этот огромный дуб может взмыть и полететь с быстротой ветра, несмотря на свои могучие корни, вернее, благодаря им.
Дальше я стала жадно вылавливать глазами такие моменты матча, когда кто-нибудь из игроков весь превращался в чистое движение, а не разрывался на куски, устремляясь куда-то. И выловила их немало! Они встречались в разных положениях: то один игрок из схватки вдруг укоренялся, становился точкой равновесия, прочным компактным якорем, который придавал устойчивость всей группе; то другой во время прорыва так удачно разгонялся, что, не думая о цели и сросшись с мячом,весь вкладывался в движение и бежал, словно осененный благодатью; то бомбардир, отрешившись от всего окружающего, в бессознательном наитии направлял удар с идеальной точностью. Но никто не мог превзойти статного маори. Когда он успешно провел первый занос, папа ошеломленно застыл и даже забыл о своем пиве. Он болел за французов и, кажется, должен был расстроиться, но вместо этого хлопнул себя по лбу и выдохнул: «Ну дает!» Комментаторы и те, пусть с досадой в голосе, немогли не признать,что видели чудо: маори пронесся через все поле парящим бегом, оставив других игроков далеко позади. А те выглядели нелепо дрыгающимися в жалких потугах догнать его фигурками.
И тогда я подумала: вот оно, я открыла, что в мире бывает абсолютное движение, стоит ли ради этого продолжать жить?
Как раз в эту минуту у одного из французских игроков, участвовавших в моле, соскочили трусы, и это вызвало такое буйное веселье трибун, что мне стало мерзко; даже мой отец, чьи предки двести лет воспитывались в строгом протестантском духе, поперхнулся пивом и зашелся от хохота. Меня такое кощунство оскорбило.
Нет, одного случая мало. Чтобы переубедить меня, нужно, чтобы это движение проявлялось еще и еще. Но по крайней мере, я получила представление о нем.
2. О войнах да колониях
В самом начале я сказала, что нигде не училась. Это не совсем так. Но мое образование не пошло дальше начальной школы, а перед экзаменом в среднюю мне пришлось маскироваться, чтобы рассеять подозрения месье Сервана, нашего учителя: когда мне было только десять лет, он как-то раз меня застукал — я с жадностью читала его газету, а там писали только о войнах да колониях.
Почему я не пошла учиться дальше? Сама не знаю. Думаете, смогла бы? Ответить мог бы развечто оракул. Меня мутило при одной мысли о том,чтобы мне, голодранке, без всякой красоты и обаяния, без роду-племени и без амбиций, неотесанной и не умеющей шагуступить на людях, соваться в мир баловней судьбы и соревноваться с ними, — так что я и не пыталась. Я хотела только одного: чтобы меня оставили в покое, ничего от меня не требовали и чтобы каждый день можно было выкроить немножко времени для утоления моего ненасытного голода.
Когда у тебя нет потребности в пище и вдруг на тебя нападает голод, то это и мучение, и просветление. В детстве я была вялой, почти калекой — сутулой, чуть ли не горбатой, и безропотно жила в полном убожестве, потому что знать не знала, что есть какая-то другая жизнь. Полное отсутствие воли граничило с небытием — ничто не вызывало во мне интереса, ничто не прерывало дремоты; меня, как травинку в море, несло куда-то по прихоти неведомых сил; при такой бессознательности не могло зародиться даже желание со всем покончить.
Дома у нас почти не разговаривали. Дети вопили, а взрослые занимались каждый своим делом, как будто нас и вовсе не было. Мы ели простую и грубую пищу, но досыта, нас не обижали, одевали по-бедняцки, но в чистые и тщательно залатанные одежки, так что мы могли их стыдиться, зато не мерзли. Но речи мы почти не слышали.
Свет просиял, когда в пять лет я первый раз пошла в школу и с удивлением и страхом услышала чужой голос, обращенный ко мне и назвавший мое имя.
— Ты Рене? — спросил этот голос, и чья-то ру