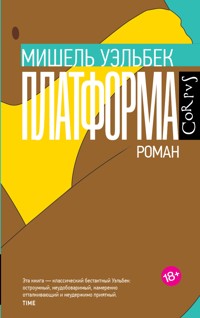Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Весь Мишель Уэльбек
- Sprache: Russisch
Восхождение Мишеля Уэльбека к мировой славе началось четверть века назад с выходом романа "Элементарные частицы". Затем последовали планетарные бестселлеры "Платформа", "Возможность острова", "Покорность", "Серотонин", "Уничтожить", Гонкуровская премия и орден Почетного легиона. В центре нашумевшего романа судьба двух братьев. Оба, каждый по своему разумению, настойчиво ищут счастье в окружающем мире, заведомо для счастья не созданном. Один из них, ученый-биолог, делает предположение о возможности кардинальных изменений в генах человека, в результате чего должен появиться новый вид "счастливых" людей. Этим мыслящим существам, не подверженным человеческим слабостям и заблуждениям, Уэльбек предоставил судить о жизни наших современников и сумел сделать то, что мало кому удавалось: он действительно шокировал публику. Роман был выдвинут на Гонкуровскую премию, но не получил ее, зато получил своего рода "анти-Гонкур" — премию "Ноябрь" — и был признан авторитетным журналом Lire Лучшей книгой года. Публикуется в новом переводе Марии Зониной.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Мишель Уэльбек Элементарные частицы
Michel Houellebecq
Les Particules Élémentaires
© Michel Houellebecq & Editions Flammarion, Paris, 1998
© М. Зонина, перевод на русский язык, 2024
© И. Кузнецова, перевод стихов, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст ”, 2024
* * *
Пролог
Эта книга – прежде всего история человека, который большую часть жизни прожил в Западной Европе второй половины ХХ века. В принципе одинокий, он изредка все-таки общался с себе подобными. Жил он в несчастливые и тревожные времена. Страна, где он появился на свет, медленно, но неотвратимо сползала в экономическую категорию среднебедных стран; люди его поколения часто оказывались на пороге нищеты, к тому же жизнь их протекала в горьком одиночестве. Чувства любви, нежности и человеческого братства фактически исчезли; его современники в лучшем случае относились друг к другу равнодушно, порой даже жестоко.
К моменту исчезновения Мишеля Джерзински его единодушно признавали выдающимся биологом и всерьез прочили ему Нобелевскую премию, но истинная значимость этого человека стала очевидна позже.
В то время, когда жил Джерзински, люди в массе своей считали, что философия лишена какого-либо практического смысла, если не вообще предмета. Однако именно мировоззрение, наиболее характерное для членов общества в определенный момент, обусловливает его экономику, политику и нравы.
Метафизические мутации, то есть радикальные и глобальные трансформации мировоззрения, характерного для подавляющего большинства людей, весьма редки в истории человечества. В качестве примера можно привести возникновение христианства.
Однажды начавшись, метафизическая мутация движется, не встречая никакого сопротивления, пока не свершится в полной мере. Особо не церемонясь, она сметает на своем пути экономические и политические системы, эстетические суждения, социальные иерархии. И нет никакой подвластной человеку силы, которая смогла бы прервать ее ход, – никакой силы, кроме новой метафизической мутации.
Нельзя с уверенностью сказать, что метафизическим мутациям подвержены лишь ослабленные общества, уже и так переживающие упадок. Когда зародилось христианство, Римская империя находилась на пике своего могущества; высокоорганизованная империя господствовала над всем известным в то время миром; ее техническое и военное превосходство не имело себе равных; при этом она была обречена. К тому моменту, когда появилась современная наука, средневековое христианство представляло собой всеобъемлющую систему понимания человека и вселенной; оно лежало в основе управления народами, способствовало развитию знаний и искусств, влияло на вопросы мира и войны, на организацию производства и распределение богатств; все это никоим образом не могло уберечь его от краха.
Мишель Джерзински не был ни первым, ни главным архитектором третьей метафизической мутации, во многих отношениях самой радикальной, которой суждено было положить начало новой эре в мировой истории; но в силу некоторых весьма неординарных обстоятельств своей жизни он является одним из самых сознательных и прозорливых ее творцов.
Часть первая. Потерянное царство
1
Первое июля 1998 года пришлось на среду. Поэтому, хоть так и не принято, Джерзински устроил отвальную во вторник. В холодильник марки “Брандт”, слегка осевший под тяжестью контейнеров с эмбрионами, кое-как влезли бутылки с шампанским; вообще-то он служил для хранения химических препаратов.
Четыре бутылки на пятнадцать человек – это, конечно, впритык. Надо сказать, тут все немножко впритык: у них довольно мало общего; одно неосторожное слово, один косой взгляд – и компания того гляди распадется, и все кинутся к своим машинам. Они собрались в подвальной комнате с кондиционером. На стене, облицованной белой плиткой, красовался плакат с изображением озер Германии. Кстати, никто не предложил сфотографироваться. Прибывший в начале года молодой ученый, глуповатый на вид бородач, смылся через несколько минут, сославшись на проблемы с парковкой. Всеобщая неловкость становилась все ощутимее, да и потом, отпуск на носу. Одни поедут домой к семье, другие займутся экотуризмом. Слова лениво щелкали в воздухе. Приглашенные быстро разошлись.
Все закончилось к половине восьмого. Джерзински шел по паркингу вместе с одной своей коллегой с длинными черными волосами, ослепительно белой кожей и пышной грудью; она чуть постарше, чем он, и, скорее всего, возглавит после его ухода их отдел. Она не замужем; ее научные публикации посвящены в основном гену DAF3 дрозофилы.
Остановившись перед своей “тойотой”, он улыбнулся и протянул руку ученой даме (он уже несколько секунд продумывал этот жест, решив сопроводить его улыбкой, и мысленно репетировал). Их ладони сомкнулись, вяло встряхнули друг друга. Ему показалось, что рукопожатию не хватало тепла, но что уж теперь; учитывая обстоятельства, они могли бы и расцеловаться, как это принято у министров и некоторых эстрадных исполнителей.
Распрощавшись с ней, он еще целых пять минут просидел в машине – довольно долго, как ему показалось. А она чего не уезжает? Онанирует под Брамса, что ли? Или, наоборот, размышляет о своей карьере, о новой должности, и если да, интересно, рада ли она повышению? Наконец “гольф” генетички выехал со стоянки; он снова остался один. День выдался великолепный, было еще жарко. В первые летние недели все, казалось, застыло в сияющем ступоре; впрочем, дни уже идут на убыль, Джерзински вполне отдавал себе в этом отчет.
Я работал в зоне комфорта, подумал он, в свою очередь трогаясь с места. На вопрос “Чувствуете ли вы, что Палезо – это зона комфорта?” 63 % местных жителей отвечали утвердительно. Оно и понятно: дома тут малоэтажные, между ними разбиты лужайки. Снабжение хорошее, учитывая несколько гипермаркетов; в отношении Палезо понятие высокого качества жизни вряд ли покажется преувеличением.
На южной трассе в направлении Парижа машин не было. Он почувствовал себя персонажем новозеландского научно-фантастического фильма, виденного им в студенческие годы, – последним человеком на Земле после гибели всего живого. Прямо какая-то выжженная пустыня апокалипсиса.
Джерзински уже лет десять жил на улице Фремикур; он привык к своему тихому кварталу. В 1993 году он понял, что ему нужна компания; нечто, что встречало бы его по вечерам, когда он возвращается домой. Его выбор пал на белого кенаря, существо крайне боязливое. Кенарь пел, особенно по утрам; тем не менее радостным он не выглядел; вот только может ли кенарь испытывать радость? Радость – это сильное и глубокое переживание, волнующая полнота чувств, захлестывающая все сознание целиком; радость сродни опьянению, восторгу, экстазу. Однажды он выпустил птицу из клетки. Кенарь от ужаса насрал на диван, а потом рванул назад и стал биться о железные прутья в поисках дверцы. Через месяц Мишель повторил попытку. На этот раз злополучное создание выпало из окна; с горем пополам спланировав, оно умудрилось приземлиться на балконе дома напротив, пятью этажами ниже. Мишелю пришлось ждать возвращения хозяйки квартиры, уповая на то, что у нее нет кошки. Оказалось, что девушка работает редактором в журнале “20 лет”; она жила одна и возвращалась поздно. Кошки у нее не имелось.
Стемнело; Мишель забрал птичку, она дрожала от холода и страха, вжавшись в бетонную стенку. Потом он несколько раз сталкивался с той девушкой из журнала, как правило, когда выносил мусор. Она кивала ему, вероятно, в знак того, что узнала его; он кивал в ответ. В общем, инцидент с канарейкой позволил ему установить добрососедские отношения; ну и чудно.
Из его окон были видны домов десять, то есть, наверное, около трех сотен квартир. Обычно, когда он вечером приходил домой, кенарь принимался свистеть и щебетать, и это длилось минут пять – десять; затем он подсыпал ему семян, менял наполнитель и воду. Но в тот вечер его встретила тишина. Он подошел к клетке: кенарь сдох. Белое тельце, уже остывшее, лежало боком на камешках.
Он съел на ужин упаковку зубатки с кервелем от “Монопри Гурме”, запивая посредственным вальдепеньясом. Недолго думая, он сунул трупик кенаря в полиэтиленовый пакет, отправив туда же в качестве балласта бутылку из-под пива, и выбросил его в мусоропровод. Ну а что еще прикажете делать? Молиться за упокой души?
Он понятия не имел, куда ведет этот мусоропровод с узким загрузочным клапаном (вполне достаточным, правда, чтобы вместить тело птички). Тем не менее ему приснились гигантские мусорные баки, заполненные кофейными фильтрами, равиолями в соусе и отрезанными гениталиями. Огромные черви с грозными клювами размером с самого кенаря, не меньше, терзали его труп. Ему оторвали лапки, искромсали внутренности, проткнули глазные яблоки. Посреди ночи Мишель, весь дрожа, сел в кровати; не было еще и половины второго. Он принял три таблетки ксанакса. Так закончился его первый вечер свободы.
2
Четырнадцатого декабря 1900 года в докладе Zur Theone des Geseztes der EnergieverteilungmNormalspektrum, сделанном на заседании Немецкого физического общества, Макс Планк впервые ввел понятие кванта энергии, которому предстояло сыграть решающую роль в дальнейшем развитии физики. Между 1900 и 1920 годами, в основном под влиянием идей Эйнштейна и Бора, новую концепцию при помощи более или менее оригинальных моделей пытались вписать в рамки уже существующих теорий, и лишь в начале двадцатых стало ясно, что эти попытки тщетны.
Нильс Бор считается истинным основоположником квантовой механики, и не только благодаря его собственным открытиям, но прежде всего из-за необыкновенной атмосферы творчества, интеллектуального подъема, дружбы и свободы духа, которую он сумел создать вокруг себя. Институт теоретической физики в Копенгагене, основанный Бором в 1919 году, собрал в своих стенах лучших молодых ученых Европы. Там начинали Гейзенберг, Паули и Борн. Будучи ненамного старше них, Бор мог часами подробно обсуждать предлагаемые ими гипотезы со свойственным ему уникальным сочетанием философской проницательности, благосклонности и требовательности. Скрупулезный, порой до маниакальности, он терпеть не мог приблизительности в интерпретации результатов научных экспериментов; при этом ни одна новая идея не казалась ему априори безумной, ни одна классическая концепция – незыблемой. Он любил приглашать учеников в свой загородный дом в Тисвильде; у него гостили не только физики, но и другие ученые, а также политики и люди искусства; в своих беседах они непринужденно перескакивали от физики к философии, от истории к искусству, от религии к повседневной жизни. Ничего подобного не происходило со времен древнегреческих мыслителей. Именно в этом исключительном историческом контексте, между 1925 и 1927 годами, были выработаны основные положения Копенгагенской интерпретации квантовой механики, которая в значительной степени упразднила устоявшиеся категории пространства, причинности и времени.
Джерзински, увы, не удалось воссоздать вокруг себя такое чудо. В возглавляемой им научной группе царила кондовая офисная атмосфера. Специалисты по молекулярной биологии отнюдь не моцарты микроскопа, какими любит воображать их прекраснодушная общественность, а просто добросовестные технари, чаще всего не отмеченные печатью гениальности; они читают “Нувель Обсерватер” и мечтают провести отпуск в Гренландии. Исследования в области молекулярной биологии не предполагают никакого творческого подхода, никакой изобретательности; по сути, это почти сплошь рутина, требующая лишь умеренных и второразрядных интеллектуальных навыков. Но все пишут докторские и защищают их, притом что двухлетнего профессионального образования им с лихвой хватило бы, чтобы управиться с аппаратурой. “А вот чтобы додуматься до идеи генетического кода, – любил повторять Деплешен, директор департамента биологии НЦНИ[2], – или открыть принцип биосинтеза белка, да, тут пришлось попотеть. Заметьте, кстати, именно физик Гамов первым сунул свой нос в это дело. А расшифровка ДНК, подумаешь… Сидишь, расшифровываешь, расшифровываешь. Получаешь молекулу за молекулой. Вводишь данные в компьютер, компьютер выдает закодированные последовательности. Отправляешь факс в Колорадо, они занимаются геном B27, мы – C33. Это наша кухня. Время от времени удается незначительно усовершенствовать оборудование, обычно этого достаточно для Нобелевки. Невелика наука, кружок “умелые руки”.
Первого июля пополудни стояла изнуряющая жара; такие дни, как правило, не сулят ничего хорошего, и разразившаяся наконец гроза рассеивает обнаженные тела. Из кабинета Деплешену открывался вид на набережную Анатоля Франса. На том берегу Сены, вдоль набережной Тюильри, тусовались на солнышке гомосексуалы, общались по двое или небольшими стайками, передавали друг другу полотенца. Почти все были в стрингах. В ярких лучах сверкали мышцы, увлажненные маслом для загара, лоснились округлые рельефные задницы. Некоторые, оживленно болтая, почесывали себе яйца, обтянутые нейлоновыми плавками, или засовывали палец внутрь, являя миру лобковые волоски и основание члена. Перед панорамным окном Деплешен поставил подзорную трубу. Ходили слухи, что сам он тоже гомосексуал; на самом же деле последние годы он заделался просто светским пьяницей. Как-то в такой же вот погожий полдень он дважды пытался подрочить, прильнув к окуляру и вперившись в подростка, который как раз оттянул стринги и вынул член, предпринявший волнующий взлет в атмосферу. Его собственный, напротив, сник, вялый, сморщенный и сухой; он не стал упорствовать.
Джерзински появился ровно в четыре. Деплешен сам попросил его о встрече. Любопытный случай. Конечно, ученые имеют обыкновение брать годичный отпуск, чтобы поработать с коллегами в Норвегии, Японии, короче, в одной из тех угрюмых стран, где в сорок лет жители массово кончают жизнь самоубийством. Кто-то, как это часто бывало в “эпоху Миттерана”, когда жажда наживы достигла неслыханных масштабов, пускался на поиски венчурных капиталов, чтобы основать компанию и торговать той или иной молекулой; более того, некоторые из них, в рекордные сроки и ничем не брезгуя, сколотили солидное состояние, извлекая немалую прибыль из знаний, приобретенных ими за годы бескорыстных научных исследований. Но решение Джерзински уйти на вольные хлеба, не имея ни проекта, ни цели, ни вообще хоть малейшего предлога, было выше его понимания. К сорока годам он стал ведущим научным сотрудником, под его началом работали пятнадцать ученых; сам он подчинялся – и то чисто символически – непосредственно Деплешену. Его команда добивалась отличных результатов и считалась одной из лучших в Европе. Так чего ему не хватало?
– И что вы собираетесь делать? – с нарочитым напором спросил Деплешен. Джерзински помолчал с полминуты, потом сказал просто:
– Думать.
Такое начало не предвещало ничего хорошего. Деплешен продолжил с наигранным воодушевлением:
– А как на личном фронте?
Глядя на сидевшего напротив серьезного человека с осунувшимся лицом и печальными глазами, он вдруг ужасно устыдился. При чем тут личный фронт? Он сам пятнадцать лет назад забрал Джерзински из Университета Орсе. И не ошибся с выбором: он оказался четким, педантичным, изобретательным ученым, и результаты не заставили себя ждать. Тот факт, что НЦНИ удалось сохранить высокий европейский уровень в области молекулярной биологии, – в значительной степени его заслуга. Он более чем оправдал надежды, грех жаловаться.
– Само собой разумеется, – заключил Деплешен, – у вас останется доступ к нашей информационной базе, к хранящимся на сервере результатам исследований и сетевым шлюзам Центра, без ограничения по срокам. Если вам понадобится что-то еще, я в вашем распоряжении.
Когда он ушел, Деплешен вернулся к окну. Он слегка вспотел. На том берегу юный брюнет североафриканской наружности снимал шорты. В фундаментальной биологии еще остаются серьезные проблемы. Биологи рассуждают и действуют так, словно молекулы – это отдельные элементы материи, связанные лишь силами электромагнитного притяжения и отталкивания; он не сомневался, что никто из них и слыхом не слыхивал ни о парадоксе Эйнштейна – Подольского – Розена, ни об экспериментах Аспе; никто наверняка не удосужился узнать о прогрессе, достигнутом в физике с начала века; что касается их атомарной концепции, то они недалеко ушли от Демокрита. Они накапливали громоздкие однообразные данные с единственной целью – немедленно найти им применение в промышленности, не подозревая, что концептуальная база их метода подорвана. Они с Джерзински, физики по образованию, вероятно, единственные в НЦНИ сознавали, что, как только дело дойдет до атомных основ всего живого, фундамент современной биологии разлетится вдребезги. Пока Деплешен размышлял над этими вопросами, на Сену опустились сумерки. Он терялся в догадках, в какие дали уносится мыслями Джерзински, и чувствовал, что не в состоянии даже поддерживать с ним разговор на эти темы. Сейчас ему под шестьдесят; он чувствовал, что в интеллектуальном плане уже полностью выгорел. Гомосексуалы ушли, набережная опустела. Он и не помнил, когда в последний раз у него случалась эрекция; он ждал грозы.
3
Гроза разразилась около девяти вечера. Джерзински слушал шум дождя, потягивая дешевый арманьяк. Ему недавно исполнилось сорок: неужели он пал жертвой кризиса среднего возраста? Благодаря улучшению условий жизни сорокалетние граждане теперь пребывают в расцвете сил и прекрасной физической форме; первые признаки того, что человек переступил порог и сделал робкий шаг на долгом спуске к смерти, проявляются – как во внешности, так и в изменении реакции внутренних органов на нагрузки – обычно годам к сорока пяти, а то и к пятидесяти. К тому же пресловутый “кризис среднего возраста” часто ассоциируется с сексуальными проявлениями, с внезапной и лихорадочной жаждой совсем юных девичьих тел. В случае Джерзински эти соображения были неуместны – член служил ему для мочеиспускания, не более того.
На следующее утро он встал около семи, взял с полки научную автобиографию Вернера Гейзенберга “Часть и целое” и отправился пешком на Марсово поле. Занимался ясный прохладный рассвет. Эту книгу он приобрел еще в семнадцать лет. Сидя под платаном на аллее Виктора Кузена, он перечитал отрывок из первой главы, где Гейзенберг, вспоминая студенческие годы, рассказывает об обстоятельствах своего первого знакомства с учением об атоме:
Это было, надо думать, весной 1920 года. Исход Первой мировой войны привел молодежь нашей страны в беспокойное движение. Бразды правления выскользнули из рук глубоко разочарованного старшего поколения, и молодые люди сбивались в группы, в малые и большие сообщества, чтобы искать новый, свой путь или хотя бы какой-то новый компас, по которому они могли бы ориентироваться, потому что старый, похоже, сломался. Так вот и я ясным весенним днем шагал с группой из десяти или, может быть, двадцати приятелей, которые по большей части были моложе меня самого. Мы шли походом через холмистую местность вдоль западного берега озера Штарнбергер, лежавшего, как можно было видеть сквозь просветы в сияющей зелени бука, слева под нами и, казалось, простиравшегося до самых гор на горизонте. В этом походе, странным образом, произошла та первая беседа о мире атомов, которая много значила для меня в моем последующем научном развитии[3].
К одиннадцати жара стала усиливаться. Вернувшись домой, Мишель полностью разделся и лег. В течение следующих трех недель он практически не двигался. Так, видимо, рыба, время от времени высовываясь из воды, чтобы глотнуть воздух, замечает мельком совершенно иной, надводный, райский мир. Конечно, ей приходится тут же нырнуть в родную стихию водорослей, где рыбы пожирают друг друга. Но все же на несколько мгновений у нее возникает предчувствие иного мира, мира совершенного – нашего с вами мира.
Вечером 15 июля он позвонил Брюно. В голосе его единоутробного брата, на фоне кул-джаза, звучал еле уловимый подтекст. Вот Брюно определенно пал жертвой кризиса среднего возраста. Он носил кожаные плащи, отрастил бороду и изъяснялся языком персонажей второсортного детективного сериала, чтобы показать, что умеет жить; курил сигарки, качал пресс. Что касается его самого, Мишель считал, что “кризис среднего возраста” тут вообще ни при чем. Человек, страдающий от кризиса среднего возраста, просто хочет жить, жить чуть подольше; он просто хочет небольшой добавки. А ему все обрыдло; дело в том, что он не видел ни малейших причин жить дальше.
В тот же вечер ему попалась на глаза его детская фотография, сделанная в начальной школе в Шарни, и он расплакался. Мальчик сидит за партой, в руках у него открытый учебник. Он радостно и храбро улыбается прямо в объектив; этот мальчик, подумать только, он сам. Мальчик делает домашние задания, с доверчивой вдумчивостью учит уроки. Он входит в этот мир, открывает для себя этот мир, и мир не страшит его; он готов занять свое место в человеческом обществе. Все это читается в его глазах. На мальчике блуза с маленьким воротничком.
Несколько дней Мишель держал фотографию под рукой, прислонив ее к лампе в изголовье кровати. Время – банальная тайна, все это в порядке вещей, пытался он убедить себя; взгляд тускнеет, радость и доверчивость исчезают. Лежа на матрасе марки Bultex, он тщетно пробовал проникнуться бренностью бытия. У мальчика на лбу виднеется круглая впадинка, воспоминание о ветрянке; эта отметина так и не исчезла с годами. Где же истина? Полуденный зной заполнял комнату.
4
Мартен Секкальди родился в 1882 году в корсиканской глубинке, в семье неграмотных крестьян, и казалось, ему суждено вести буколическую крестьянскую жизнь с ограниченным радиусом действия, точно такую, какую вели его предки на протяжении нескончаемой череды поколений. Такой жизнью в наших краях давно не живут, ввиду чего исчерпывающий ее анализ особого интереса не представляет; но поскольку некоторые радикальные экологи периодически проявляют непонятную ностальгию по такому времяпрепровождению, для полноты картины я все же позволю себе в общих чертах кратко ее описать: живешь на природе, дышишь свежим воздухом, возделываешь свои делянки (число которых точно определяется правом наследования по закону), периодически охотишься на кабана; трахаешься направо и налево, в частности с женой, которая рожает детей; растишь вышеупомянутых детей, чтобы они в свою очередь заняли место в той же экосистеме; заражаешься какой-то хворью, и привет.
Необычная судьба Мартена Секкальди на самом деле весьма наглядно свидетельствует о роли светской школы в процессе интеграции во французское общество и в пропаганде технического прогресса на протяжении всех лет существования Третьей республики. Его преподаватель быстро понял, что имеет дело с незаурядным учеником, склонным к абстрактному мышлению и творчески одаренным, что вряд ли будет востребовано в его родной среде обитания. Прекрасно отдавая себе отчет, что его миссия не сводится к предоставлению базовых знаний будущему гражданину и что ему следует также выявлять новые кадры, призванные влиться в элиту Республики, он сумел убедить родителей Мартена, что судьба их сына может состояться только за пределами Корсики. В 1894 году юноша получил стипендию, и его приняли в интернат марсельского лицея Тьера (его хорошо описал в своих воспоминаниях детства Марсель Паньоль, и Мартен Секкальди всю жизнь ими зачитывался, покоренный искусством реалистического воссоздания основополагающих идеалов эпохи через описание жизненного пути даровитого юноши из неблагополучной среды). В 1902 году, полностью оправдав надежды своего первого учителя, он поступил в Высшую политехническую школу.
В 1911-м он получил назначение, определившее всю его дальнейшую жизнь. Речь шла о создании рабочей сети водоснабжения на всей территории Алжира. Он работал над ней более четверти века, рассчитывал кривизну акведуков и диаметр канализационных труб. В 1923 году женился на продавщице табачной лавки Женевьеве Жюли, отдаленно лангедокских корней – два последних поколения ее семьи жили уже в Алжире. В 1928 году у них родилась дочь Жанин.
Повествование о человеческой жизни может быть длинным или кратким, как душе угодно. Метафизическая или трагическая ее версия, сводимая в конечном счете к датам рождения и смерти, традиционно начертанным на надгробном камне, естественно, предпочтительна в силу завидной лаконичности. Что касается Мартена Секкальди, то представляется уместным рассматривать его жизнь в социально-экономическом контексте, сделав акцент не столько на личных качествах героя, сколько на эволюции общества, характерным представителем которого он является. Такие характерные личности, плывущие в некотором роде по воле исторических волн своей эпохи, но при этом принявшие самостоятельное решение полностью вписаться в нее, ведут, как правило, заурядное и счастливое существование; жизнеописание в таком случае обычно умещается на одной-двух страницах. Что касается Жанин Секкальди, то она принадлежала к сомнительной категории предтеч. Биография предтеч, с одной стороны вполне приноровившихся к образу жизни большинства своих современников, с другой – стремящихся “вперед и выше”, пропагандируя новые модели поведения или популяризируя те, что еще не вошли в оборот, требует, по идее, более пространного изложения, учитывая, что их путь чаще всего довольно запутан и тернист. Однако они служат лишь катализатором истории, причем чаще всего катализатором распада, им не дано придать событиям новое направление – такая миссия возлагается на революционеров и пророков.
Уже в детстве дочь Мартена и Женевьевы Секкальди проявила выдающиеся интеллектуальные способности, по крайней мере не уступавшие отцовским, к коим прилагался весьма строптивый нрав. Она потеряла девственность в возрасте тринадцати лет (надо было умудриться – в то время и в ее кругу), а годы войны (в Алжире сравнительно мирные) посвятила посещению главных танцевальных вечеров, которые устраивались каждые выходные, сначала в Константине, затем в Алжире; при этом она блестяще заканчивала один семестр за другим. В 1945 году, обзаведясь дипломом бакалавра[4] с отличием и солидным сексуальным опытом, она съехала от родителей, вознамерившись изучать медицину в Париже.
Первые послевоенные годы были тяжелыми и бурными; промышленное производство упало до рекордно низкой отметки, а карточную систему отменили только в 1948 году. Тем не менее в узких зажиточных кругах уже тогда появились первые признаки массового потребления сексуальных удовольствий, пришедшего прямиком из Соединенных Штатов Америки и охватившего в последующие десятилетия все население Франции. Будучи студенткой парижского медицинского факультета, Жанин Секкальди стала практически непосредственной участницей “экзистенциалистских” лет и даже как-то раз станцевала бибоп в “Табу” с самим Жан-Полем Сартром. Труды философа не слишком ее впечатлили, зато буквально потрясло его уродство, граничившее с патологией, так что этот инцидент не возымел последствий. Сама она, красавица ярко выраженного средиземноморского типа, крутила романы напропалую, пока не познакомилась в 1952 году с Сержем Клеманом, который заканчивал тогда интернатуру по хирургии.
– Хотите знать, как выглядел мой папаша? – любил вопрошать Брюно много лет спустя. – Возьмите обезьяну, всучите ей мобильник и получите его портрет.
В то время, понятное дело, у Сержа Клемана не имелось никакого мобильника, зато с волосатостью был полный порядок, что да, то да. Одним словом, он был отнюдь не красив, но от него исходила такая мощная и первобытная мужская сила, что молодая практикантка не могла на него не запасть. Кроме того, у него были планы на жизнь. Съездив в США, он убедился, что косметическая хирургия открывает амбициозному специалисту заманчивые перспективы. Постепенное расширение рынка эротики, сопутствующий ему распад традиционного брака, надвигающийся экономический бум в Западной Европе – все это вкупе явно сулило расцвет этой области медицины, и Серж Клеман мог похвастаться тем, что стал одним из первых в Европе – и уж точно первым во Франции, – кто это понял; проблема заключалась в том, что у него не было необходимых стартовых капиталов. Мартен Секкальди, приятно удивленный предприимчивостью будущего зятя, согласился одолжить ему денег, и в 1953 году в Нёйи открылась первая клиника. Его успехи, разрекламированные в новостных рубриках женских журналов, набиравших тогда обороты, произвели оглушительный эффект, и в 1955 году он открыл еще одну клинику на каннских холмах.
Супруги были приверженцами того, что позже назовут “современным браком”, и Жанин забеременела от мужа скорее по недосмотру. Однако она решила оставить ребенка; опыт материнства, считала она, обязана испытать каждая женщина; беременность, впрочем, протекала довольно приятно, и в марте 1956 года родился Брюно. Нудные заботы, которых требует выращивание маленького ребенка, вскоре показались супругам несовместимыми с их идеалом личной свободы, и в 1958 году по обоюдному согласию Брюно отправили в Алжир, к бабушке и дедушке по материнской линии. К тому моменту Жанин снова забеременела, но на этот раз от Марка Джерзински.
В 1919 году, гонимый ужасающей нищетой, на грани голодной смерти, Люсьен Джерзински уехал из Верхнесилезского угольного бассейна, где он родился за двадцать лет до того, во Францию в надежде найти там работу. Он нанялся рабочим на железную дорогу, сначала строителем, потом путевым обходчиком, и женился на Мари Ле Ру, дочери поденщиков бургундского происхождения, которая тоже служила в Управлении железных дорог. Она родила ему четверых детей, а в 1944-м он погиб под бомбами союзников.
Их третьему ребенку, Марку, было четырнадцать, когда отца не стало. Марк рос умным, серьезным мальчиком, немного грустным. В 1946 году, благодаря посредничеству соседа, он нанялся подмастерьем к осветителю на киностудию “Пате” в Жуанвиле. И сразу же проявил незаурядные способности в своем деле: руководствуясь скупыми, приблизительными указаниями, он сам прекрасно выставлял свет к приходу оператора-постановщика. Анри Алекан высоко ценил его и хотел даже сделать своим ассистентом, но в 1951 году решил перейти на ORTF[5], которое тогда начинало телевещание.
Он познакомился с Жанин в начале 1957 года, снимая телерепортаж о бомонде Сен-Тропе. Главной героиней его фильма стала Брижит Бардо (фильм “И бог создал женщину”, вышедший в 1956-м, как раз и запустил “миф Бардо”), но интересовали его и другие артистические и литературные круги, в частности, одна компания, которую позже окрестили “бандой Саган”. Этот мир, недоступный ей, несмотря на все ее деньги, зачаровывал Жанин, и она вроде бы действительно влюбилась в Марка. Она убедила себя, что у него есть задатки великого кинорежиссера, и не исключено, что была права. Работая в репортажном стиле, он использовал легкое световое оборудование и умел создавать, переставив несколько предметов, волнующие сцены, обыденные, мирные и при этом совершенно отчаянные, чем-то напоминавшие картины Эдварда Хоппера. Общаясь со знаменитостями, он едва удостаивал их равнодушным взглядом; снимая Бардо и Саган, выказывал им не больше почтения, чем ракам или кальмарам, окажись те на их месте. Он ни с кем не заговаривал, ни с кем не сближался; от него и правда можно было с ума сойти.
Жанин развелась с мужем в 1958 году, вскоре после того, как отправила Брюно к своим родителям. Это был развод с признанием обоюдной вины. Щедрый Серж уступил ей свою долю в каннской клинике, одно это уже могло обеспечить ей безбедное существование. После их переезда на виллу в Сент-Максим, Марк не изменил своим привычкам и любви к одиночеству. Она настаивала, чтобы он посвятил себя карьере в кино; он кивал, но ничего не предпринимал, в ожидании, когда подвернется очередной сюжет для репортажа. Если она устраивала званый ужин, он, как правило, предпочитал поесть в одиночестве на кухне, до прихода гостей, а потом шел гулять по берегу. Возвращался к концу вечера, объясняя, что ему надо было закончить монтаж фильма. Рождение сына в июне 1958-го явно привело его в смятение. Он подолгу неподвижным взглядом смотрел на ребенка, который был поразительно похож на него: то же угловатое лицо и высокие скулы, те же огромные зеленые глаза. Вскоре Жанин начала ему изменять. Возможно, он переживал из-за этого, трудно сказать, поскольку он действительно разговаривал все меньше и меньше. Он сооружал миниатюрные алтари из гальки, веточек и панцирей ракообразных, затем фотографировал их в косых лучах солнца.
Его репортаж о Сен-Тропе имел большой успех в профессиональной среде, но от интервью журналисту из “Кайе дю синема” он отказался. Его акции значительно выросли после трансляции короткого и весьма едкого документального фильма, снятого им весной 1959 года о передаче “Привет, ребята” и зарождении стиля йе-йе. Его явно не интересовали художественные фильмы, и он дважды отказался работать с Годаром. В то время Жанин тусовалась с приезжающими на Лазурный Берег американцами. В Калифорнии происходило тогда нечто радикально новое. В Эсалене, недалеко от Биг-Сура, создавались коммуны любителей сексуальной свободы и психоделических препаратов, вроде бы изменяющих сознание. Она стала любовницей Франческо ди Меолы, американца итальянского происхождения, который водил знакомство с Гинзбергом и Олдосом Хаксли и являлся одним из основателей какой-то общины в Эсалене.
В январе 1960-го Марк уехал в Китай снимать репортаж о создававшемся там коммунистическом обществе нового типа. Он вернулся в Сент-Максим 23 июня, в середине дня. В доме на первый взгляд было пусто. Однако на ковре в гостиной, скрестив ноги, сидела девочка лет пятнадцати, совершенно голая. Gone to the beach…[6] – сказала она в ответ на его расспросы и снова впала в прострацию. В спальне Жанин, раскинувшись на кровати, храпел высокий бородатый мужик, явно пьяный в стельку. Марк прислушался: до него донеслись чьи-то стоны или хрип.
В комнате наверху стояла ужасная вонь; чернобелая плитка ярко сверкала в солнечных лучах, проникавших через эркерное окно. Его сын неуклюже ползал по полу, иногда поскальзываясь в луже мочи или экскрементов. Он часто моргал и беспрерывно скулил. Почувствовав присутствие человека, попытался сбежать. Марк взял его на руки; маленькое существо задрожало от ужаса.
Марк вышел на улицу и в ближайшей лавке купил детское автомобильное кресло. Он написал короткую записку Жанин, пристегнул ребенка, сел за руль и поехал на север. У Валанса свернул в сторону Центрального массива. Вечерело. Время от времени на очередном вираже он поглядывал на сына, дремавшего сзади; его охватило странное чувство.
С того дня Мишеля воспитывала бабушка, которая, выйдя на пенсию, вернулась в Йонну, откуда была родом. Вскоре его мать уехала в Калифорнию и поселилась там в общине ди Меолы. Мишелю суждено было увидеть ее снова, когда ему уже исполнилось пятнадцать. Да и с отцом ему не суждено было часто видеться. В 1964-м Марк отправился на репортаж в оккупированный Китаем Тибет. В письме матери он сообщал, что у него все хорошо, что он впечатлен практиками тибетского буддизма, который Китай пытается жестоко искоренять; больше от него не было никаких вестей. Франция заявила протест китайскому правительству, но он не возымел действия, тело не нашли, и год спустя его официально объявили пропавшим без вести.
5
Лето 1968 года, Мишелю уже десять. С двух лет он живет с бабушкой. Они живут в Шарни, в департаменте Йонна, на самой границе с Луаре́. Утром он встает рано, чтобы приготовить бабушке завтрак; он завел даже специальную карточку, отмечая, как долго заваривается чай, сколько надо сделать тостов с маслом и прочее.
До обеда он обычно сидит у себя в комнате. Читает Жюля Верна, “Великолепную пятерку”[7] и комиксы про собаку Пифа; но чаще всего углубляется в многотомную энциклопедию “Весь мир”. В ней рассказывается о сопротивлении материалов, о форме облаков, о пчелиных танцах. А также о дворце Тадж-Махал, построенном древним царем в память о своей умершей царице; о смерти Сократа и об изобретении геометрии Евклидом три тысячи лет назад.
Во второй половине дня он выходит в сад. Садится в одних шортах, прислонившись к черешне, и чувствует упругую массу травы. Чувствует солнечное тепло. Салат латук поглощает солнечное тепло; а также поглощает воду, и он знает, что ему надо будет полить его в конце дня. Он продолжает читать “Весь мир” или какую-нибудь книгу из серии “Сто вопросов”; он буквально впитывает знания.
А еще он любит кататься по округе на велосипеде. Крутит педали изо всех сил, наполняя легкие ароматом вечности. Вечность детства – краткая вечность, но он этого еще не знает; пейзажи проносятся мимо.
В Шарни осталась только одна бакалейная лавка, но по средам приезжает фургон мясника, по пятницам – рыботорговца; часто по субботам бабушка готовит на обед треску в сливочном соусе. Это его последнее лето в Шарни, но он этого еще не знает. В начале года у бабушки случился инсульт. Две ее дочери, живущие в пригороде Парижа, подыскивают ей жилье поблизости от них. Она уже не в состоянии жить одна круглый год и ухаживать за садом.
Мишель редко играет со сверстниками, хотя хорошо ладит с ними. Его считают немного не таким, как все; в школе он учится на отлично, все усваивает без видимых усилий. Он неизменно лучший в классе по всем предметам; естественно, бабушка им гордится. Но одноклассники не злятся на него, не травят; он охотно дает им списывать на контрольных. Дожидается, пока сосед все спишет, и только потом переворачивает страницу. Несмотря на превосходные отметки, он сидит на последней парте. Устои этого царства зыбкие.
6
Однажды летним днем, еще живя в Йонне, Мишель гонял по лугам со своей кузиной Брижит. Брижит, хорошенькую шестнадцатилетнюю девушку, ужасно милую, через несколько лет угораздило выйти замуж за страшного мудилу. А пока что, летом 1967 года, она взяла Мишеля за руки и закружила вокруг себя; они упали в свежескошенную траву. Он прижался к ее теплой груди; на Брижит была короткая юбка. На следующий день они покрылись красными прыщиками, все тело жутко чесалось. Trombi.di.um holosericeum, или клещ-краснотелка, – неизменный обитатель летних лужаек. Его диаметр составляет около двух миллиметров. Толстое, мясистое тельце, довольно выпуклое, ярко-красного цвета. Он прокалывает хоботком кожу млекопитающих, вызывая невыносимое раздражение. Linguatula rhinaria, или носовая пятиустка, обитает в лобных или околоносовых пазухах собак, иногда человека. Личинка овальной формы, с хвостиком в задней части; ее рот снабжен сверлящим аппаратом и окружен двумя парами придатков (или жвал) с длинными крючьями. Взрослая особь белого цвета, ланцетовидная, длиной от 18 до 85 миллиметров. Тело уплощенное, кольчатое, прозрачное, покрыто хитиновыми спикулами.
В декабре 1968 года бабушка переехала в департамент Сена-и-Марна, поближе к дочкам. Поначалу жизнь Мишеля не так уж и изменилась. Креси-ан-Бри находится всего в пятидесяти километрах от Парижа, но в то время это была еще сельская местность. Это красивая деревня, в ней много старых домов; Коро написал там несколько пейзажей. Благодаря системе каналов, несущих воды Гран-Морена, Креси в некоторых путеводителях именуют “Брийской Венецией”, но это сильно сказано. Мало кто из здешних жителей ездит на работу в Париж. Большинство из них служат на местных мелких предприятиях или, чаще всего, в Мо.
Два месяца спустя бабушка купила телевизор; на Первом канале как раз появилась реклама. В ночь на 21 июля 1969 года он смотрел в прямом эфире, как человек делает первые шаги на Луне. Одновременно с ним свидетелями этого события стали шестьсот миллионов зрителей по всему миру. Те несколько часов, что длилась трансляция, стали, вероятно, кульминацией начального этапа западной технологической мечты. В общеобразовательном коллеже Кресиан-Бри Мишель появился только в середине учебного года, но быстро там освоился, и ему не составило труда перейти в шестой класс. По четвергам он покупал “Пифа”, обновившего в то время свой формат. В отличие от большинства читателей, он покупал его не ради “гаджетов”[8], его привлекали прежде всего приключенческие истории. В этих историях, действие которых происходило в самые разные эпохи и при самых разных обстоятельствах, обыгрывались простые и глубокие нравственные ценности. Их всех, Рагнара-викинга, Тедди Теда и Апача, Рахана, “сына диких веков”, и Ходжу Насреддина, водившего за нос визирей и халифов, объединяли одни и те же этические нормы. Мишель постепенно их усвоил и пронес через всю жизнь. Чтение Ницше вызывало у него лишь мимолетное раздражение, а Канта – подтверждало то, что он и так уже знал. Чистая мораль едина и универсальна. С течением времени она не претерпевает никаких изменений, равно как и ничем не дополняется. Она не зависит от каких-либо исторических, экономических, социологических или культурных факторов; она вообще абсолютно ни от чего не зависит. Будучи неопределяемой, она предопределяет. Ничем не обусловленная, обусловливает. Иными словами, это абсолют.
Мораль, доступная наблюдению на практике, всегда является результатом смешения в различных пропорциях элементов чистой морали и других элементов во многом невнятного, чаще всего религиозного происхождения. Чем значительнее в ней доля элементов собственно чистой морали, тем счастливее и долговечнее общество, такой морали придерживающееся. Если уж на то пошло, общество, управляемое чистыми принципами универсальной морали, могло бы просуществовать до конца мира.
Мишель восхищался всеми героями “Пифа”, но его любимцем, разумеется, был Черный Волк, индеец-одиночка, вобравший в себя все благороднейшие качества апачей, сиу и шайеннов. Черный Волк объезжал бескрайние прерии в компании коня Шинука и волка Тупи. Он не только отважно заступался за самых слабых, но и постоянно комментировал свои подвиги в терминах трансцендентальной этики, иногда облекая их в поэтическую форму разнообразных поговорок индейцев дакота и кри либо просто апеллируя к “закону прерий”. Спустя годы Мишель по-прежнему считал его идеальным типом кантианского героя, всегда поступающего так, как если бы он “благодаря своим максимам был законодательствующим членом во всеобщем царстве целей”[9]. Некоторые эпизоды, такие как “Кожаный браслет”, например, о трогательном старом вожде шайеннов, ищущем звезды, нарушали довольно узкие рамки приключенческого сюжета, погружая читателя в необыкновенно поэтическую, высоконравственную атмосферу.
Телевидение занимало его меньше. Однако он с болью в сердце смотрел еженедельную программу “Жизнь животных”. Газели и лани, эти грациозные млекопитающие, жили в постоянном в страхе и ужасе. Львы и пантеры пребывали в апатичном оцепенении, изредка прерываясь на краткие вспышки свирепости. Они убивали, раздирали на части и пожирали самых слабых зверей, старых и больных, и снова погружались в тупой сон, оживляемый разве что нападками паразитов, поедающих их изнутри. Некоторые такие паразиты сами подвергались нападению других паразитов, помельче; последние, в свою очередь, становились рассадниками вирусов. Рептилии скользили между деревьями, вонзая в птиц и млекопитающих свои ядовитые зубы, если только их самих не рассекал внезапно хищный птичий клюв. Клод Дарже с каким-то беспричинным восторгом комментировал эти жуткие сцены своим напыщенным глупым голосом. Мишель дрожал от негодования, чувствуя, как в нем созревает еще одно неколебимое убеждение: в общем и целом дикая природа – это просто отвратительная мерзость; в общем и целом дикая природа заслуживает полной ликвидации, тотального уничтожения, и миссия человека на Земле, вероятно, и заключается в том, чтобы это осуществить.
В апреле 1970-го “Пиф” вышел с новым, ставшим самым знаменитым, гаджетом. К каждому экземпляру прилагался “порошок жизни” – пакетик с цистами крошечного морского рачка Artemia salina. В течение нескольких тысячелетий эти организмы пребывали в замершем состоянии. Процедура их оживления особой сложностью не отличалась: нужно было в течение трех дней отстаивать воду, потом немного нагреть ее, добавить содержимое пакетика, осторожно взболтать. В последующие дни контейнер держали вблизи от источника света и тепла и регулярно добавляли воду нужной температуры, компенсируя таким образом испарение, и слегка помешивали эту кашицу, чтобы насытить ее кислородом. Уже через несколько недель банка кишела множеством полупрозрачных ракообразных, на самом деле довольно противных, но определенно живых. Не зная, что с ними делать, Мишель выкинул их в Гран-Морен.
В том же выпуске приключенческий рассказ на двадцати страницах проливал некоторый свет на юность Рахана и жизненные обстоятельства, в результате которых он стал одиноким героем в глубине доисторических веков. Когда он был еще совсем ребенком, его клан погиб во время извержения вулкана. Его отец, Крао Мудрый, смог завещать ему на смертном одре лишь ожерелье из трех когтей. Каждый коготь олицетворял определенное качество “прямоходящих”, то есть людей. Коготь верности, коготь храбрости и самый главный – коготь доброты. С тех пор Рахан носил это ожерелье, стараясь доказать, что достоин его символов.
Их дом в Креси стоял в длинном саду, где росла одинокая черешня, немного поменьше той, что была у них в Йонне. Он по-прежнему читал “Весь мир” и “Сто вопросов”. На двенадцатилетие бабушка подарила ему набор “Юный химик”. Химия оказалась гораздо увлекательнее механики и электричества, загадочнее, разнообразнее. Реактивы, отличавшиеся по цвету, форме и текстуре, были разложены по коробочкам, словно навеки разлученные сущности. Но стоило их перемешать, как они запускали бурную реакцию, в мгновение ока образуя принципиально новые соединения.
Как-то в июльский полдень, сидя с книжкой в саду, Мишель вдруг осознал, что химические основы жизни могли бы быть совершенно иными. С ролью, которую углерод, кислород и азот играют в молекулах живых существ, справились бы молекулы с идентичной валентностью, но с более высокой атомной массой. На какой-нибудь дальней планете, при другом температурном режиме и давлении, молекулами жизни могли бы оказаться кремний, сера и фосфор; или германий, селен и мышьяк, а то и олово, теллур и сурьма. Ему не с кем было всерьез обсуждать эти вопросы – по его просьбе бабушка купила ему несколько книг по биохимии.
7
Брюно помнил себя с четырех лет; самым ранним было воспоминание об унижении. В то время он ходил в детский сад в парке Лаперлье в Алжире. Однажды осенним днем учительница показала мальчикам, как плести ожерелья из листьев. Девочки ждали, сидя на пригорке, и на их лицах уже тогда читались признаки глупой бабьей покорности; почти все они были в белых платьях. Землю усыпали золотистые листья; там росли в основном каштаны и платаны. Его товарищи, завершив работу, один за другим подходили к своим юным избранницам и надевали им ожерелье на шею. А он тупил, листья ломались, у него все валилось из рук. Как им объяснить, что он нуждается в любви? Как это объяснить без ожерелья из листьев? Он заплакал от ярости; учительница не пришла ему на помощь. Все закончилось, дети встали, вышли из парка. Чуть позже этот детский сад закрылся.
Его бабушка и дедушка жили в очень красивой квартире на бульваре Эдгара Кине. Буржуазные здания в центре Алжира построены в парижском османовском стиле. Двадцатиметровый коридор вел через всю квартиру в гостиную с балконом, откуда открывался вид на белый город. Много лет спустя ему, озлобленному сорокалетнему цинику, привидится эта картина: ему четыре года, он изо всех сил крутит педали своего трехколесного велосипеда, мчась по темному коридору к сияющему просвету балкона. Вероятно, именно в это мгновение он достиг апогея отпущенного ему земного счастья.
В 1961 году умер дедушка. В нашем климате труп млекопитающего или птицы сначала привлекает особый вид мух (Musca, Curtonevra); стоит телу начать разлагаться, как в игру вступают новые виды, прежде всего Calliphora и Lucilia. Труп под совместным воздействием бактерий и пищеварительных соков, выделяемых личинками, постепенно разжижается, становясь средоточием маслянокислого и аммиачного брожения. По истечении трех месяцев мухи завершают свой труд, и им на смену заступает отряд жесткокрылых жуков из рода кожеедов и чешуекрылых бабочек Aglossa pinguinalis, которые питаются в основном жирами. Забродившая белковая материя в процессе ферментации потребляется личинками Piophila petasionis и жуками рода Corynetes. Разложившийся труп, в котором еще остается немного влаги, становится вотчиной клещей, высасывающих из него остатки сукровицы. Но и высохшее, мумифицированное тело все еще служит пристанищем для разного рода добытчиков – личинок кожеедов из родов аттагенус и антренус, гусениц Aglossa cuprealis и Tineola bisellelia. Они и завершают этот цикл.
Брюно хорошо запомнил гроб красивого, насыщенного черного цвета, с серебряным крестом. Какая умиротворяющая картина, даже счастливая; деду наверняка уютно в таком великолепном гробу. Позже он узнал о существовании клещей и всех этих личинок с именами итальянских старлеток. Однако и сегодня образ деда в гробу по-прежнему казался ему счастливым видением.
Он хорошо помнил, как в тот день, когда они приехали в Марсель, бабушка сидела на ящике посреди выложенной плиткой кухни. Между плитками шныряли тараканы. Вероятно, именно в тот день она начала терять рассудок. Всего за несколько недель ей пришлось пережить агонию мужа, поспешный отъезд из Алжира, мучительные поиски квартиры в Марселе. Северо-восточные его кварталы оказались грязными до безобразия. Она никогда раньше не бывала во Франции. А дочь ее бросила, не приехала на похороны отца. Видимо, произошла какая-то ошибка. Где-то, видимо, была допущена какая-то ошибка.
Но она оклемалась и прожила еще пять лет. Купила мебель, поставила кровать Брюно в столовой, записала его в начальную школу по соседству. Каждый вечер она приходила за ним. Как же ему становилось стыдно, когда эта сухонькая надломленная старушка брала его за руку! У всех остальных имелись мамы и папы; дети разведенных родителей в те времена еще редко попадались.
Ночью она бесконечно мусолила в уме все этапы своей жизни, которая завершалась так плохо. Летом в их квартире с низкими потолками стояла страшная духота. Обычно она засыпала только на рассвете. Днем бродила по квартире в стоптанных туфлях, что-то бормотала вслух, не отдавая себе в этом отчета, и по пятьдесят раз подряд повторяла одни и те же фразы. Мысли о дочери не давали ей покоя. “Не приехала на похороны отца…” Она слонялась из комнаты в комнату, иногда с половой тряпкой или кастрюлей в руке, начисто забыв их назначение. “На похороны отца. на похороны родного отца…” Туфли с шипящим звуком шаркали по плиточному полу. Брюно испуганно съеживался в постели; он понимал, что все это добром не кончится. Бывало, она заводила с самого утра, еще в халате и бигудях: “Алжир – это Франция.”; затем снова раздавалось шарканье. Она ходила по комнатам взад-вперед, устремив взгляд в невидимую точку. “Франция. Франция.” – повторяла она постепенно сникающим голосом.