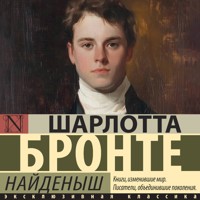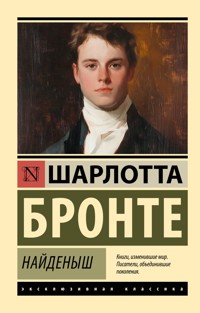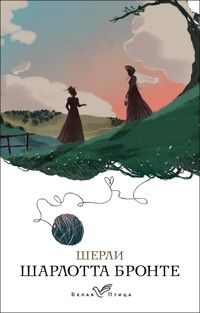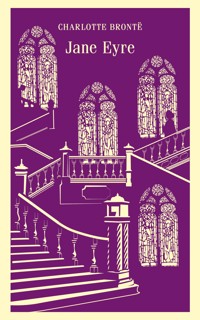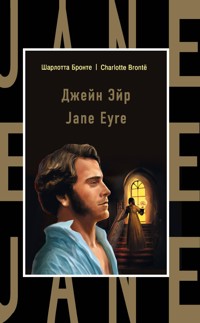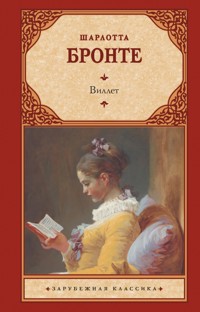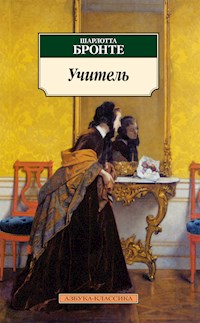Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neoclassic
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neoclassic проза
- Sprache: Russisch
Однажды богатый и представительный джентльмен оставляет дочку в престижном пансионе для девочек. Поначалу хозяйки пансиона окружают малышку заботой, однако, когда приходит время платить по новым счетам, выясняется, что все, что им рассказали о семье девочки — ложь. Мистер Эллин, скучающий местный холостяк, и одинокая вдова миссис Чалфонт решают разобраться в прошлом загадочной воспитанницы. В 1854 году Шарлотта Бронте приступила к работе над новым романом. «Эмма» должна была стать самым амбициозным произведением писательницы со времен «Джейн Эйр», однако из-за болезни Шарлотта успела написать всего несколько десятков страниц. Была предпринята не одна попытка завершить историю, но наиболее удачной оказалась именно представленная в данном издании версия Клэр Бойлан.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Шарлотта Бронте, Клэр Бойлан Эмма Браун
Charlotte Bronte & Clare Boylan
EMMA BROWN
© Clare Boylan, 2003
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
* * *
Посвящается Кэрол Шилдс
Глава 1
Все мы ищем в жизни некий идеал. В минувшие годы меня все чаще стала посещать приятная мысль, что, возможно, не много найдется человеческих существ, которых не занимали бы эти поиски в ту или иную пору их жизни хотя бы на краткое время. Я, несомненно, не нашла своего идеала в юности, но твердой веры в его существование оказалось довольно, чтобы в самые яркие, благоуханные годы моего расцвета меня поддерживала надежда. Не отыскала я его и в пору зрелости. Мне пришлось смириться с мыслью, что его уже не найти. Долгую череду туманных блеклых лет прожила я в безмятежном спокойствии, ничего не ожидая. Вот и теперь я не была уверена, но, казалось, у самого моего порога притаилось нечто неведомое, и меня охватило радостное предвкушение.
Взгляните, читатель, войдите ко мне в гостиную: права я или предаюсь пустым фантазиям – судите сами. Прежде всего вы можете рассмотреть меня, если вам угодно. Лучше будет, если я представлюсь вам по всей форме, и вы получите должное представление обо мне, прежде чем мы продолжим наш рассказ. Меня зовут миссис Чалфонт. Я вдова. У меня хороший дом, а моих доходов хватает, чтобы не подавлять в себе желание проявить милосердие или оказать скромное гостеприимство. Я не молода, но и не стара. Седина еще не тронула моих волос, но нет в них и прежнего золотого блеска. На лице моем еще не прорезались морщины, но я почти позабыла те дни, когда оно окрашивалось румянцем. Пятнадцать лет вела я жизнь, которую не назовешь скучной и вялой, хоть мне и пришлось выдержать немало испытаний. Следующие пять лет я провела в одиночестве и, не имея детей, оставалась всеми покинутой, но недавно богиня судьбы прихотливым поворотом своего колеса послала мне и интерес к жизни, и собеседника.
Место, где я живу, довольно приятное, виды радуют взор, а общество любезное, хотя и немногочисленное. Примерно в миле от моего дома располагается школа для девиц, открывшаяся не так давно, не более трех лет назад. С руководительницами этого заведения я водила знакомство, и не могу сказать, что мнение мое о них особенно высоко, ибо за несколько месяцев пребывания за границей ради завершения образования они успели набраться всевозможных причуд, жеманства, напыщенности и надменности. Однако отдаю им ту дань уважения, которой, как мне кажется, заслуживают все женщины, что храбро смотрят жизни в лицо и пытаются собственными силами проложить себе дорогу.
Однажды днем, примерно через год после того, как сестры Уилкокс открыли свою школу, когда число их учениц было еще крайне мало, а сами они, несомненно, отчаянно искали способ его увеличить, ворота перед их короткой подъездной дорожкой распахнулись, чтобы пропустить экипаж (очень красивый щегольской экипаж, как описывала его позже мисс Мейбл Уилкокс, рассказывая о случившемся), запряженный парой поистине великолепных лошадей. Промчавшаяся по дорожке карета, громкий звон дверного колокольчика, суета на крыльце, церемонные проводы посетителя в залитую светом гостиную – все это вызвало изрядный переполох во Фьюша-Лодже. Мисс Уилкокс направилась в парадную гостиную в новых перчатках, с платком из французского батиста в руке.
Там она увидела сидевшего на диване мужчину, который тотчас встал. Посетитель показался ей высоким и представительным – по крайней мере, так мисс Уилкокс подумала, поскольку тот стоял спиной к свету. Он представился как мистер Фицгиббон, осведомился, принимает ли мисс Уилкокс новых пансионерок, и признался, что желал бы доверить ее попечению свою дочь. Это была приятная новость, ибо в классной комнате Фьюша-Лоджа хватало свободных мест, поскольку учениц было всего три, пусть и избранных, и сестры Уилкокс смотрели в будущее без всякой надежды, понятия не имея, удастся ли свести приход с расходом за первое полугодие. Мало что обрадовало бы мисс Уилкокс больше, чем силуэт, к которому мистер Фицгиббон привлек ее внимание взмахом руки, – фигура девочки, стоявшей у окна гостиной.
Если бы в заведении мисс Уилкокс было больше воспитанниц, а сама она твердо вступила на путь преуспевания, которое годы спустя, благодаря неизменному вниманию к внешней стороне, научило ее так блистательно распознавать характеры, то прежде всего задумалась бы, послужит ли предлагаемое ей пополнение к чести школы, станет ли новенькая примерной ученицей. Она бы тотчас отметила внешность девочки, платье и прочее, и на основании этих признаков определила ее ценность. Однако в ту начальную пору, полную тревог и волнений, мисс Уилкокс не могла позволить себе роскошь оценивать. Что ни говори, появление новой ученицы обещало сорок фунтов в год, а мисс Уилкокс очень нуждалась и рада была их заполучить; вдобавок прекрасный экипаж, представительный джентльмен и блестящее имя внушали отрадные надежды, а при изложенных выше обстоятельствах этого более чем достаточно.
Итак, мисс Уилкокс признала, что во Фьюша-Лодже есть свободные места и мисс Фицгиббон может быть тотчас зачислена; ее обучат всему, что предусмотрено школьной программой, но возможны и дополнительные занятия – правда, за особую плату. Словом, новой ученице предстояло стать источником прибыли, а потому весьма ценным приобретением, дорогим сердцу каждой школьной руководительницы. Об условиях договорились легко, беседа прошла гладко, без малейших затруднений, проявлены были и мягкость, и щедрость. Мистер Фицгиббон не выказал жесткости, свойственной искушенным в торге дельцам, или той боязливой скупости, что отличает тех, кто сам себе зарабатывает на жизнь. Мисс Уилкокс почувствовала в нем истинного джентльмена. Все убеждало ее отнестись чуть более благосклонно к маленькой девочке, которую отец перед отъездом официально вверил ее попечению. Казалось, ничто не могло бы усилить благоприятного впечатления, произведенного посетителем, но адрес на визитной карточке гостя довершил торжество мисс Уилкокс, наполнив ее сердце ликованием: «Конуэй Фицгиббон, эсквайр. Мей-парк, графство Мидленд». И в тот же день вышло три указа относительно новенькой: во-первых, она будет делить спальню с мисс Уилкокс; во-вторых, сидеть за столом рядом с мисс Уилкокс; в-третьих, гулять тоже в сопровождении мисс Уилкокс.
Несколько дней спустя стало очевидно, что в дополнение к трем предыдущим следует выпустить четвертый тайный указ: мисс Фицгиббон надлежит особо выделять, окружать заботой и всегда оберегать.
Одна несносная, скверная девчонка, что перед тем, как попасть во Фьюша-Лодж, провела год под присмотром неких весьма старомодных мисс Стерлинг из Хартвуда и набралась от них несуразных понятий о справедливости, вздумала высказать свое мнение об обыкновении заводить любимчиков, безрассудно заявив: «Мисс Стерлинг никогда никому не отдавали предпочтения, даже если кто-то богаче остальных или одет лучше. Это было ниже их достоинства. Они ценили девочек за хорошее обращение со школьными подругами, за прилежание и успехи в учебе, а не за обилие шелковых платьев, тонких кружев и перьев».
Не следует забывать, что, когда раскрыли сундуки мисс Фицгиббон, в них обнаружился роскошный гардероб, множество разнообразных нарядов столь изысканных, что мисс Уилкокс, вместо того чтобы доверить это великолепие крашеным деревянным шкафчикам в школьной спальне, отнесла его к себе в комнату и убрала в комод красного дерева. С тех пор по воскресеньям она своими руками выдавала маленькой фаворитке ее шелковую стеганую накидку, шляпку и перья, боа из горностая, крохотные французские ботиночки и перчатки. С горделивым чувством самодовольства сопровождала она в церковь юную наследницу (письмо мистера Фицгиббона, полученное после первого его визита, раскрывало дополнительные подробности: там говорилось, что эта девочка единственное дитя сквайра, ей предстоит унаследовать все отцовские владения, включая и Мей-парк в графстве Мидленд). Так вот, когда случалось вести ее на службу, мисс Уилкокс сажала девочку рядом с собой на переднюю скамью церковной галереи. Беспристрастные наблюдатели, возможно, недоумевали бы, чем так гордится наставница, и ломали голову, пытаясь угадать скрытые совершенства этой юной леди в шелках, ибо, говоря откровенно, мисс Фицгиббон едва ли служила украшением школы: среди ее спутниц нашлись бы и куда более красивые девочки, с прелестными личиками. Будь она ребенком бедным, самой мисс Уилкокс вовсе не понравилась бы ее наружность: лицо девочки скорее отталкивало, нежели привлекало. Более того, временами директриса чувствовала, что испытывает странную усталость, следуя установившемуся порядку и проявляя благосклонность к избранным, хотя вряд ли признались бы в этом даже себе и, напротив, старалась гнать подобные мысли. Однако в данном случае питать особое расположение к воспитаннице казалось странным, не вполне естественным. Иногда смутные сомнения закрадывались ей в душу, и тогда она невольно задумывалась, так ли уж приятно опекать этого зародыша, будущую наследницу, не слишком ли тягостно вечно держать ее при себе, угождать, оказывать особое покровительство. «А как же принципы? – спорила она с собой. – Эта девочка самая знатная и богатая из всех моих учениц, мне выпала великая честь обучать ее. Она приносит самый крупный доход, а значит, имеет право на особое отношение». Что мисс Уилкокс и делала, хоть и со странным смущением, которое день ото дня все усиливалось.
Без сомнения, чрезмерное внимание, как и особое благоволение наставниц к юной мисс Фицгиббон, пользы ей не принесло. Положение любимицы директрисы восстановило против нее всех других воспитанниц, девочки не приглашали маленькую выскочку в свои игры и, насколько могли, решительно ее сторонились. Однако в этом резком неприятии вскоре отпала нужда. В самое короткое время стало ясно, что довольно и безразличной отстраненности: любимая ученица не отличалась общительностью. Да, это признавала даже мисс Уилкокс. Она всегда испытывала странную неловкость, когда посылала за девочкой, чтобы показать в парадной гостиной ее роскошные наряды, когда собиралось общество, а в особенности когда мисс Фицгиббон приглашали вечером в малую гостиную составить директрисе компанию. Она пыталась вести любезную беседу с юной наследницей, пробовала вызвать ее на разговор, развлечь, рассмешить. Наставница терялась в догадках, почему все ее усилия оказывались тщетными, однако именно так и случалось. Но мисс Уилкокс была женщиной решительной и упорной: пусть протеже и не оправдала ее надежд, сдаваться не собиралась и, верная своим принципам, следовала политике предпочтения одних учениц другим.
У фаворитки не было подруг, и как-то один джентльмен, которому в ту пору случилось наведаться в Лодж и увидеть мисс Фицгиббон, гулявшую в одиночестве, пока другие девочки весело играли, заметил: «Это дитя кажется глубоко несчастным. Кто это бедное создание?»
Ему назвали имя воспитанницы и описали ее положение. Джентльмен с грустью наблюдал, как девочка шагает по дорожке, а затем поворачивает обратно: спина прямая, руки спрятаны в горностаевую муфту, изящная накидка ярко блестит на зимнем солнце, большая шляпа из итальянской соломки бросает тень на ее лицо, не похожее ни на одно другое во Фьюша-Лодже. Распахнув окно гостиной, он продолжал наблюдать за обладательницей муфты, пока взгляды их не встретились, затем поманил ее пальцем. Она подошла и запрокинула голову, а джентльмен наклонился к ней и спросил:
– Ты не играешь, малышка?
– Нет, сэр.
– Нет? Но почему? Ты считаешь недостойным играть с другими девочками?
Ответа не последовало.
– Или ты считаешь, что дети тебя не любят?
Юная леди ускользнула. Джентльмен протянул было руку, пытаясь ее удержать, но она увернулась, пустилась бежать и быстро скрылась из вида.
– Единственный ребенок, – заметила мисс Уилкокс, пожимая плечами. – Возможно, слишком избалована отцом, но вы ведь понимаете: даже если она немного капризна, мы должны быть снисходительны.
– Гм! Боюсь, «немного капризна» – слишком слабо сказано: вам понадобится вся ваша снисходительность.
Глава 2
Мистер Эллин, упомянутый в предыдущей главе джентльмен, принадлежал к той породе людей, что ходят куда пожелают, а будучи человеком праздным и вдобавок любителем сплетен, имел обыкновение заглядывать почти во все дома в округе. Едва ли он был богат: жил мистер Эллин довольно скромно, и все же кое-какими средствами располагал, ибо, не имея определенных занятий, владел собственным домом и держал прислугу. Он любил говорить, что некогда трудом зарабатывал себе на хлеб, но если это и было так, едва ли с тех пор прошло много времени, поскольку выглядел мистер Эллин еще далеко не старым. Иногда по вечерам, увлеченный разговором, он казался совсем юным, но настроение его легко менялось, а с ним и выражение, и цвет лица; даже веселые голубые глаза его, переменчивые, подобно хамелеону, порой темнели, делались серыми и мрачными, чтобы вскоре засверкать зеленым огнем. Вообще его можно было назвать светловолосым мужчиной среднего роста, довольно худым и жилистым. В здешних местах он прожил не более двух лет, о его прошлом никто ничего не знал, но поскольку в общество его ввел приходский священник, человек почтенный, из хорошей семьи, который крайне осмотрительно подходил к выбору знакомых, мистер Эллин всюду встречал самый сердечный прием; впрочем, ничто в его поведении как будто не указывало на то, что он этого не заслуживает. Некоторые между тем называли его оригиналом и считали человеком с причудами, другие же не соглашались, что он заслужил такую характеристику. Мистер Эллин всегда казался им тихим и безобидным, хотя, возможно, подчас чуть более таинственным и скрытным, чем хотелось бы. Порой выражение его глаз вызывало смутную тревогу, а речи звучали двусмысленно, однако доброжелатели по-прежнему верили, что он не держал в мыслях ничего дурного.
Мистер Эллин часто наведывался к сестрам Уилкокс, а иногда оставался на чай; похоже, ему нравился чай с кексами, да и беседа, сопровождавшая обычно подобные застолья, не вызывала у него неприязни. Мистер Эллин быстро приобрел славу отъявленного сплетника, потому что обожал собирать и передавать слухи. В целом он предпочитал женское общество и, казалось, не отличался строгой взыскательностью в выборе собеседниц, не требуя от знакомых дам ни редких совершенств, ни блестящих дарований. В сестрах Уилкокс, к примеру, глубины было не больше, чем в фарфоровых блюдцах, на которых стояли их чашки, однако это не мешало ему проводить время в их обществе и, очевидно, получать величайшее удовольствие, слушая, как они во всех подробностях обсуждают свою школу. Он знал по именам всех юных подопечных сестер Уилкокс и здоровался с ними за руку, когда встречал на прогулке. Мистер Эллин помнил, в какие дни у них экзамены, а в какие праздники, и не раз сопровождал мистера Сесила, младшего священника, когда тот приходил экзаменовать девочек по церковной истории.
Экзаменационные испытания проходили каждую неделю, днем по средам, после чего мистер Сесил иногда оставался на чашку чая и обычно встречал среди приглашенных гостей двух-трех своих прихожан. Мистер Эллин неизменно бывал в их числе. Сплетники прочили одной из сестер Уилкокс брак с младшим священником и уверяли, будто его приятеля вскоре свяжут те же нежные узы со второй из девиц, так что счастливое событие произойдет при весьма любопытных обстоятельствах. Редко когда на подобные вечерние чаепития не приглашали мисс Фицгиббон, в расшитом муслине, с развевающимися лентами и тщательно завитыми локонами; другим ученицам тоже случалось бывать там, их звали спеть перед гостями или сыграть немного на фортепьяно, а иногда прочесть стихотворение. Мисс Уилкокс старательно взращивала в своих юных воспитанницах умение выгодно показать себя, полагая, что таким образом исполняет свой долг перед ними и перед собой. Она преследовала сразу две цели: приумножить славу своего заведения и научить девочек владеть собой.
Любопытно отметить, что в подобных случаях подлинные высокие природные качества одерживали верх над мнимыми, фальшивыми совершенствами. «Дорогая мисс Фицгиббон», всегда разодетая и окруженная лестью, неуклюже обходила собравшихся с самым унылым видом – вероятно, ей свойственным, – угрюмо подавала руку гостям и почти тотчас грубо ее отдергивала, а затем с неучтивой поспешностью стремилась занять отведенное ей место возле мисс Уилкокс, где и сидела весь вечер молча, не улыбаясь, словно предмет мебели, ибо такова была ее манера. Другие ученицы, Мэри Франкс или Джесси Ньютон, красивые девочки с ясными, открытыми лицами, невинные, а потому бесстрашные, появлялись с приветливой улыбкой и с радостным румянцем на щеках, делали прелестный реверанс на пороге гостиной, дружелюбно протягивали маленькие ручки знакомым и садились за фортепьяно, чтобы сыграть хорошо разученный дуэт с той бесхитростной услужливой готовностью, что покоряет все сердца.
Была среди них девочка по имени Диана, та, что прежде училась в заведении мисс Стерлинг (я уже упоминала о ней); подруги обожали ее, такую милую и храбрую, хоть и немного побаивались. Щедро одаренная от природы как телесно, так и духовно, она была умна, честна и бесстрашна. Твердая как скала, она давала решительный отпор всем притязаниям мисс Фицгиббон на первенство в классной комнате, хватало у нее смелости и силы духа, чтобы противостоять им и в гостиной. Как-то вечером, когда младшего священника вызвали по какой-то спешной надобности сразу после чая и из гостей остался один лишь мистер Эллин, Диану позвали сыграть длинную сложную пьесу для фортепьяно, которую она обычно исполняла мастерски. Девочка дошла до середины пьесы, когда мистер Эллин, вероятно, впервые заметив наследницу, спросил, не холодно ли той. Мисс Уилкокс тотчас воспользовалась случаем, чтобы рассыпаться в похвалах безжизненному, тупому оцепенению мисс Фицгиббон, назвав ее истинной леди, образцом скромности и благопристойности. То ли принужденный тон мисс Уилкокс выдал ее истинные чувства, весьма далекие от восторженного одобрения, выражаемого лишь на словах, ибо она превозносила фаворитку из чувства долга, а никак не потому, что хоть в малейшей степени поддалась очарованию этой юной особы, то ли Диану, вспыльчивую по своей природе, охватило нестерпимое раздражение, трудно сказать, но она вдруг повернулась на своем табурете и обратилась к мисс Уилкокс:
– Мэм, эта девочка не заслуживает ваших похвал. Она вовсе не пример для подражания. В классной комнате она держится надменно, враждебно и холодно. Что до меня, мне глубоко противно ее важничанье. Многие из нас ничуть не хуже ее, а то и лучше, хоть мы, возможно, не так богаты.
С этими словами Диана закрыла крышку фортепьяно, взяла под мышку ноты, присела в реверансе и удалилась.
Как ни странно, мисс Уилкокс не сказала тогда ни слова, да и впоследствии не отчитала Диану за эту выходку. К тому времени мисс Фицгиббон обучалась в школе уже три месяца, и, вероятно, первые восторги директрисы, увлеченной своей подопечной, успели утихнуть.
В самом деле, с течением времени все чаще стало казаться, что зло возможно исправить, жизнь входит в свою колею, мисс Фицгиббон готова снизойти до своего окружения и занять надлежащее место среди учениц, однако всякий раз, к вящей досаде ревнителей справедливости и здравомыслия, какое-нибудь мелкое происшествие пробуждало угасший было интерес к ее ничтожной персоне. Однажды это была огромная корзина фруктов из оранжереи – дынь, винограда и ананасов – в подарок мисс Уилкокс от имени мисс Фицгиббон. Быть может, виной тому эти роскошные плоды, которыми излишне щедро наделили формальную дарительницу, или обилие пирожных по случаю дня рождения мисс Уилкокс, но случилось так, что из-за расстройства пищеварения мисс Фицгиббон принялась ходить во сне. Как-то ночью она устроила переполох в школе и насмерть перепугала всех девочек, когда прошла по спальням в длинной белой ночной рубашке, испуская стоны и вытянув перед собой руки.
Послали за доктором Перси, однако, как видно, его лекарства не помогли, поскольку через две недели после первого припадка лунатизма мисс Уилкокс, поднимаясь по лестнице, на что-то наткнулась в темноте. Поначалу она решила, что это кошка, но когда принесли лампу, обнаружила, что ее дорогая Матильда Фицгиббон лежит, скорчившись, на площадке, синяя, холодная, оцепеневшая, с побелевшими губами, в полузакрытых глазах ни проблеска света. Девочку не скоро удалось привести в сознание: казалось, чувства ее все еще в смятении, и теперь у мисс Уилкокс появился неоспоримый предлог держать любимицу весь день на диване в гостиной и хлопотать над ней больше прежнего.
Но приходит день расплаты и для избалованных наследниц, и для пристрастных воспитательниц.
Однажды ясным зимним утром, когда мистер Эллин сидел за завтраком в своем холостяцком кресле и наслаждался чтением еще сырой свежей лондонской газеты, принесли письмо с пометками «лично в руки» и «срочно». Последняя приписка пропала втуне, ибо Уильям Эллин никогда не торопился и лишь недоумевал, как у других хватает глупости спешить, ведь жизнь и без того коротка. Он оглядел небольшое послание: сложенное треугольником, надушенное, – несомненно, от женщины. Мистер Эллин узнал почерк: это от той самой дамы, которую молва так часто прочила ему в жены. Холостяк достал сафьяновый футляр, выбрал среди инструментов маленькие ножницы, вырезал печать, не повредив ее, и прочел:
«Мисс Уилкокс шлет сердечное приветствие мистеру Эллину и будет рада видеть его у себя, если тот сможет найти несколько свободных минут. Мисс У. нужен небольшой совет. Она объяснит все мистеру Э. при встрече».
Мистер Эллин спокойно покончил с завтраком и тщательно оделся, чтобы пройтись по холодку. В этот декабрьский день стояла прекрасная, хоть и морозная, солнечная безветренная погода. Прогулка ему понравилась: воздух был неподвижен, солнце не по-зимнему ярко, твердая, схваченная морозом дорожка припорошена снегом. Он постарался продлить удовольствие и выбрал кружной путь через поля по извилистым малолюдным тропинкам. Если по дороге встречалось дерево, на которое удобно было опереться, он иногда останавливался, прислонялся спиной к стволу, складывал руки на груди и погружался в размышления. Если бы какая-нибудь досужая сплетница застигла его в эту минуту, то решила бы, что он думает о мисс Уилкокс; возможно, когда мистер Эллин дойдет до Лоджа, по его обращению мы поймем, насколько верна эта догадка.
Вот наконец он подошел к дверям и позвонил. Его впустили в дом и проводили в малую гостиную, комнату уединенную и не такую просторную, как парадный зал. Мисс Уилкокс при виде гостя поднялась из-за письменного стола с надлежащим изяществом и любезным выражением лица, чтобы его приветствовать. Этим грациозным манерам и учтивому обхождению она научилась во Франции, ибо провела полгода в одной из парижских школ, где вместе с азами французского усвоила массу жестов и вежливых знаков расположения. Нет, мы определенно не вправе утверждать, что мистер Эллин не восхищен мисс Уилкокс, в этом нет ничего невозможного. Она, как и ее сестры, не лишена красоты, вдобавок все они умны и блистательны. Им нравится одеваться в ярко-синие платья, которые нередко украшает приколотый для контраста пунцовый бант; вообще они предпочитают сочные, радостные цвета: травянисто-зеленый, фиолетово-красный, темно-желтый; тихая гармония красок у них не в чести. Глядя на мисс Уилкокс в синем шерстяном платье, отделанном лентой цвета граната, многие решили бы, что это на редкость приятная женщина. У нее светлые рыжеватые волосы и хороший цвет лица, черты правильные, хотя нос немного заострен, а губы тонковаты. Мисс Уилкокс чрезвычайно деловита и практична: ни утонченность чувств, ни возвышенность мыслей вовсе ей не свойственны. Несмотря на крайнюю ограниченность, она, однако, представительна, степенна и вполне довольна собой. У нее холодные, бледные, слегка навыкате глаза с острыми узкими зрачками, которым не свойственно ни сужаться, ни расширяться, светлые ресницы и брови. Мисс Уилкокс чрезвычайно высоконравственная и благопристойная особа, но ни деликатность, ни скромность ей не присущи, ибо от природы она начисто лишена всякой чувствительности. Когда она говорит, голос ее не дрожит, лицо ничего не выражает, а в манере держаться нет и тени волнения. Ей незнакомы ни трепет, ни краска смущения.
– Чем могу служить, мисс Уилкокс? – Мистер Эллин подошел к письменному столу и опустился на стул возле него.
– Быть может, вы дадите мне совет или располагаете кое-какими сведениями. Я чувствую полнейшую растерянность, боюсь, дела совсем плохи.
– Но как? И отчего?
– Я бы все исправила, будь это возможно, – продолжила почтенная дама, – но не знаю, как подступиться! Подвиньтесь ближе к камину, мистер Эллин, день выдался холодный. – Они оба подсели ближе к огню, и мисс Уилкокс вновь заговорила: – Приближаются рождественские каникулы, вы ведь знаете?
Он кивнул.
– И вот примерно две недели назад я по обыкновению написала близким моих учениц: указала день окончания занятий и попросила уведомить меня письмом, если кого-то из девочек желательно оставить на время каникул в школе. Все охотно откликнулись на мою просьбу, кроме мистера Конуэя Фицгиббона, эсквайра, отца Матильды, как вам известно.
– Что? Неужели он не позволил ей поехать домой?
– Нет, просто не ответил. Прошло еще две недели, и все это время я каждый день ждала ответа, но письма все не было. Эта проволочка вызвала у меня досаду, и я решила написать еще раз, но сегодня мне доставили с утренней почтой что бы вы думали? Мое собственное письмо! Представляете? Почтовая контора вернула его мне с извещением, да еще с каким! Впрочем, прочтите сами.
Она протянула мистеру Эллину конверт, и тот извлек из него возвращенное послание и короткую записку – пару строк, торопливо нацарапанных чьей-то рукой на листке бумаги. В записке говорилось, что в графстве Мидленд нет поместья Мей-парк и о джентльмене по имени Конуэй Фицгиббон, эсквайр, в тех местах никогда не слышали.
Прочитав записку, мистер Эллин чуть прикрыл глаза:
– Я подумать не мог, что все так плохо.
– Что? Так вам все же приходило такое в голову? Вы подозревали, что дело здесь нечисто?
– Полно вам! Я толком не знаю, что думал или подозревал. Как странно, что поместья Мей-парк не существует! Роскошный дом, дубовые деревья, олени исчезли без следа. А с ними и сам Фицгиббон! Но ведь вы его видели, разве он не приезжал в собственном экипаже?
– В собственном экипаже! – эхом откликнулась мисс Уилкокс. – В великолепной карете, да и сам он человек почтенный. Вы не думаете, что здесь все же какая-то ошибка?
– Несомненно, вышла ошибка, но когда все разъяснится, едва ли Фицгиббон или Мей-парк появятся вновь. Может, мне наведаться в Мидленд и поискать?
– О! Вы окажете мне такую любезность, мистер Эллин! Я знала, что вы бесконечно добры. Самому все разузнать – что может быть лучше?
– Это сущая безделица. А между тем что вы намерены делать с этой девочкой, с мнимой наследницей, если она и впрямь мнимая? Вы измените свое отношение к ней, дадите понять, где ее место?
– Пожалуй, нет, – задумчиво ответила мисс Уилкокс. – Не теперь. Не хочу действовать в спешке, сперва следует навести справки. Если в конце концов выяснится, что положение девочки таково, как мы полагали вначале, лучше не предпринимать ничего, о чем впоследствии я могла бы пожалеть. Нет, я не изменю своего обращения с ней, покуда не получу от вас вестей.
– Хорошо. Как вам угодно, – ответил мистер Эллин с тем холодным равнодушием, что делало его в глазах мисс Уилкокс столь желанным советчиком.
В его сухом лаконизме она находила созвучие своей погруженности в заботы суетного мира. Если мистер Эллин не возражал ей, директриса полагала, что он уже достаточно высказался. Замечания, которые он так скупо отпускал, она не желала слушать.
Мистер Эллин решил, как выразился, «наведаться» в графство Мидленд. Поручение, казалось, пришлось ему по вкусу, ибо он отличался довольно необычными пристрастиями и для осуществления своих желаний прибегал к весьма своеобразным средствам. Тайные поиски ему нравились: как видно, было в нем что-то от сыщика-любителя. Он мог провести расследование, не привлекая к себе внимания. Бесстрастное лицо мистера Эллина никогда не выражало любопытства, но ничто не могло укрыться от его недремлющего ока.
Он пробыл в отъезде около недели, и на следующий день после возвращения, как всегда невозмутимый, появился у мисс Уилкокс, словно расстался с ней только накануне. Представ перед ней с непостижимо загадочным видом, который любил при случае напускать на себя, он прежде всего сказал, что ничего не добился.
Но сколь бы ни старался мистер Эллин изобразить таинственность, ему никогда не удавалось обескуражить мисс Уилкокс. Она не находила в нем ничего загадочного. Некоторые побаивались мистера Эллина, поскольку не понимали его, ей же в голову не приходило разгадывать его характер или размышлять над особенностями натуры. Если у нее и сложилось представление о нем, сводилось оно к тому, что это человек ленивый, но любезный, предупредительный, незлобивый и немногословный, что часто бывает удобно. Что же до того, ощущается ли в нем острый ум и глубина мысли или, напротив, скудоумие и ограниченность, замкнутый он или открытый, необыкновенный или заурядный, она не видела практической пользы в ответах на эти вопросы, а потому не задавалась ими.
– Почему же мистер Эллин ничего не добился? – осведомилась мисс Уилкокс.
– Главным образом потому, что ничего нельзя было сделать.
– Так значит, он не может сказать ничего нового?
– Почти ничего, одно только: на самом деле Конуэй Фицгиббон – подставное лицо, а Мей-парк просто выдумка. Ни в Мидленде, ни в одном другом графстве Англии нет такого человека. Предания не сохранили ни такого имени, ни места. Сам оракул, хранитель памяти о событиях былых времен, сверившись со своими записями, не нашел ответа.
– Но кто же тогда тот человек, что приходил сюда, и кто это дитя?
– А вот этого я вам сказать не могу. Собственная несостоятельность заставляет меня признаться, что я ничего не добился.
– И как же мне получить свои деньги?
– Этого я вам тоже не могу сказать.
– Но мне причитается плата за жилье и обучение, вдобавок нужно выплатить жалованье учителям, – не унималась мисс Уилкокс. – Какое бесстыдство! Ущерб слишком велик, я не могу себе такого позволить.
– Живи мы в добрые старые времена, что подошло бы нам как нельзя лучше, – ответил мистер Эллин, – вы бы просто отослали мисс Матильду в Виргинию на плантации, продали бы по сходной цене и возместили затраты.
– Матильда, как же! Да еще Фицгиббон! Маленькая лгунья! Хотела бы я знать ее настоящее имя.
– Бетти Ходж? Полл Смит? Ханна Джоунс? – предположил мистер Эллин.
– Однако же признайте, – воскликнула мисс Уилкокс, – в проницательности мне не откажешь! А все-таки странно: как бы я ни старалась – а я не щадила усилий, видит бог, – мне так и не удалось полюбить это дитя. В моем доме потакали всем ее капризам. Могу сказать с уверенностью, я принесла великую жертву, поступилась своими чувствами во имя долга и уделила этой девочке должное внимание, хотя никто бы не поверил, сколь сильна была неприязнь, которую все это время я испытывала к ней.
– Да. Охотно верю. Я это видел.
– В самом деле? Ну, это лишь доказывает, что прозорливость редко меня подводит. Однако игра ее окончена, довольно. Я еще ничего ей не говорила, но теперь…
– Вызовите ее, пока я здесь, – предложил мистер Эллин. – Ей известно об этом деле? Она посвящена в тайну? Сообщница она или лишь слепое орудие? Пригласите ее прийти.
Мисс Уилкокс позвонила, потребовала к себе Матильду Фицгиббон, и мнимая наследница вскоре явилась: с завитыми локонами, в нарядном платье с оборками и лентами – увы! – теперь уже неуместными и недозволительными.
– Стой там! – строго распорядилась мисс Уилкокс, подошла к камину и окинула девочку цепким взглядом. – Встань по ту сторону стола. Я задам тебе несколько вопросов, и твой долг – отвечать. И смотри, говори правду. Мы не потерпим лжи.
С того дня как с мисс Фицгиббон случился припадок и ее нашли в глубоком обмороке, лицо ее приобрело необычайную бледность, а вокруг глаз залегли тени. Услышав слова директрисы, она задрожала и побелела; казалось, весь ее облик выдавал сознание виновности.
– Кто ты? – потребовала ответа мисс Уилкокс. – Что ты знаешь о себе?
С губ девочки сорвалось невнятное восклицание: в этом звуке слышался и страх, и глубокое душевное потрясение, которое случается, когда давно ожидаемое бедствие наконец внезапно обрушивается на нас.
– Стой смирно и будь любезна отвечать! – продолжила мисс Уилкокс, которую никто не решился бы упрекнуть в недостатке жалости, ибо природа не наделила ее состраданием. – Как тебя зовут? Нам известно, что у тебя нет права называться Матильдой Фицгиббон.
Девочка не ответила.
– Ну же, я хочу услышать ответ. Рано или поздно ты заговоришь. Лучше бы тебе сделать это сейчас.
Строгий допрос, как видно, сильно подействовал на ту, которой его подвергли. Она стояла неподвижно, словно пораженная параличом, пыталась заговорить, но не могла произнести ни слова.
Мисс Уилкокс не впала в ярость, но тон ее сделался еще суровее и настойчивее. Она слегка повысила голос, и его резкий, грозный рокот, казалось, бил по глазам и затуманивал разум. Случившееся затронуло ее интересы, нанесло ущерб кошельку, и теперь она отстаивала свои права, слепая и глухая ко всему, кроме единственного вопроса, ее занимавшего. Что до мистера Эллина, тот, как видно, полагал себя лишь сторонним наблюдателем и безмолвно стоял возле камина.
Наконец подсудимая заговорила. Голос ее звучал чуть слышно, когда она сдавленно вскрикнула, вскинув руки ко лбу:
– О, моя голова!
Пошатнувшись, она ухватилась за дверь, но все же удержалась на ногах. Иные обвинители, пожалуй, вздрогнули бы от этого крика, пусть и приглушенного, но не мисс Уилкокс. Не будучи ни жестокой, ни свирепой, она, однако, не обладала чувствительностью, поэтому лишь перевела дыхание и сурово продолжила дознание.
Мистер Эллин отступил от камина и неторопливо пересек комнату, словно устал стоять в одной и той же позе и решил для разнообразия пройтись. Когда он повернул назад и прошел мимо преступницы, стоявшей у двери, ушей его коснулось слабое дыхание, послышался тихий шепот:
– О, мистер Эллин!
С этими словами ребенок повалился на пол. Чей-то чужой, странный голос, исходивший, впрочем, изо рта мистера Эллина, попросил мисс Уилкокс прерваться и умолкнуть. Гость поднял с пола упавшую девочку. Она выглядела обессиленной, но не лишилась чувств. Через несколько минут, цепляясь за мистера Эллина, она снова вздохнула и подняла на него глаза.
– Ну же, малышка, не бойся, – ободрил он дитя.
Приникнув к нему головой, девочка понемногу успокоилась. Ее не пришлось утешать, даже сильная дрожь унялась, стоило ребенку почувствовать в нем защитника. С великолепным спокойствием, однако же весьма решительно, мистер Эллин сказал мисс Уилкокс, что девочку следует тотчас уложить в постель.
– Больше ничего ей не говорите. Остерегитесь, или вы, сами того не желая, натворите больше бед, чем можете представить. Ее натура вовсе не сходна с вашей. Вам это, безусловно, не по вкусу, но оставьте все как есть. Мы поговорим обо всем завтра. Позвольте мне расспросить ее.
Глава 3
Чтобы вы не вообразили, будто большие особняки всего лишь фантазия, позвольте вас заверить, что я, Изабел Чалфонт, вдова из здешнего прихода, провела часть жизни в одном из них. Происхождения я невысокого, но вознеслась высоко, и, взирая вниз с вышины, нахожу разумным оспорить все высказанные мнения о высоте и положении.
Кто-то скажет, что я не достигла больших высот, ибо мое нынешнее обиталище можно отнести лишь к разряду добротных домов. Дом мой, как я уже упоминала, довольно удобный, хотя, пожалуй, коричневого здесь с избытком – слишком уж много деревянных панелей. Я бы охотно пожертвовала излишком темного ради более ярких красок, но муж всегда внушал мне, что панели изысканно-красивы, и внушение это пережило его самого.
Как вы можете убедиться, я смягчила впечатление с помощью ламп и зеркал и украсила комнаты множеством безделиц и ненужных вещиц, сделанных собственными руками. Вокруг моего дома столько цветов и вьющейся зелени, что он похож на гнездышко, а известно оно как Фокс-Клаф.
Проследуйте за мной, если вам угодно, к одному из зеркал. Заглянем вместе в это серебряное озерцо и рассмотрим внимательно молчаливое создание, что копирует каждый наш жест и малейшее движение. Какой груз несут они, образы, скрытые в складках костюма или платья, затрудняя шаг и окутывая тайной душу?
Я вижу в вас своего рода товарища. Вы любите книги. Безмолвное откровение на страницах больше вам по нраву, нежели неуемное словоизвержение из жажды выставить себя напоказ. Что же вы видите во мне? Опрятную женщину, укрытую плащом спокойствия? Женщину, что собирает в свой скромный букет и смиренную покорность, и суровую резкость? Но не судите ли вы опрометчиво, руководствуясь лишь первым впечатлением? Вовсе нет? Что ж, превосходно. Теперь мы узнали друг друга лучше. Особа, которую я представила вашему вниманию, вполне реальна. Это миссис Чалфонт. Она ведет свой рассказ. Но есть и другая, что спрятана между страницами времени и носит иное имя. И повесть ее следует по иному пути. Быть может, она некогда уверяла, будто нашла в жизни свой идеал, но потеряла его. Однако кто станет сокрушаться из-за бурного плавания, когда корабль благополучно прибыл в гавань? Той девушки уже нет. Ее место заняла женщина. Это она приветствует вас теперь, ее обнаженное сердце скромно прикрыто, надежды и ожидания приглушены из бережливости. Возможно, и вы слегка подправляете внешне свою внутреннюю суть. Многие скажут, что неистовые страсти в нас, когда минует лучшая пора юности, увядают, как тропические цветы в английском саду. Что же думаю я? Они еще напомнят о себе.
Пойдемте же теперь в мой сад. Да, я тоже садовница. Сад у меня английский. Цветы здесь блаженствуют под дождем, их белые личики озаряют мягким светом серые английские дни. Нет у меня ни щеголеватых фуксий, ни гвоздик, тоскующих по родным гималайским склонам! Мои бордюры – кайма вышитой салфетки; весной ее украшают колокольчики и примулы, летом – розы и лаванда. Здесь я поставила беседку, увитую глициниями. В этом тихом уголке правит безмятежность. Негодование спит, а сожаление давно поросло жимолостью, мхом и крошечными цветами, синие глазки которых похожи на звезды. Как же они называются? Незабудки. Вот и хорошо. Мы не забудем.
Урожденная Изабел Кук, старшая из четырех дочерей портного, я появилась на свет в городке Х. Самое раннее из моих воспоминаний – перезвон колоколов, который обрушивался на меня каскадом, пробуждая ото сна. Звонили на колокольне большой церкви возле нашего дома, и лет до пяти или шести я думала, будто церковь эта принадлежит нам, колокола звонят для нас одних, а каждое воскресенье прихожане собираются, чтобы воздать нам почести. Мы ютились в двух комнатках обветшалого строения, но любовались самыми великолепными картинами. Из нашего переулка видны были лишь ворота да шпили дома Господня, и когда по воскресным дням, умытые и чисто одетые, мы наносили визит его хозяину, он отворял для нас двери, и нам открывался величественный вид на вересковую пустошь, холмы и поля до самого Касл-Хилла. Сырой переулок служил нам местом игр (в городке нашем дни проходили в неустанных трудах, и забав было мало, разве что церковные песнопения да популярное тогда совершенно дикое развлечение – травля быка собаками), но мы не ограничивали себя его пределами и бродили вдоль канала с огромными баржами, что перевозили пассажиров и грузы в далекие края, собирали на берегу дикие цветы и ежевику. Я делила постель со своими сестрами, и не будь у меня под боком столько родственной плоти, несомненно, горевала бы, оттого что ложе мое не так уютно и покойно. Рядом дремали родители, и мы не мучились страхами по ночам, не пугались даже призрачных фигур, по которым отец кроил одежду, а те наблюдали сверху за нами, спящими. Вторая комната служила мастерской, столовой и кухней, использовалась она и для всех прочих семейных нужд. Вы, возможно, решили, что в доме царил полнейший хаос, но все содержалось в порядке. Одежда наша висела на гвоздях. У каждого было две смены платья и белья; пока одна смена стиралась, мы носили другую, и от этого правила не отступали. Излишков у нас не было, а потому не было и беспорядка. По утрам после завтрака мы выстраивались в очередь, чтобы вымыть чашки и тарелки. Стол вытирали, и отец раскраивал на нем ткань, а матушка сшивала куски. Мама всегда работала в паре с отцом, сметывала и шила, пока он кроил. Мы, дети, помогали по мере сил, но родители трудились и по ночам, когда мы спали.
Городок наш славился своими шерстяными тканями, богатые господа приезжали сюда издалека: из Манчестера, даже из Лондона, – чтобы заказать себе платье и хвастать потом метками самых известных наших портных. Увы, слишком много закройщиков соперничало в битве за заказчиков, и отцу моему, далекому от процветания, приходилось биться за кусок хлеба. Мы были бедны, но я воображала, будто богаты, и все еще думаю, что так и было. Вскормленные любовью, мы могли благоденствовать, довольствуясь малым. Позже я поняла, и даже сейчас мысль об этом причиняет мне боль, что жизнь моих родителей, в особенности матери, вовсе не была легкой и сладостной. Помню, мама часто ходила с красными глазами: не от слез, ибо жалость к себе была ей незнакома, но от долгой кропотливой работы при тусклом свете. Жизнь ее была тяжелой, но она с готовностью поступалась собственными устремлениями и замыслами ради семьи. Мне вспомнилось, как однажды мы посетили один богатый дом. Перед нашей матерью поставили тарелку с мясом, и моя маленькая сестренка сказала: «Мама не ест ничего, кроме хлеба с маслом». Родители многим пожертвовали, чтобы мы могли пойти в школу, и величайшим удовольствием для меня было читать им вслух, когда они работали, поскольку оба едва умели читать и писать.
Отец часто говорил, что всякий раз, когда почувствуем, что судьба обошлась с нами жестоко, следует подумать о тех, кому приходится куда хуже, чем нам, и возблагодарить Господа. Для него великое благословение – его ремесло, любил повторять отец, ибо Господь тоже был портным, а наши жизни – костюмы, которые он сшил для каждого из детей своих. Я вспоминаю, как скользила его рука в изношенном рукаве, направляя ножницы, и шелковая ткань под их лезвиями издавала вкрадчивый нежный звук, похожий на кошачье фырканье, когда он произносил эти слова.
«Помните, жизнь, что в мире земном видится вам несчастной и полной тягот, может оказаться исполненной величия и благодати в мире небесном. Когда внезапное несчастье приносит вам страдание, думайте о нем как о жемчужине, пришитой к подолу вашего платья». Часто, затаив обиду или разбив коленку, я сидела, разглядывала подол своего простого платьица, украшала его еще одной жемчужиной и воображала себя великолепной принцессой, самой прекрасной на свете. Выросшая в такой семье, я верила, что миром правит добро, и не ведала страха перед жизнью.
Обладай мы правом выбирать себе место в семейной иерархии, я предпочла бы свое собственное. Старшая из дочерей счастлива вдвойне, будучи второй матерью для младших своих сестер и младшей сестрой для матери, но картину эту портило одно темное пятно – убежденность, что без нее никак не обойтись, а отсюда и нежелание покидать дом. Но все же понятно было, что со временем мне придется работать и зарабатывать себе на хлеб, и я, как ни любила отчий дом, с радостью предвкушала ту пору, когда откроются передо мной неизведанные дали.
В четырнадцать лет я оставила школу и провела два счастливых года, помогая матери управляться с детьми и с шитьем. В то время мы находили невинное удовольствие, обсуждая мои виды на будущее и предаваясь пылким фантазиям, словно возможности мои были поистине безграничны. В действительности же они были довольно скудны: мне предстояло выбрать один из трех путей – работать дома с отцом, устроиться на фабрику или пойти в услужение. Мне показалось невероятной удачей, когда по воле случая я получила место няни и гувернантки. Подобную работу обыкновенно предлагают образованным девушкам из среднего сословия, но мне помогла получить это место школьная учительница, искренне ко мне привязанная.
Так я и поступила на службу в семью Корнхилл. Моим заботам поручили двоих детей шести и семи лет. Усадьба находилась более чем в пятидесяти милях от нас, но мне понравилось ее название: Хаппен-Хит, Случайная Пустошь. Я тотчас мысленно назвала ее Счастливой Пустошью [1]. В словах этих мне чудились необъятные просторы, овеянные ветрами, где все дышит чистотой и невинностью. Если мне суждено было покинуть дом, я не нашла бы другого места, название которого показалось бы мне столь сладкозвучным. И все же в день расставания я испытала жгучую боль. На почтовую станцию меня провожали всей семьей. Опечаленные, мы не в силах были говорить, дети плакали. Отец скроил для меня два серых платья, в которых я чувствовала себя совсем взрослой, что помогло мне обуздать и радостное волнение перед началом новой, зрелой жизни, и глубокую грусть от разлуки с семьей.
Вообразите, если вам угодно, молодую особу, которая никогда не выезжала за пределы своего городка и не провела ни дня вдали от тех, кто дал ей жизнь, зажатой между незнакомцами в открытом экипаже в сгущающихся сумерках. Скоро родные окрестности остались позади: казалось, унеслись прочь, словно вылетевшие из-под колес камешки. Дождь и ветер растрепали мне волосы, тщательно подкрученные локоны развились и повисли мокрыми прядями. Незнакомые деревушки появлялись и исчезали, неведомые попутчики выходили и подсаживались. Должно быть, до взрослой женщины мне еще далеко, думала я, пугливо прячась от чужих взглядов и гадая, как быть, если никто меня не встретит. Признаюсь, я позволила милосердной тени скрыть несколько пролитых слезинок.
К своему великому облегчению, на станции я увидела джентльмена, который держал дощечку с моим именем, а возле него нетерпеливо приплясывали двое детей. Я с должным почтением приветствовала мистера Корнхилла, но джентльмен сообщил, что он всего лишь кучер, Том. В экипаже дети шепотом назвали свои имена – Дороти и Фредди – и тотчас забросали меня вопросами. Не могу передать, как утешила меня болтовня этих милых созданий.
Карета въехала в устрашающего вида ворота. По-деревенски ясная молодая луна разгоняла темноту. Кроны деревьев мягко рассеивали ее свет, пока лошадь одолевала крутой подъем: мне еще не приходилось слышать, что бывают такие длинные подъездные дороги. Дальше путь шел по ровной местности. Послышался стремительный шум, плеск, и я выглянула из окна: мы выехали на мост. Внизу под нами, прекрасная в лунном свете, бежала река. Впереди виднелся дом, в девяти его высоких окнах отражались луна и деревья. Усадьба показалась мне дворцом, и, неловко выбираясь из экипажа, я думала только о своих мокрых волосах, невзрачной одежде и скудном багаже. Мы поднялись на крыльцо, где стояли вазы с зелеными растениями, широкие ветви которых походили на веера, а пол, сложенный из черных и белых мраморных плит, напоминал шахматную доску, оттуда прошли в холл, как мне представилось, величиной с особняк. Здесь ярко горел камин. Только представьте себе! Камин в холле! По бледно-серым стенам тянулись лепные гирлянды фруктов и цветов, раскрашенные так искусно, что выглядели совсем как настоящие. Впереди была лестница, до того широкая, что по ней, взявшись за руки, свободно могли бы пройти все мои сестры вместе со мной. Пораженная этим невиданным зрелищем, я застыла на месте и не заметила появления хозяев.
– Дорогая Айза, добро пожаловать, – услышала я нежный, как летний дождь, голос.
Вид моего нового сказочного обиталища поразил меня необычайно, но не успела я опомниться, как новое зрелище совершенно меня заворожило. Хоть и полноватая, Алишия Корнхилл обладала какой-то особой утонченностью, фарфоровой хрупкостью черт: во всем ее облике, от бледно-розовых щек до алебастровых пальцев, сквозило изящество. Она была одета к ужину в платье из розового шелка и сама казалась распустившимся цветком, прелестной пышной розой.
– Бедное дитя, вы насквозь промокли. – Щека ее почти коснулась моей щеки. – Обогрейтесь у огня или, если хотите, пойдите переоденьтесь.
– У меня нет нарядного платья для ужина, – со стыдом призналась я.
Она окинула меня взглядом, значение которого я не смогла распознать, но тотчас на лице ее заиграла улыбка.
– Пусть подобные мелочи вас не тревожат. Мы постараемся устроить вас как можно лучше. Вам понравился ваш новый дом?
– О, очень! – воскликнула я убежденно, прибавив, что и не мечтала оказаться в таком чудесном месте; призналась, что великолепие этого дома немного пугает, но заверила, что постараюсь воспользоваться предоставленной мне счастливой возможностью.
Раздалось несколько хлопков – аплодировал молодой человек рядом с миссис Корнхилл.
– Хорошо сказано, мисс Кук. Как видно, вы знаете свое место в обществе, а значит, непременно добьетесь успеха.
– Надеюсь на это, – ответила я, хотя тон юноши меня смутил, в нем слышалась насмешка.
– Не обращайте внимания на Финча, – произнесла миссис Корнхилл. – Он студент и невероятно высокомерный.
Теперь я повнимательнее рассмотрела студента. То был высокий юноша на год или два старше меня, с бледным лицом, на котором явно читалась брезгливость, а суровые черные брови и непокорные волосы лишь усиливали это впечатление. Его выходку я сочла ребяческой и с радостью дала бы ему понять, что в моих глазах он самый ничтожный из всего клана. Даже шумный отец семейства с усами и густыми бакенбардами взял на себя труд приветствовать меня. Эта счастливая, благополучная и состоятельная семья, каких я еще не встречала, совершенно меня очаровала, исключение составил лишь один из них.
И этот единственный, не дожидаясь приглашения, подхватил меня под руку и повел в гостиную, поинтересовавшись по дороге:
– Вы воображаете, что подходите для такой работы?
– Надеюсь, смогу быть полезной.
– Берегитесь, мисс Кук! Возможно, полезность вовсе не то качество, что здесь требуется. Дети богачей непохожи на других детей. Их следует возносить над толпой, чего бы то ни стоило, а если понадобится, даже идти по головам.
– Дети, неважно, богаты или бедны, и так вознесены над толпой, поэтому нет нужды попирать чьи-то головы. Мы должны лишь следовать чувству нравственного долга – этому учили меня родители.
Я попыталась сдержать гневную дрожь в голосе, высвободила руку и вошла в комнату с обтянутыми голубым шелком стенами, идеально сочетавшимися с лазурным потолком, украшенным лепными изображениями птиц во всем их райском многообразии.
К счастью, Финч не собирался задерживаться в усадьбе. Он жил на съемной квартире в университете и лишь изредка приезжал домой, да и то лишь в конце недели. От его дальнейших нападок меня спасла миссис Корнхилл. Эта большая кукла опустилась на обитое бледно-желтым дамастом канапе и жестом столь женственным, что он казался почти кокетливым, указала мне на соседнее кресло. Промокшая и растрепанная, я испытывала неловкость, мне вовсе не хотелось располагаться с удобствами. Миссис Корнхилл предусмотрительно выбрала для меня более подходящее место и с трогательной заботой попросила всех остальных удалиться, объяснив, что мы, женщины, чувствуем себя куда свободнее, когда остаемся одни.
Какое-то время она молчала и только с явным удовольствием рассматривала меня. Я почувствовала, что страх мой понемногу проходит. О чем я думала в эти тихие мгновения? Размышляла ли о несправедливости жизни, которая одних одаривает столь щедро, а других – таких, как мои трудолюбивые родители, – столь скудно? Нет, я уже полюбила свою хозяйку и ее близких, мысли мои были заняты другим. Я надеялась, что она, возможно, вскоре оценит мои скромные заслуги и позволит взять одно из ее старых платьев, которое поможет мне лучше соответствовать своему новому окружению.
– Как вам понравились дети, мисс Кук? – осведомилась миссис Корнхилл.
Я ответила, что хорошо поладила со своими подопечными и мы вроде бы нашли общий язык. Леди вздохнула с облегчением, а я вслед за ней, точно эхо, перевела дыхание. Затем она спросила, способна ли я вынести тихую уединенную жизнь. Я вообразила, как (одетая в другой наряд) сижу в этой красивой комнате и занимаюсь рукоделием; представила себе приятные обеды в изысканном обществе… Да, такая жизнь мне по вкусу, о чем я и сообщила своей хозяйке.
– Вот и хорошо, – одобрительно заметила миссис Корнхилл. – Очень хорошо. Уверена, мы с вами станем добрыми друзьями. – Она наклонилась ближе и призналась: – Увы, мне не хватает терпения с малютками: у меня слишком чувствительные нервы, а потому вам придется находиться при них постоянно. Есть вы будете с ними, а спускаться вниз, только когда вас вызовут или попросят об этом. Словом, – улыбнулась она лучезарно, – вам предстоит стать незримым ангелом.
– Да, мэм.
Откровения леди Корнхилл несколько охладили мой восторг, и я подумала, когда же будет ужин: после долгого путешествия ужасно хотелось есть.
– А теперь, мисс Кук, можете идти. Накормите детей, позаботьтесь, чтобы они прочли молитвы на ночь и уложите в постель. После этого я пришлю вам чего-нибудь перекусить. Думаю, вы устали и слишком взволнованы, чтобы испытывать сильный голод.
– Да, мэм, – отозвалась я с интонацией обреченного.
– Наверное, вам будет одиноко в первый вечер здесь, – смягчилась миссис Корнхилл. – Полагаю, как дочь портного, вы достаточно сносно шьете. Я пришлю вам несколько вещей, которые надобно починить. Работа немного отвлечет вас от грустных мыслей о доме.
Все это миссис Корнхилл проговорила с сияющей улыбкой, словно сообщала радостное известие. Мои маленькие подопечные потянули меня за собой наверх, в детскую. До их обиталища нам пришлось преодолеть несколько этажей, и уже в детской я обнаружила, что, возможно, в бедных семьях с детьми обходятся лучше, чем в богатых. В противоположность роскошным покоям внизу, здесь было тесно, неуютно: камин едва тлел, разрозненная мебель поражала убогостью. Я испытывала жалость к этим смышленым малышам, изгнанным из комнат родителей и лишенным их общества, но мне пришлось сдержать себя, чтобы не похитить несколько неаппетитных кусочков с их тарелок. Позже принесли ужин и мне: скудный и остывший, но я слишком устала и расстроилась, чтобы уделить ему внимание. Пообещав Господу, что завтра утром приободрюсь и тотчас возьмусь чинить вещи миссис Корнхилл, я легла в свою холодную постель.
В усадьбе Хаппен-Хит, что гордо вздымалась над окрестными холмами, обращенная к солнцу, словно символ покоя и процветания, втайне от многочисленных ее посетителей под самой крышей завелась мышь в образе девушки шестнадцати лет, которая предвкушала величайшее в своей жизни приключение и обнаружила, что ее удел вовсе не жить.
До моего гнезда наверху доносилось царившее в доме радостное оживление. Подъезжали и отъезжали экипажи. Слышалась музыка, по дому витали изысканные ароматы яств, которых я никогда не пробовала, поскольку ела то же, что и дети. Во время званых вечеров дом сиял огнями бесчисленных свечей и наполнялся нарядными гостями. Как чудесно было бы полюбоваться на них, но я никогда не видела их вблизи. Мне удавалось лишь украдкой бросить взгляд поверх перил на самом верху лестницы, тем и приходилось довольствоваться. Оттуда я пыталась уловить обрывки их разговоров. Я не бывала в обществе взрослых. Семья обитала в других сферах. Прислуга считала, что мое положение выше их, хозяева видели во мне существо низшее, и я, зажатая, словно в сандвиче, правилами общественного уклада, задыхалась и жухла, как вялый салатный лист. Ни один взрослый не заговаривал со мной, разве что однажды, когда я вышла в сад, чтобы немного пройтись в одиночестве. Очень скоро, правда, явилась слегка запыхавшаяся миссис Корнхилл, объявила, что совесть замучит ее, если она позволит мне скучать в праздности, и поручила заняться шитьем, посадкой растений и прополкой сорняков.
Хоть я и выполнила все поручения, хозяйку мою, похоже, немало раздосадовало, что все сделано было слишком быстро. Стоило ей застать меня за чтением или заметить, что я вышла подышать воздухом, как она немедленно находила для меня новую работу. На меня обрушивались горы постельного белья и платьев для починки. И так уж случилось, что по вечерам, уставшая, я так сильно тосковала по дому, что заливалась слезами у себя в каморке.
Я сказала, что лишена была общества взрослых, но это не совсем так. Мое одиночество временами нарушало появление мистера Финча Корнхилла. Хотя, похоже, старший сын в семействе питал ко мне неприязнь, нельзя сказать, чтобы он меня не замечал. Когда мы случайно попадались друг другу на глаза, я ловила не себе его цепкий взгляд, который, казалось, искал малейшую слабость, чтобы безжалостно ее высмеять. Как-то раз он задержал меня, чтобы спросить, как мне живется.
– Очень хорошо, – солгала я, поскольку молодой мистер Корнхилл не вызывал во мне желания откровенничать.
– Вы меня удивили, – заметил он. – Должно быть, я вас переоценил.
– Наверное, вы хотели сказать, что недооценили? – ледяным тоном возразила я.
Уголок его рта дрогнул в мрачной усмешке.
– Я сказал именно то, что хотел сказать.
Леди Корнхилл на все лады неустанно превозносила молодого человека, и это лишь усугубляло положение. Но я искренне привязалась к детям, чьи юные души еще не успел отравить снобизм их родителей, и была рада возможности привить этим милым малышам ценности, усвоенные мною в своей семье.
Примерно через полгода после моего приезда я, как обычно, сидела в детской со своими воспитанниками. Полутемная тесная коморка чуждалась лета, хотя скупые лучи солнца пробивались сквозь узкие окна, и тем самым напоминали о времени года и вызывали во мне смешанное чувство горечи и восторга. Я прочитала вслух отрывок из «Роукби», одной из моих любимейших поэм сэра Вальтера Скотта, и спросила детей, поняли ли они его смысл. Ответом было мертвое молчание. Фредди зевнул, а Дороти бросила на меня укоризненный взгляд (любую попытку расшевелить мысль в ее прелестной головке она считала незаслуженным оскорблением). И я вдруг подумала, что обречена провести лучшую пору жизни в заточении, словно рабыня, вынужденная сдерживать свой разум и силы, подавлять всякое чувство и желание. День за днем суждено мне сидеть прикованной к этому стулу в четырех голых стенах, пока ослепительное летнее солнце сияет в небе, провозглашая на исходе каждого дня, что потерянное время мне уже не вернуть. Глубоко задетая, я велела детям выучить стихи наизусть, затем выскользнула из спальни и сбежала по лестнице в сад.
Роса в парке еще не высохла. Кроны деревьев окутывали землю тенью словно мантией. Река пронизывала ее серебряной стрелой. Я нашла себе укрытие в густых зарослях папоротников, где тишину нарушало лишь жужжание крылатых насекомых.
Внезапно послышался и другой звук: шум голосов. Взглянув в ту сторону, я убедилась, что принадлежат они миссис Корнхилл и ее старшему сыну, и отступила за надежную завесу листвы. Мать с сыном прогуливались недалеко от меня.
– Но почему она все время проводит взаперти? – спросил молодой мистер Корнхилл. – Какое преступление она совершила?
«Кто же эта преступница?» – подумала я.
Миссис Корнхилл поспешила ответить:
– Мисс Кук выполняет работу, за которую ей платят. Она не член семьи.
– Но она и не мать маленьким сорванцам, – возразил сын, – однако ей всегда приходится делить с ними стол. И я хочу знать почему.
Мисс Корнхилл пожаловалась, что ее первенец чересчур надоедлив.
– Между нами и мисс Кук огромная разница.
– Я ее не вижу! – отрезал сын. – Вы боитесь, что она станет петь непристойные песни за столом или пить чай из блюдца?
– Она из рабочего сословия. – Миссис Корнхилл понизила голос до нежного воркования. – Ей надлежит заботиться лишь о долге перед Господом и собственной семьей, нам же – о долге перед обществом.
– А поскольку общество состоит из семей и Господа, мне представляется, что разницы нет никакой, – не согласился молодой человек. – Между тем всякому ясно, как велика разница между умной молодой женщиной и двумя малышами, с которыми она проводит сутки напролет. Уверен: она с удовольствием приняла бы участие во взрослых разговорах, а я был бы счастлив увидеть нового собеседника за нашим столом.
Разговор ненадолго прервался, и послышался шелест шелковых юбок миссис Корнхилл.
– Ты считаешь себя великодушным, но не движет ли тобой нечто другое? Может, просто хорошенькое личико вскружило тебе голову? Я не заметила, чтобы ты так же заботился о мисс Хаббард, когда та была в доме. Возможно, дело в том, что ей было за сорок и на подбородке у нее росли волосы?
– Тогда я был ребенком, а детям надлежит слушаться родителей. Теперь же я мужчина и должен следовать своим убеждениям, хотя охотно признаю, что мисс Кук приятная особа.
– Когда станешь главой собственной семьи, – произнесла миссис Корнхилл ледяным тоном, – то волен будешь ниспровергать правила общественного уклада, хоть я и молюсь, чтобы ты нашел себе жену, которая сумеет тебя вразумить.
– Вам придется попросить мисс Кук присоединиться к нам за завтраком в воскресенье. – Манера обращения молодого человека не уступала в заносчивости тону его матери. – Вряд ли столь мизерная уступка опрокинет общественный уклад.
Об этой беседе никогда не упоминали, и это немало меня удивило, но довольно скоро миссис Корнхилл сказала, что дети уже достаточно подросли, чтобы обедать с родителями по воскресным дням, и мне можно сидеть за столом вместе с ними.
Я полагала, что Корнхиллы ничем не хуже большинства представителей их сословия. Они верили, что высокое положение в обществе и принадлежность к избранному кругу ниспосланы им Господом из благоразумного расчета. Людей неимущих они считали всего лишь рабочим скотом, чье единственное назначение – служить на пользу хозяевам. Во всех других отношениях беднота не заслуживала их внимания. Меня же, в свою очередь, учили не судить господ, но видеть в них порождение системы общественного устройства: людей, что живут в собственном мире и не знают другого. Однако Финч Корнхилл стал представляться мне человеком иного склада. После долгих месяцев одиночества у меня будто отнялся язык, и в воскресенье я не решилась принять участие в разговоре, но с удовольствием слушала, как молодой мистер Корнхилл рассуждает о незнакомых мне сторонах жизни, к которым его родители не проявляли ни малейшего интереса.
Он говорил о детском труде на фабриках и копях и о тех несчастных, кого продают в рабство в колониях. Когда он описывал этих отверженных, дети слушали как зачарованные, оскорбленная миссис Корнхилл пришла в негодование, а ее усатый супруг, казалось, немало смутился, оттого что обычный разговор за обедом принял вдруг столь неожиданное направление. Мне же хотелось рукоплескать. «Браво!» – вскричала я мысленно. В этой обители самодовольства завелся бунтарь.
После обеда, к великому неудовольствию своей матери, Финч Корнхилл пригласил меня прогуляться по саду.
– Айза должна заниматься детьми, – предупредила миссис Корнхилл.
– Непременно, – пообещал сын. – Я так редко вижусь с младшими братом и сестрой, так что они будут нас сопровождать, заменят дуэний.
Дети, проникшись важностью новой роли, держались на удивление тихо и робко.
– Я должен перед вами извиниться, – произнес молодой человек. – Простите, если показался грубым.
– Мистер Корнхилл, вы не показались мне грубым, а вели себя грубо. В том скромном кругу общества, к которому принадлежу я, обращение, подобное вашему, считается неучтивым.
Он остановился и окинул меня испытующим удивленным взглядом.
– Если мне, как вы заметили, недостает вежливости, то вам, возможно, не хватает скромности.
Однако открытие это, похоже, скорее обрадовало его, нежели рассердило.
– Вы бы хотели, чтобы я смиренно преклонила колени и присела в реверансе, сэр? – произнесла я, с усмешкой подчеркнув последнее слово.
– Очень хотел бы, – отозвался он с неожиданным смешком. – Ведь тогда я смог бы смотреть на вас сверху вниз. Вы слишком высокая, чтобы быть смиренной и чтобы мужчина мог восхищенно любоваться вами, занимая самое выгодное положение.
– Странная у вас манера показывать свое восхищение, – заметила я.
– Свои колкости я приберегаю для матери, а не для вас. Увы, несмотря на фарфоровое личико, кожа у нее толстая, как у носорога.
Теперь, когда больше не боялась Финча Корнхилла и разгадала характер его матери, я смогла рассмеяться, и наградой мне была одна из его редких, но очаровательных улыбок.
– Однако должен признаться, – добавил он серьезно, – я испытывал вас. Мне казалось, что такая красивая девушка непременно должна быть тщеславной и пустой, но я рад, что ошибся. К счастью, вас больше интересует окружающий мир, нежели свое отражение в зеркале, у вас живой острый ум, вы тонко чувствующая натура. Полагаю, это я должен вам поклониться. – Что он и не преминул сделать, вызвав дружный взрыв смеха у детей, а потом, выпрямившись, спросил: – Теперь мы можем быть друзьями?
– Я не слишком высоко ценю заверения в дружбе, – сказала я в ответ. – О дружбе судят не по словам, а по делам. Посмотрим, что из этого выйдет.
– Тогда, может, мы начнем с того, что станем обращаться друг к другу как друзья? Вы должны звать меня по имени – Финч.
– О, это нарушит вековой общественный уклад, – возразила я.
– Вот и хорошо. Давайте сломаем его! Мы с вами объявим войну притворству и высокомерию.
Довольно скоро я прониклась уважением к старшему сыну семейства, чья приверженность высоким идеалам вызывала тревогу и недоумение у тех, кто воспитывал его, желая видеть в нем свое подобие; к юноше, чьи скупые улыбки и редкие вспышки веселья напоминали сияние солнца в холодном суровом краю. Я каждый раз с нетерпением ждала следующего воскресного обеда. Как-то раз после подобной семейной трапезы молодой Корнхилл улучил минуту, чтобы сказать мне несколько слов наедине:
– Меня беспокоит, что вам здесь очень одиноко.
– Уже не так, как раньше: теперь я живу в ожидании воскресенья, – возразила я.
– Меня огорчает, что вам приходится тратить все свое время на двух избалованных недорослей, чтобы заработать себе на жизнь.
– Ну, это не самая скверная компания, – улыбнулась я.
Он рассмеялся:
– Но можно было бы найти и получше. Я слишком редко бываю здесь, чтобы помочь вам, но мне кажется, есть способ оставить вас в приятном обществе.
С этими словами он сунул мне в руки связку книг. Я перевернула ее, чтобы взглянуть на корешки переплетов и увидеть имена тех, кому предстояло разделить со мной заключение: Байрон [2], Кэмпбелл [3], Вордсворт [4]. Должно быть, люди доблестные, подумалось мне. Тогда я не представляла себе, какая дружба завяжется в тишине комнаты, какие путешествия мы совершим, какие философские загадки разгадаем, каким романтическим фантазиям будем предаваться.
Так началось для меня истинное образование, а с ним и более близкое знакомство с моим благодетелем. Его тонкий ум я оценила, прочитав Босуэлла [5], Юма [6] и Мура [7]. В его сердце заглянула благодаря Шекспиру, Мильтону [8] и Поупу [9], но прямой путь к нему мне указала записка от Финча, обнаруженная мною однажды между страницами томика Голдсмита [10]: «Я завидую этому гению, ибо знаю, как он вам понравится». С немалой дерзостью я вернула книгу, вложив в нее собственное послание: «Отправитель мне нравится даже больше, ибо вместе с плодами гения он посылает мне и сердечную доброту».
С тех пор записка вкладывалась в каждую новую книгу. Моя блеклая, пустая жизнь наполнилась радостью дружбы, не хватало лишь этого драгоценного дара, явленного во плоти. Странно, но приятно было вскоре обнаружить, что я скучаю по серьезному молодому человеку почти так же, как по родителям. Жизнь моя проходила в борьбе за существование, о романтической любви я не помышляла, а будущее свое видела лишь в полезных трудах и заботах, но в тех редких случаях, когда мы с Финчем стояли близко друг к другу, в душе моей поднималась буря самых противоречивых чувств. В его обществе я испытывала слабость, но вместе с тем наша с ним духовная связь придавала мне невероятную силу. Мне казалось, что рядом с таким человеком я могла бы употребить все усилия, чтобы изменить этот мир к лучшему. В нем не было и тени притворства или глупости. Я знала, что он не стал бы тратить на меня время, будь я ему безразлична.
Однажды я с удивлением нашла в его посылке с книгами Библию. Финч не мог не знать, что мне хорошо знакомо ее содержание. Раскрыв книгу, я обнаружила новое признание. Священное Писание Финч сопроводил несколькими строками, написанными от руки: «На этой священной книге я клянусь, что вся моя любовь принадлежит лишь вам одной, и так будет всегда». Нет нужды описывать чувства, которые я испытала. Те, кто изведал счастье разделенной любви, вспомнят и свет, озаряющий самые потаенные уголки души, и величайшее смятение, что почти вытесняет изумление, и мечты о добродетелях и достоинствах, которые служат опорой новым поколениям. Что же до тех, кто еще не сподобился благословения Божия и не познал этой великой радости, я не стану принижать ее в их глазах своим описанием. Я лишь желаю им испытать ее в действительности, и как можно скорее. Да, я почувствовала радость, и еще облегчение, и благодарность, но вскоре овладела собой и вернулась к работе. Ни в восторженных восхвалениях, ни в слезливых заверениях в любви я не нуждалась. Финч предложил мне самого себя, ни больше ни меньше. А поскольку сердцем моим он уже завладел, я не видела препятствий к тому, чтобы мы соединились навеки.
О как бесхитростна и наивна юность! Моему возлюбленному едва исполнилось восемнадцать. Он не мог рассчитывать на достаточный доход, пока не достигнет двадцати одного года. Финч предостерег меня (без всякой на то надобности), что родители его никогда не одобрят наш союз. В своих честолюбивых помыслах они желали для сына брака, который принес бы ему и высокое положение в обществе, и денежную выгоду. Они скорее предпочли бы видеть старшего сына мертвым, нежели женатым на дочери бедного портного.
Финч поклялся сделать все возможное, чтобы помешать осуществлению матримониальных планов матери, пока он не обретет независимость. А до тех пор мы условились не говорить о своих чувствах и по возможности не обнаруживать их, чтобы не возбудить подозрений. Однако полностью скрыть радость, что поселилась в моей душе и помогла выдержать множество испытаний в этом доме, среди людей легковесных и пустых, было невозможно. Мы даже находили удовольствие, храня свой секрет во время церемонных встреч, только раз в месяц, не чаще, позволяли себе «случайно» столкнуться. И тогда в наших разговорах о книгах или иных предметах прорывалась страсть, однако источником ее была страсть другая, тайная, которой мы никогда не показывали.