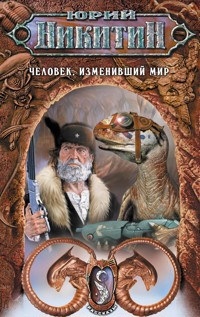Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Никитин
- Sprache: Russisch
Кто-то попадает с корабля на бал, а кто-то, наоборот, прямо из-за пиршественного стола идет в последний, смертный бой. Древний бог напророчил Добрыне скорую гибель, и богатырю пришлось прямо с княжеского пира отправиться в поход, чтобы найти славную смерть на поле брани, как и подобает настоящему воину...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Юрий Никитин Главный бой
Предисловие
В мире три вершины легендаристики. Двор короля Артура, монастырь Шао-Линь и двор князя Владимира. Двор короля Артура прославился рыцарями Круглого стола, монастырь – странствующими монахами-бойцами, а князь, оставшийся в былинах как Красно Солнышко, известен пирами, на которые сходились семьдесят «сильномогучих богатырей» и сотни богатырей попроще.
Но если о короле Артуре выходили и выходят постоянно романы, фильмы, комиксы, а монастырь растиражирован в полусотне фильмов, то киевскому двору не повезло. О нем писали и пели в древние времена, однако… современный читатель России лучше знаком с циклом о короле Артуре, с легкостью опишет внешность орков, троллей, эльфов, гномов, но тупо смолчит, когда спросят о лешем или песиглавце.
Клич я бросил в 1996-м, в первом издании «Княжеского пира», но никто из пишущих не откликнулся, что и понятно, однако пару лет спустя несколько молодых талантливых ребят, чьи сердца «для чести живы…», взялись за перо, то бишь сели за клаву компа. И надо сказать, получилось!
Вышло что-то около десятка романов.
А теперь вкратце правила для авторов, буде кто восхочет принять участие.
1. К участию допускаются все – и маститые, и начинающие, без ограничения по полу, возрасту, национальности, политическим и религиозным убеждениям, кривизне ног и форме ушей.
2. Пожалуй, самое важное правило: не навреди другим авторам, не навреди самой серии.
3. Участник проекта должен написать роман объемом не менее 110 тысяч слов. Больше – пожалуйста, меньше – нет. Примите как данное. Если нужны по-дробные объяснения, см. пункт последний. Романом называется произведение в малограмотной европейской традиции, то есть без разделения на повесть и собственно роман.
4. Исходной точкой повествования является двор князя Владимира до принятия христианства. Двор представлен в былинной традиции – с богатырями и прочими сказочными персонажами.
5. Исходным миром является тот, что описан в романе «Княжеский пир». Это не означает, что действие должно происходить только при дворе, – достаточно завязки или другого соприкосновения.
6. Рекомендовано включение в виде эпизодических лиц героев других романов цикла. Допустимо использование в качестве главных героев эпизодических героев Никитина (без его согласия) и других авторов (по согласованию – кроме тех случаев, когда автор объявляет своих героев в общее пользование). В любом случае недопустимо убивать или калечить чужих героев и, само собой, унижать их достоинство.
7. Настоятельно рекомендуется предварительно прочесть книги предыдущих авторов (основоположника серии – обязательно!), дабы избегнуть досадных недоразумений. Ведь там уже дана внешность основных героев, декорации теремов, с какой стороны терема крыльцо, а с какой – коновязь и пр.
8. Образы – героические.
9. Сюжеты – героические.
10. В отношении серии действует правило богов: ведь писатели – тоже творцы. Даже с прописной – Творцы. То есть сделанное одним богом другой бог отменить не вправе. Если, к примеру, Афина ослепила Тересия, то сочувствующий ему Аполлон не волен вернуть зрение, зато в его воле было наделить даром прорицания и ясновидения.
11. Действие так же происходит в пределах Киевской Руси (за очень редким исключением переносясь, в случае необходимости, в тридевятые страны), при этом «заграница» – в русской сказочно-былинной традиции. Доля «чужеземья» определена в 5 процентов. Здесь, помню, был вопль со стороны жулья: хотелось больше. А в идеале – чтоб вообще русским духом и не пахло. Как же, о западных или восточных землях им писать куда приятнее! Патриоты, мать их… Кстати, что-то я не читал романов о короле Артуре, где его рыцари шастают хотя бы по Европе, не говоря уже о Японии, Руси, Атлантиде…
12. А это правило не относится к самой серии, но из-за ряда случаев стоит напомнить: первым и самым строгим редактором себе должен быть сам автор. Никакие веские причины не являются оправданием, чтобы принести рукопись невычитанную, невычищенную, сырую. Редактор не будет переписывать чужую рукопись, а автор не сможет бегать за каждым купившим его книгу и объяснять, что вот этот момент нужно понимать вот так-то, а здесь нужно представить себе вот это. Роман должен быть готовым к печати!
13. Не знаю, надо ли это писать, но все-таки роман должен быть написан еще и добротно. Конечно, уже слышу возражение: как, по заказу да еще и хорошо? Много хотите… Да, вы правы. Хотим много.
14. Роман должен быть написан «специально в серию», а не адаптирован из чего-то, что в других издательствах поперли в шею… То есть обязательны все реалии серии, а герой обязательно должен побывать при дворе князя Владимира, встретиться с другими героями, в том числе и героями других авторов.
15. В доме повешенного не говорят о веревке, то есть запрещена любая пропаганда христианства, как и контрпропаганда. Только славянский красочный языческий мир, его обычаи. Никаких христианских проповедников, миссионеров. Как и других религий, понятно.
16. Недопустимо использование явно чужеродных сказочных элементов, не встречающихся в русских сказках и былинах, – троллей, баньши и т. д.
17. Запрещена откровенная эротика (порнография), как чуждая тому суровому миру (или нашему представлению о нем).
18. Запрещены снижение образов, пародирование. Среди недоумков это все еще кажется особым шиком: изобразить Суворова придурком, Авдотью Рязаночку – шлюхой, рассказать, что Чайковский и Достоевский были геями и т. д. То есть снизить их до своего уровня и своего окружения. Как бы сравняться с ними и тем самым самому стать таким же великим. Увы, это наш характер: самим карабкаться трудно, проще других к себе в грязь…
19. Запрещено брать в качестве основных героев главных героев других авторов. Что понятно, верно? Ведь автор, может, сам в этот момент сочетает его узами священного брака, а у вас вдруг да заметят с другой женщиной. А обмен второстепенными героями или заимствование как раз приветствуется. Многие авторы делают эти перекрестные ссылки друг на друга, в эпизодах используя чужих героев. Тем самым серия скрепляется дополнительно. Разумеется, все это с уведомлением и согласованием друг с другом.
20. Естественно, запрещено убивать, калечить или как-то менять характеры героев других авторов. Кроме понятного авторского права, важна целесообразность: могут возникать нелепицы и несостыковки.
21. Для некоторой корректировки рекомендуется почаще вспоминать блестящий двор короля Артура с его рыцарями Круглого стола, а также монастырь Шао-Линь. Двор князя Владимира – это третья точка легендаристики на мировой карте. И большинство из того, что недопустимо при дворе короля Артура или в монастыре Шао-Линь, так же недопустимо и при дворе князя Владимира.
22. Возможно, кто-то сумеет найти лазейку в этих правилах. У нас страна такая! Боролись втихую с советской властью, боремся с налогами, так что подобная борьба с запретами и ограничениями уже в крови. С любыми – нужными и ненужными. Формально роман может соответствовать перечисленным пунктам, но – всего не предусмотришь! – это может быть такое …
Что ж, правила здесь для того, чтобы помочь. Найденная лазейка протолкнуть в печать роман не поможет.
1001-е, последнее. При малейших неясностях проще всего посоветоваться с остальными авторами. Их адреса и емэйлы на http: nikitin.wm.ru. Да и сами не вылезают из корчмы, что там же на сайте, из-за чего многие в персонажах. Там же ведется постоянная дискуссия и обмен мнениями по «Княжескому пиру». Так что добро пожаловать, там объяснят все, дадут любую консультацию, настучат по голове, вытрут нос, похлопают по плечу, снова по голове…
Примечание: не принимаются ссылки на первую книгу «Княжеского пира», которая и дала название серии. Мол, а вот у Никитина тоже!.. Эта книга вышла в 1996-м, когда серия только начала выступать из тумана. Правила, которые позволят держать серию цельной, оформлялись позже. Да и вообще, следующее издание во избежание этих вопросов придется привести в соответствие с современными требованиями. Это проще, чем объяснять снова и снова.
Итак, добро пожаловать на пир.
Юрий Никитин
Глава 1
Сильные мужские голоса грянули походную песню. В окна Золотой Палаты врывались трепещущие солнечные лучи, странно переплетаясь с багровым огнем факелов. Густой возбуждающий запах смолы, жареного мяса, кислого вина – за длинными столами шумно пировали, поднимались с кубками и кричали сорванными охрипшими голосами здравицы крупные мужчины. У многих лица и обнаженные руки были в шрамах, голоса звучали сильно и уверенно, а когда грянули песнь, на столе зазвенела посуда.
Слуги не успевали менять залитые дорогим вином скатерти. Массивные столы гнулись под тяжестью золотой посуды: с того дня, как дружина возроптала, что ест простыми ложками из серебра, князь поспешно заменил все серебро золотом. Слуги пыхтели, красные и потные, бегом разносили блюда с жареными лебедями, олениной, запеченной в соке ежевики медвежатиной, расставляли кувшины с вином, а самым знатным подливали в золотые кубки густое темно-красное вино.
Воздух был жаркий, густой, пропитанный запахами жареного мяса, лесной смолы, воска, крепким мужским потом героев, богатырей и воевод Киевской Руси.
В разгар пира в широком дверном проеме возник чистый серебристый свет. Доспехи неизвестного сверкали ясно, а едва он сделал шаг, железо вспыхнуло как жар. Заходящее солнце подсветило со спины, металл на плечах загорелся пурпуром, словно в горне кузнеца. Блещущий шлем на сгибе локтя правой руки тоже сыпал искрами, густые волосы как расплавленное золото тяжело опускались на плечи. Разнесенные в стороны рамена едва не застряли в проходе, а выпуклые мышцы груди больше походили на сглаженные морскими волнами каменные плиты, чем на грудь человека, даже богатыря.
Он сурово и пристально оглядывал зал синими как небо глазами. Чисто выбритая нижняя челюсть вызывающе выступала вперед. Подбородок тяжелый, массивный, слегка раздвоенный, но даже ямочка похожа на след от удара топора. Да и все лицо вырублено тяжелым рубилом каменотеса: резкое, угловатое, словно из обломков скалы. Высокие скулы гордо вздернуты, а синие глаза смотрят прицельно, как орел на стадо куропаток.
Да, он смотрел ровно и спокойно, но даже в неподвижности чувствовалась тугая, грохочущая мощь горной лавины. Голоса в пиршественной палате начали умолкать.
Кто-то завопил радостно:
– Добрыня! Сам Добрыня!
По всей палате разговоры затихали, поднимались головы. Витязь в сверкающих доспехах сделал шаг, слегка повернулся. Багровый свет пал на его мужественное лицо. Стало заметно, что не молод, далеко не молод, но полон звериной силы, что дается иным щедро и остается до последних дней жизни. И по тому, как стоит, видно, что и здесь непроизвольно готов отбиваться как спереди, так и с боков, отражать удары сверху, а буде кто выпрыгнет из подпола, пинком отправит обратно с проломленной головой.
И только теперь все увидели побитые пластины на плечах, посеченный шлем, погнутости на колонтарной пластине, вмятины на укрывшем широкую грудь железе. Витязь вскинул руку, заприметив обращенные к нему взгляды, улыбнулся, и словно молния сверкнула на темном от солнца лице: белые как сахар зубы, крупные и ровные, как вспышка осветили палату.
За столом поднялась огромная фигура в простой белой рубашке. На Добрыню взглянула страшная медвежья морда. Белоян, верховный волхв, приняв себе медвежью морду, дабы заниматься только ведовством, не отвлекаясь на баб, как был богатырем среди людей, так и медведем стал таким, что лесные братья показались бы рядом медвежатами.
Он высился над пирующими, широкий, массивный, тяжелый, как скала. Оглядел из-под выступающих надбровных дуг, похожих на каменные плиты, в палате разговоры сразу начали стихать, проговорил сильным голосом, в котором ясно слышался медвежий рев:
– Убрать кружки!.. Убрать чаши! Убрать кубки!.. Наполнить чары. С дальних и опасных кордонов вернулся благородный витязь Добрыня, который никогда не пятнал чести и воинской славы. Так восславим же!
Слуги, как торопливые мыши, сновали по палате. Узкогорлые кубки сменили широкими золотыми чарами, тут же наполнили вином. Белоян проследил, чтобы налили всем, ловко подхватил свою чару, слегка плеснул вином на грудь, жертва родителям-богам, крикнул могуче:
– Гей-но!
Сотня могучих мужских голосов грянула с такой силой, что терем затрясло, а с дальних деревьев с криком снялась стая галок.
Суровая древняя песня-заклинание, пришедшая, как говорили волхвы, от Первых, что сами были богами, гремела мощно, колдовски. Добрыня ощутил знакомый озноб, по коже всегда пробегали эти невидимые мурашки, и всякий раз в тело вливалась добавочная мощь, и он чувствовал, что снова готов нестись на лихом коне, рубить день и ночь, прыгать с высоких башен, и алою кровью своею…
Во главе стола на той стороне палаты стоял с поднятой чарой великий князь. Губы шевелились, но далеко, голоса Добрыня не слышал, хотя в разгар битвы князь мог перекричать сто тысяч ржущих коней. В простой белой рубашке с расстегнутым воротом, видна черная, как у зверя, волосатая грудь, небрежная улыбка на хищном лице, что в любой миг может превратиться в звериный оскал.
Когда он в нетерпении переступил с ноги на ногу, по чисто выбритому черепу побежали багровые, как при пожаре, сполохи. Черный чуб по-змеиному скользнул за ухо, тонкий конец заколыхался над плечом. В мочке левого уха зло блеснула золотая серьга с крупным багровым рубином, похожим на горящий уголек.
Он пел, но в то же время наблюдал с холодным любопытством. Добрыня уловил напряжение князя. Рядом с Владимиром обычно шумно пируют богатыри, возвышенные до ранга воевод, но сейчас и они застыли, смотрят кто с восторгом, кто с плохо скрытым недоброжелательством.
А Владимир в самом деле, услышав заздравную песнь героям, ощутил, как по телу пробежала дрожь, вытряхивая дурманящий хмель. Песня закончилась мощным выкриком, Добрыня уже двигается в его сторону между столами, отвечает на приветствия, широко и дружелюбно улыбается, витязь от пят до кончиков ушей. Почти вполовину старше, мелькнуло с некоторым раздраженным удивлением. Ну, пусть не вдвое, но все же он был мальчишкой, когда Добрыню уже приняли в дружинники. А потом их судьба и дальше была похожа: он сын рабыни Малуши, а Добрыня брат той же Малуши, значит – дядя по матери. Правда, потом, когда стал великим князем, чувство глубокой приязни к Добрыне, который учил его воинским наукам и защищал от детей боярских, боролось с постоянно подогреваемым боярами подозрением: древлянский выкормыш мечтает отомстить за своего плененного княгиней Ольгой отца Мала. Спит и грезит, как восстановить царство древлянское, где княжеская корона принадлежит ему…
– Добрыня, – сказал он, вставая и распахивая руки. – Добрыня!
Они обнялись, оба с некоторой настороженностью: каждому наговаривают на другого, оба пока держатся, но кто знает, когда яд начнет действовать на другого, – в себе-то каждый уверен.
– Владимир, – ответил Добрыня, смотря князю прямо в глаза. – Что-нибудь изменилось?
Владимир усмехнулся краешком рта. Лицо неприятно искривилось, но взгляд выдержал, хотя на мгновение в глубине глаз дрогнуло. На чисто выбритой коже Добрыни, темной от нещадного солнца дальних застав, белеют черточки старых шрамов, но вот добавился свежий: левая бровь разделена белым шрамом, а еще багровый след чужого железа на скуле…
– Только фалернское кончилось, – насмешливо сообщил князь. – Но ты, как помню, не любитель хмельного.
– Да, – ответил Добрыня замедленно, он все еще смотрел князю в глаза, – мне ключевая вода больше по нраву.
– Я знаю, – сказал Владимир с принужденным смехом. – Хотя и в винах разбираешься, как ромейский поставщик императорского дворца!
– Что делать, – ответил Добрыня, – мне приходилось бывать с красной ложью в Царьграде.
Владимир взглянул остро, выискивая намек на сложные дипломатические задания, которые тот успешно выполнял в столице столиц, но лицо Добрыни было неподвижно, сказал и сказал, хотя в глазах заметна странная тревога…
– Ладно, – сказал Владимир примирительно, – сядь, попируй малость… А то скажут, что гнушаешься князем. Здесь кто только не смотрит, где что не так лежит! И от ромеев лазутчики, и от готов, и вообще всякие разные. Известно же, что кто сегодня не пьет, тот завтра родину продаст…
Добрыня с некоторой напряженностью опустился на стул с высокой резной спинкой. По всей палате возобновился шум и гам, громче зазвенела посуда, застучали ножи и ложки, замелькали руки с сочными ломтями горячего мяса, пошли с подносов на стол расписные кувшины.
Перед витязем поставили золотой кубок, украшенный изумрудами. Сам Владимир, выказывая особое расположение, наполнил доверху красным как пожар вином, терпким даже по запаху. Добрыня внимательно рассматривал пирующих. Знакомых лиц мало. Самые именитые герои, судя по всему, на дальних заставах богатырских…
Но и здесь хватает тех, о силе которых с восторгом и завистью рассказывают по вечерам. Он увидел и страшного в рукопашном бою Зарея Красного; и великана Кышатича, который берет на плечи коня с дружинником в полном вооружении и так бежит наравне с быстроногим княжеским скороходом; коварного хана Улана, который сегодня с князем, а завтра с такими же честными глазами бьется супротив его дружины, и всегда прав: князь-де нарушил такой-то договор; славного витязя Слегу Загорного, знатного великими победами над темным народом гелонов; старейшего из богатырей Корневича, который изгонял за море первых варягов, потом изгонял Рюрика, затем сам же и приглашал его после долгой смуты; воеводу над всей легкой конницей – Сухмата; могучего Микулу; и совсем редкого гостя на княжеском пиру – Велигоя Волчий Дух…
Напротив Добрыни хлестал дорогое вино, как простой кумыс, огромный детина с раскосыми глазами и высокими скулами. Черные как смоль и прямые, будто конская грива, волосы, толстые, как кабанья щетина, падают на широченные плечи. Тяжелые веки поднимаются изредка, и тогда глаза блистают остро и злобно. Дюсен, единственный сын заклятого врага Киевской Руси хана Жужубуна, был взят в заложники с малых лет, вырос и возмужал при киевском дворе, но часто говорит во хмелю, что мечтает вырваться из города и вернуться в родные степи, откуда страшно отомстит Киеву.
Но не видать побратимов – Михайла Потыка и Ильи Муромца, только Алеша Попович вон по ту сторону стола, нет Залешанина, о котором ходят слухи, что только у него на поясе нож из небесного железа, что, как лист лопуха, прорежет княжескую кольчугу, не видать огромного вятичского витязя Валуна, который в полном вооружении и с тяжелым топором в руках перепрыгивает через трех оседланных коней. Пусто место грохочущего смехом Шерстобита, который в западных землях на турнире выбил из седла двенадцать рыцарей, не сменив коня и не поломав копья, которое ему подарил однажды сам великий князь. Зато на месте погибшего старого гиганта Корнедуба скромно сидит и почтительно слушает старших молодой и отважный Ратьгой, уже успевший показать и силу, и сноровку, и воинскую выучку.
Сквозь стук кубков и веселые крики он услышал вблизи звонкий, задорный голос:
– …А за ними живут рароги из рода радегастов, что значит – сыны моря. Нет рарогам равных в набегах на берега, силы они небывалой! Один такой удалец бросается на целое войско, ревет и крушит все подряд, а когда нет врага, от ярости грызет края щита. Если проткнуть насквозь хоть десятью копьями, все одно – бросается на врага, бьет и крушит, убивает людей как кур, ведь каждый рарог силы немереной… а когда падает и умирает, то не от ран, а от изнеможения…
Добрыня увидел, что многие, слушающие Алешу Поповича, поглядывают в его сторону. Кивнул, добавил ровным мерным голосом:
– Да, крепкие воины. Жаль, коней боятся, никто ни в жисть верхом не сядет. Да и никогда еще рароги, как и всякие там мурманы, не бились корабль на корабль в открытом море. Всегда, повстречавшись, плывут оба к мелководью, а там уже выпрыгивают и, по колено в воде, кидаются друг на друга. Так что наши ушкуйники всегда берут верх, если встречают вдали от берега…
Алеша нахмурился: только что слушали с раскрытыми ртами, а теперь все внимание Добрыне, повысил голос:
– А еще мы прошли через земли бодричей – вот уж скажу, вояки знатные! Все, как один, будто капли воды: знать, от одного отца, а еще говорят – от брата с сестрой, огромные и плечистые, к лесу привычные. Когда бодрич идет по лесу, трава под ним не гнется, но медведя убивает кулаком, лешего рвет пополам. Ни один враг не смеет зайти к ним в лес, сразу смерть находит…
– Крепкие воины, – добавил Добрыня. – Непобедимые, неуязвимые. Силу от своих вековых дубов получают! Но как только выйдут из леса, их даже петух бьет. А что такое подсечное земледелие, знаете? То-то и оно. Жгут леса, наступают пашнями. Эти герои уходят в леса все глубже… Точнее, отступают.
Алеша нахмурился, улыбка стала уязвленной, повысил голос и заговорил в сторону слушающих его с открытыми ртами:
– А еще я трижды встречал удивительный народ – урюпинцев…
Кто-то переспросил недоверчиво:
– Трижды за этот раз?
– То-то и оно, – поклялся Алеша. – Конь у меня знаете какой? Скачем выше леса стоячего, ниже облака ходячего! Сегодня я в снегах бьюсь с удивительными снежными людьми, а завтра уже сражаю чудо-юдо лева в жарких песках под деревьями, где листья веником! Но всякий раз встречал урюпинцев. Ахал, а они так невинно: так мы ж кочующее племя… Едем себе потихоньку, землю для проживания выбираем. Ничего себе «потихоньку», говорю, а как же тогда, если понесетесь вскачь? А мы не спешим, отвечают…
Добрыня улыбнулся:
– Богами сказано, что та земля, где они остановятся, будет счастливой. Вот и выбирают уже несколько тысяч лет.
– Тыщи лет? – ахнул кто-то. – Это ж сколько?
– Спроси у Белояна, – отмахнулся Добрыня.
– А еще я встретил по дороге к Жар-птице, – повысил голос Алеша, – дивные народы песиголовцев, меклегов, аримаспов, лютичей… Вообще скажу, что никто из живущих на белом свете не сравнится с лютичами в стрельбе из лука. Разве что аримаспы? Но те вообще не люди, а из людей никто не может бить птицу за двести шагов…
Богатыри загалдели, как гуси на базаре. Один сказал глубокомысленно:
– Коневич может. Да и ты тоже с луком в руках родился.
Добрыня подтвердил:
– Попович сможет. Он бьет за двести шагов перепелку без промаха. Правда, у аримаспов всяк бьет на двести шагов птицу в полете, а Лешак один из всей дружины! А лучшие из аримаспов так и вовсе… Может, они и на тыщу шагов стрелой достанут? Никто не ведает.
– Коневич ведает, – снова сказал тот же богатырь. – Он с аримаспами год прожил!
Его сосед недовольно возразил:
– Ну, про Коневича говорить не след. Он сам, может быть, не человек.
– Не человек?
– Ну, не совсем человек. А у нас про людев речь, морда ты неумытая!
– Ах, это у меня неумытая?!
Добрыня поставил кубок, князь не смотрит в его сторону, все галдят, и каждый старается перекричать другого, как можно незаметнее поднялся и вышел из палаты. За дверью ощутил толчок, на пол с дребезгом посыпалась посуда. Жареные гуси раскатились по выскобленным добела половицам. Ополоумевший от спешки слуга быстро подобрал жаркое, уложил в прежнем порядке и метнулся в палату.
Со второго поверха необъятный княжий двор как на ладони. Народу всегда как муравьев на дохлой жабе. Столы под открытым небом, смачно парует жареное мясо, желтеет мед, слуги то и дело подкатывают бочки с пивом. Ближе к воротам исполинский дуб укрывает тенью половину двора, смотреть боязно на ствол в пять обхватов, весь в трещинах, наплывах и наростах, а узловатые ветви переплелись как надежная крыша. Этот дуб, по преданию, посадил сам Вандал, дед или прадед Славена, от которого и пошел род славов. Славы, самый неуживчивый народ на свете, постоянно разбредались по окрестным землям, везде основывая свои племена. Иные стали зваться по местам, где жили: древляне, поляне, дряговичи, другие по именам их прародителей: от Вятко пошли вятичи, от Радима – радимичи, но еще больше тех, которые непонятно почему так зовутся, и стало уже славянских племен как капель в море, песчинок в реке, и с каждым днем они все множатся.
Если княжеский пир одновременно и военный совет, то пир на подворье тоже не просто пьянка. Степенно обсуждаются нравы соседей, договариваются породниться семьями, торгуются, уговариваются вместе собраться в набег на соседей. Из раскрытых поварен валят клубы пара, несет запахами жареного мяса и рыбы. Все смешивается с ароматами горящего железа – в кузнице трудятся день и ночь, подковывая коней, выправляя сбрую, перековывая мечи и оттягивая концы плотницких топоров, что делает их боевыми.
Три огромных котла выставлены на двор, там же на исполинских вертелах поворачиваются над жаркими углями туши молодых быков. Между столами оставлено место для тех, кому не терпится подраться, такой же утоптанный ток издавна отведен и перед теремом, чтобы и князь с его богатырями мог поглядеть сверху на силу и удаль простого люда, и если кому повезет, попадет в княжью дружину.
Глава 2
Он вздрогнул, по спине пробежали мурашки. Чувство опасности стало таким сильным, что рука невольно метнулась к ножу на поясе. Огляделся, но вокруг пусто, только со двора доносилась пьяная песня, а из Золотой Палаты стал слышнее гул голосов.
Прямо из стены выступила огромная фигура с медвежьей головой, но телом массивного дородного воеводы. На человеке слегка колыхалось белое одеяние, а маленькие глазки смотрели пристально.
– Вижу, – проговорил он настолько тяжелым густым голосом, что скорее ревом, – шкурой меня почуял…
– Почуял, – буркнул Добрыня. – Будь здоров, Белоян. Только в другой раз не подкрадывайся как тать. Зарублю.
Верховный волхв поманил за собой. В коридоре огляделся, внезапно толкнул неприметную дверь. Добрыня поспешно шагнул за ним через порог. Дверь захлопнулась, тяжелая, без зазоров. Далекие крики гуляк отрезало как ножом.
Маленькая комнатка, узкое окошко, стол и две широкие дубовые лавки. Белоян кивнул, сел напротив. Острые медвежьи глаза смотрели цепко, в них горели недобрые огоньки.
– Говори, – потребовал он.
– О чем?
Добрыня сел, спина прямая, лицо надменное, а челюсть выдвинул так, что даже у волхва, несмотря на миролюбие, зачесался кулак от жажды двинуть в зубы. Он остался стоять, но Добрыня и сидя ухитрялся смотреть сверху вниз, высокомерно и покровительственно.
Белоян покачал головой:
– Ты можешь сколько угодно рассказывать, что устал в дороге. Но я вижу в твоих глазах печаль и тревогу. Что-то случилось?
– Да так… Ничего серьезного.
– Говори!
– Белоян, – ответил Добрыня с неудовольствием, – это мелочь… Не настолько уж я и встревожился. Просто на днях явился мне один черт… Или демон, хотя сам он назвался богом. Сказал, что из старых богов, которых мы позабыли. И что терпение его лопнуло. Требует жертв и признания своей власти.
Говорил он легко, беспечно, улыбался красиво и мужественно, но Белоян следил за лицом богатыря, хмурился.
– Что он восхотел?
– Всего лишь коня в жертву.
– Твоего?
Добрыня покачал головой:
– Я тоже его спросил. Он сказал, что ему все равно, чей конь, лишь бы конь был боевым, а не рабочей лошадью, что таскает плуг.
Наступило молчание, Белоян спросил после паузы:
– Жертва не велика. Почему ты отказался?
– Уже знаешь, что отказался?
– Достаточно знать тебя.
Добрыня откинулся к стене. Широкая спина уперлась в толстые надежные бревна. Красивое мужественное лицо напряглось, под кожей вздулись рифленые желваки.
– А что бы ответил ты?
Белоян развел руками:
– Ну, я – другое дело. Я волхв…
– А я, – ответил Добрыня надменно, – человек. И не могу склонять голову перед… – Он запнулся.
Белоян спросил с нажимом:
– Перед кем?.. Или – чем?
– Я могу, – ответил Добрыня тише, – склонять голову перед справедливостью, перед чужой правдой. Но не склонюсь перед силой! Этот бог… кто бы ни был, не попросил меня принести ему жертву. Я знаю, боги без жертв чахнут и мрут. Он потребовал! – Он снова умолк.
Белоян спросил быстро:
– Ну-ну! Самое важное!
– Он сказал, – выдавил Добрыня с неохотой, – что если я не принесу ему эту жертву, то через двенадцать дней в моем доме будет пожар. – Он умолк.
Белоян неотрывно смотрел в темное, как грозовое небо, лицо витязя.
– Ну, пожаром тебя не испугать. Что сказал еще?
– Что в огне погибнет мой отец.
Белоян после паузы спросил осторожно:
– Это когда было?
– Десять дней тому.
– Значит, через два дня?
Добрыня сказал угрюмо:
– Думаю, послезавтра. Но вряд ли наши боги допустят, чтобы появился какой-то чужак, начал требовать себе жертвенники, капища.
Белоян после паузы проговорил, морщась:
– Наши боги… знаешь ли, чересчур терпимы. Им бы поесть да поспать. А просыпаются, когда враг уж совсем на горле. Счастье еще, что силы неимоверной!.. Но и беда. При такой силище слишком благодушны. Уверились, что никто одолеть не сумеет. Вот и проводят время в пирах да веселии, как наш князь.
Добрыня нахмурился:
– Владимира не замай. Сам знаешь, для него это не пиры.
– Знаю, – согласился Белоян, – так, к слову… Его имя только ленивый не треплет. Знаешь, ты хоть и отверг того бога, но на всякий случай за домом проследи. В Киеве что ни день, то пожар! В такую жару да сушь от малой лучинки весь город сгорит!.. Как уже не раз сгорал. Дотла сгорал. Какой он с виду?
По быстрому ответу Белоян понял, что облик чужого бога все еще стоит перед глазами отважного витязя.
– Похож на большую толстую ящерицу, однако ростом с барана, покрыт каменной чешуей. На спине гребень, как у стерляди. Вид такой, словно в земле пролежал века… Зеленый, мох по всему телу… Ростом, как уже сказал, мне по пряжку пояса. Но в плечах широк… С виду не так уж и силен… Прости, я о своем! Морда широка, но это ж ящерица… Но что дивно, на плечах шкура тарпана. Я таких не видел!
Белоян поморщился:
– Подробнее.
– Чересчур простенько для бога. Как если бы срезал сам. Еще на нем простой ремень. Из невыделанной кожи!
Медвежья морда казалась неподвижной, но Добрыня видел, как под мохнатой кожей ходят широкие бугры мышц, а на широком лбу пытаются собраться морщинки. Когда Добрыня умолк, Белоян проронил тяжело:
– Что из невыделанной – понятно… Это только кажется, что мы родились со всем умением на свете. А боги – не люди, к новому привыкают медленнее. Может быть, у него самый первый на свете пояс? Потому и простой, что бог из древних, потому и в шкуре дикого коня… Но осталась ли в нем хоть капля мощи? Вряд ли…
Добрыня оживился, перевел дух, даже лицо порозовело. Сказал уже громче:
– Вот и я сразу подумал. Перуну по всей Старой Руси, Новой и двум окраинным жертвы возносят, а теперь еще и в Киевской Руси столбы поставили, молодых телят и пленников режут! Кто с ним сравнится по мощи? Разве что Велес, ему еще и молодых девок топят по весне, а осенью младенцев закапывают, чтобы урожай дал… Я так понимаю, что бог, которому не дают жертв, разве что может?
– Правильно понимаешь, – одобрил Белоян. – Правильно.
– Просто пугает, верно?
– Просто пугает, – повторил Белоян.
Пожаром неведомый бог пригрозил на послезавтра, но уже с ночи напротив дома Добрыни начали прогуливаться крепкие мужики. Добрыня узнал гридней из личной охраны князя. Белоян придерживается старой мудрости: на бога надейся, но к берегу греби. Пугает или нет чужой бог, но на всякий случай пусть погуляют парни на людной улице. Пусть даже на день раньше. На случай, если Добрыня дни перепутал, чужой бог ошибся в днях или вообще… так, на всякий случай.
Милена, все такая же добрая и ласковая, не возгордившаяся, что ее муж – самый знатный витязь на всей Руси, за его отсутствие малость раздобрела, но лицом оставалась такая же светлая, глаза ясные, а голос звучал приветливо.
Сейчас она быстро собрала на стол, поклонилась свекру, стукнула по лбу ложкой племянника, маленького Бора, что норовил первым зачерпнуть горячей разваристой каши.
Когда-то семья была побольше, но мать Добрыни прибрали боги, как и двух детей, что померли во младенчестве, так что за огромный стол сейчас усаживались вчетвером. Сам глава рода – Мал, его единственный сын Добрыня, невестка Милена и маленький Бор, сын рано умершей сестры Милены, его звали просто Борькой.
После короткого благодарственного слова богам обед проходил в молчании. Слышался только стук ложек, довольно покряхтывал отец, каша удалась, по всей комнате шли волны мясного духа и разваристой гречневой каши. Когда-то князь крупного племени древлян, а по меркам западных земель – король, Мал много воевал, ходил в походы, огнем и кровью объединил три десятка племен в единое целое, но потерпел поражение в схватке с Киевом, где утвердились пришельцы с севера. Был схвачен, увезен в полон. Казнить княгиня Ольга не решилась: у древлян тут же появится новый князь, все начинай сначала, а так законный князь древлян у нее под замком. Двух детей, Малушу и Добрыню, держала в Киеве под надзором. Малушу выдала замуж за сына Святослава, расчет прост: ее внуки уже и по древлянским законам могут претендовать на власть над все еще непокорными племенами. Добрыню держала вместе с челядью, где он вскоре начал выделяться силой и удалью, стал отроком. Его взяли в младшие дружинники, а через год уже перешел в старшие богатыри.
Мал, сломленный растущей мощью Киева, переживал поражение болезненно, но затем как-то охляп, затих, в его глазах уже не было прежнего огня. Все еще громадный, похожий больше на скалу, чем на человека, за последние годы плена оброс лишней плотью, двигался медленно. Грохочущий голос стал тише, а длинные седые волосы, пышно падавшие на спину и плечи, заметно поредели и теперь едва ли защитили бы от ударов сабли. Да и стали тоньше, почти человеческие, а раньше были как у кабана щетина! Конский волос и то тоньше. Теперь Мал чаще проводил время в беседах с волхвами о небесных знамениях, чем вспоминал победные сражения с такими же лесными племенами.
Добрыня с детства видел красочный мир Киева, вырос на берегу великой реки, постоянно зрел иноземных купцов, заморских гостей, слышал чужую речь. Ему давали подержать драгоценные мечи, узорные ткани, а когда однажды взяли как отрока в дальнюю поездку за данью в одно из лесных племен, со страхом и удивлением, что перешли в горечь, увидел, что на самом деле мир его отца и дедов маловат и скуден.
Святославу часто нашептывали на молодого богатыря: мол, волчонок отомстит за пленение родителей и разор царства, которое его царство, но Святослав отмахивался: не дурак Добрыня, хоть и силен. Здесь он уже получил больше своим умом и отвагой, чем если бы сидел лесным царьком в глуши…
Пленного князя Мала насильно окрестили, греческий священник при княгине Ольге нарек его Никитой и долго внушал, что отныне он раб не только великой княгини, но и божий и что сам бог велит во всем повиноваться своим господам, не перечить, а буде те врежут по правой щеке, тут же подставлять левую. Мал хмуро молчал, он знал, что княгиня Ольга, приняв чужую веру, должна именоваться Еленой, так ее переназвали чужаки в черных одеяниях, но и другие ее зовут по-прежнему Ольгой, и сама себя так кличет. А левую щеку никому не подставит.
Милена собрала пустые миски. Добрыня указал глазами на Бора, она тут же ухватила мальчонку за руку:
– Пойдем со мной, поможешь мыть посуду.
– Не хочу… Я посижу послушаю!
– Борька, не упрямься, – сказала она строже. – Это же так интересно!
– Что? – удивился малыш. – Мыть посуду?
– Миски были грязные, – объяснила она, – а начинают блестеть!
– Мужчины посуду не моют, – ответил он гордо.
– Расти быстрее, – засмеялась Милена, – вот и станешь мужчиной. А пока годишься только мыть посуду. Пойдем, не упрямься.
Когда за ними захлопнулась дверь, Добрыня повернулся к отцу. В горле стоял ком, он все сглатывал, но тот лишь опустился ниже, передавил дыхание, остался распирать болезненно грудь.
– Отец, – сказал он тихо, – мне надо совет с тобой держать. Как скажешь, так и поступим.
Мал сцепил пальцы, столешница дрогнула под тяжестью его огромных жилистых рук. Глаза прятались под тяжелыми, набрякшими, как тучи, веками. Добрыня вслед за отцом положил руки на стол, застыл.
– Говори, – пророкотал Мал. – Что бы ни случилось, ты мой сын.
– Отец, – повторил Добрыня. – Двенадцать дней тому мне явился древний демон. Не наш и не славянский. Белоян сказал, что и не росский. Вообще каких-то неведомых народов, чьи кости выкапываем, когда роем колодцы. Он потребовал в жертву коня. И пригрозил, что если откажусь, то у меня сгорит дом, а в пожаре погибнешь ты.
Мал молчал, ждал. Добрыня тоже молчал, в комнате застыла тяжелая, напряженная тишина. Наконец Мал проговорил неспешным рокочущим голосом, далеким от старческого:
– Я не понял, о каком совете речь?
– Отец…
Он смешался, внезапно ощутив, что из непонятной трусости переложил тяжесть решения на отцовские плечи. Начал подыскивать слова, сейчас бы попятиться, однако Мал уже сжал и разжал огромные кулаки со старчески вздутыми суставами, пророкотал неспешно:
– Что за молодежь пошла? Вот в наше время… Сын мой, разве мы когда торговали честью? Ты и сейчас служишь не князю, а земле нашей. Если суждено погибнуть в огне, то так тому и быть. Конечно, лучше бы от меча… Но и то хорошо, что не в постели. Пусть в постели мрут бабы. Я ответил тебе, сын мой?
Добрыня обошел стол, обнял отца. Совсем недавно ему чудилось в таких случаях, что обнимает разогретую на солнце скалу, руки коротки обхватить отцовские плечи, но теперь то ли руки вытянулись, то ли отцовские плечи усохли, прижал отцовскую голову к груди.
За окном простучали копыта, звонко пропел петух. Слышно было, как проехала телега с несмазанными колесами. Мал отодвинул сына-богатыря, хлопнул по плечам:
– У героев, сын мой, иные дороги, чем у пахарей.
– Знаю, отец… Но это когда своя жизнь на кону!
– Да, – кивнул отец, – чужой распоряжаться труднее. Если не сам дрянь, конечно.
– Ни в жизнь не стал бы князем, – вырвалось у Добрыни. – Даже воеводой не хочу! Сколько посылал на смерть, а не привыкну…
За полночь лег в теплую постель, уже согретую Миленой, обнял ее мягкое тело, но мысли блуждали далеко, а взор шарил по потолочным балкам. Она посопела рядом, ее голова умостилась у него на плече. Пальцы ласково пощекотали ему живот, вскоре он услышал ее тихое сопение. Набегавшись за день, она заснула как ребенок, тихо и счастливо.
Он не стал высвобождать руку, так и лежал, пока, наконец, веки не стали тяжелее свинцовых глыб, а вместо закопченных бревен увидел небо и скачущих там коней.
Глава 3
На заставах привык ночевать у костра, спать на голой земле, на камнях, на песке, на дереве, на снегу, а когда попадал в этот огромный двухповерховый домище, раскинувшийся крыльями на полдвора, морщился в недоумении: неужто это принадлежит ему?
Уже не раб, а знатный боярин, а боярину и терем боярский. Сегодня с утра долго и с недоумением бродил по многочисленным светлицам, горницам, палатам, опускался в глубокие подвалы, где рядами висят копченые туши, окорока, связки колбас. Зашел и в винный подвал: бочки с вином до самого потолка, нигде ни факела, ни светильника, кроме того, что в руке. Когда поднялся в светлицу жены, сурово велел загасить купленные за большие деньги у ромеев нежно пахнущие свечи.
– День яснее не бывает, – сказал он сурово, – куда твоим свечам супротив солнышка!
– Да я так, – ответила жена виновато. – Пахнут больно сладко.
– Погаси, – велел он.
– Как велишь, – сказала она испуганно.
– И не зажигай сегодня вовсе. Поняла? Завтра можно, сегодня нельзя. Пройди по терему, проверь еще. Чтоб ни факела, ни светильника. Увидишь у кого кремень и кресало – отбери!
– Да-да, – согласилась она поспешно, – день ясный, солнце во все окна… И так глазам больно! Неча зря транжирить.
– Вот-вот. Скажи, если надо, насчет бережливости.
– Как скажешь!
Двор он осмотрел тщательнее, чем по дороге на заставу осматривал подозрительные овраги и балки. В кузнице велел загасить горн, а повара и стряпух отправил в село проведать престарелых родителей.
К вечеру, когда солнце опускалось к виднокраю, ноги подкашивались, словно он трое суток бежал без воды и еды в полном доспехе, с мечом и щитом. Тягостное ощущение заставляло вздрагивать, с огромным трудом держал спину прямой, а плечи гордо развернутыми. Огромный багровый диск сползает по красному небосклону, как яичный желток по раскаленной сковороде, ветерок утих, наступает вечер…
Терем и весь двор, как в болото, погрузились в тянущую тишину, а тут неуместно громко по ту сторону забора послышался звонкий перестук копыт. Чей-то конь промчался в сторону ворот. Послышался требовательный стук. Добрыня открыл сам, во двор въехал, гордо подбоченясь, на высоком тонконогом коне Векша, молодой и верткий гридень князя, услужливый и подловатый.
Конь встал на дыбки, послушный, чуткий, звонко заржал. Копыта красиво потоптали воздух, а гридень бросил свысока:
– Что-то не торопишься перед княжеским человеком открывать ворота, Добрыня!
– За воротами не видно, – буркнул Добрыня.
– Чуять должен, – сказал Векша еще громче. Голос стал угрожающим. – Перед князем что-то скрываешь?
– Ты пока еще не князь, – отрезал Добрыня недружелюбно. – Что надобно?
– Князь Владимир изволит… – сказал гридень значительно. – А ежели великий князь изволит, то что ты супротив?.. Так, не человек даже…
На крыше аист поджал ногу, застыл, разогретый за жаркий день, теперь уже спит в тишине. Оранжевая солома на крыше хлева блестит, как расплавленное червонное золото, глазам смотреть больно. В окне терема на миг мелькнуло цветное платье жены. Во дворе все тихо, труба не дымится, все заснуло до утра.
– Так что же изволит князь?
– Великий князь, – сказал Векша угрожающе.
– Что изволит великий князь? – спросил Добрыня.
– Вот так-то лучше, – сказал Векша снисходительно. – Кто сегодня умаляет княжеское имя, завтра Русь продаст!
Добрыня стиснул зубы. Это не застава богатырская, а Киев, где всякая дрянь не только выживает, но и пристраивается. Всяк падок на лесть, а князь тоже человек. Подхалимы оттирают защитников земли сперва от княжеского стола, потом и с подворья.
– Ну-ну, – сказал он сдавленно, – ты тоже забыл, с кем разговариваешь, тварь.
Векша дернулся, конь под ним раньше ощутил злость огромного человека, пугливо попятился. Белесые шрамы на лице сурового хозяина терема сперва побелели, а потом стали страшно багровыми, вздулись, как растолстевшие сороконожки. Векша спохватился, не всяк склоняется перед княжеским гриднем! Иной сразу на дыбки, таких имя князя не пугает, прут на рожон, их не понять, от таких надо подальше…
– Ну, – сказал он поспешно, – князь не сказал…
Рука Добрыни метнулась вперед, словно стрела, что сорвалась с тетивы. Ногу Векши дернуло, он ощутил, что летит по воздуху. В спину грохнуло, в хребет больно ударила твердая как камень земля. В следующее мгновение огромная и крепкая, как ствол дуба, рука воздела Векшу. Расширенные глаза гридня оказались на уровне лица богатыря. Но Добрыня на земле, даже ноги расставил в стойке кулачного бойца, а подошвы гридня скребли по воздуху.
– Гм, – сказал Добрыня со зловещим спокойствием, – удавить тебя, что ли?..
– Добрыня… – прохрипел полузадушенный Векша. – Я княжеский гридень!
– Ага, значит, гридень… – сказал Добрыня задумчиво. – За смерда полгривны виры… за гридня – гривна, а за княжеского – полторы… Плевать, не в деньгах счастье, верно? У меня эти гривны складывать некуда. Подвал завален, надо тратить!
Векша завизжал. Сильные пальцы стянули кольчугу на груди в ком, все тело сжало, как лягушку в мешке. Глаза Добрыни вперились в его лицо с такой силой, что у Векши из обеих ноздрей потекли тонкие красные струйки. Он заплакал, с ужасом ощутив, что хотя за спиной блистает имя грозного князя, но все же его, княжеского гридня, можно удавить как червяка, заплатить за такое удавление небольшую виру и забыть…
Добрыня повел носом, с удивлением взглянул на землю. Из сапог вестника текла желтая вонючая струйка. Векша плакал навзрыд, маленький и жалкий. В следующее мгновение он полетел в эту лужу, а Добрыня мощно и страшно свистнул.
С грохотом, будто под ударом тарана, распахнулись ворота конюшни. Из темноты в полумрак двора выметнулся огромный белый жеребец. Роскошная грива развевалась по ветру, хвост стелился следом широкий и длинный. Глаза горели дикие, кровавые, а когда открыл пасть, мелькнули огромные и совсем не по-лошадиному острые зубы.
– Мразь…
Векша видел, как могучий витязь легко метнул огромное тело на конскую спину. Жеребец заржал так, что затряслась земля, а с деревьев посыпались листья. Вжавшись в дурно пахнущую землю, гридень всхлипывал, его трясло. Снова он ощутил себя маленьким и жалким, как когда-то в детстве. И снова услышал ненавистный голос отца – тот говорил, что надо самому быть сильным, а не становиться у сильных шутом и слугой.
Горбик багрового диска исчез за темным краем земли. Недобрые сумерки пали на улицы города. Добрыня несся вдоль домов, однако летняя ночь наступает стремительно, и когда впереди показался княжеский терем, над ним уже колыхалось темное звездное небо.
Бросив поводья мальчишке, почти бегом поднялся на крыльцо. Стражи узнали, отступили от входа. Один даже открыл перед богатырем дверь, и когда Добрыня взбегал по лестнице на второй поверх, он чувствовал на спине восторженный взгляд стража и не забывал держать спину прямой, а плечи развернутыми.
В просторной светлице спиной к нему стоял высокий, узкий в бедрах человек. Гладко выбритый череп отливал синевой, а иссиня-черный чуб, похожий на толстую змею, свисал до плеча, касаясь темно-красного плеча. На скрип половиц обернулся, на Добрыню взглянули темные впадины, похожие на пещеры. Глаза прятались глубоко, лицо казалось вырезанным из серого камня, но Добрыне почудилась глубоко упрятанная вечная тоска.
– Как семья? – спросил князь. – Как отец?
– Спасибо, княже, – ответил Добрыня угрюмо. – И жена здорова, и отец крепок. И твоим всем женам желаю такого же здоровья… Что-то стряслось?
Князь усмехнулся:
– Да ничего особенного. Просто на тебя наговаривать начали… особенно упорно. Не чтишь меня, неволю ощутил, удельным князем стать вознамерился. Даже ромеям готов меня продать. Интересно мне, что за этим кроется? Кому ты так насолил? Самые разные люди говорят!.. Вроде бы совсем друг с другом не связанные. Да ты сядь, в ногах правды нет.
Но сам не сел, прохаживался в задумчивости по горнице. В трепещущем свете факелов лицо выглядело еще резче, злее, а складки стали глубже. Добрыня не чувствовал неловкости, что расселся в присутствии князя, на Руси пока что не такие строгие правила, как в старых королевствах Востока или Запада, к тому же постарше князя, ходил в его наставниках.
– Не знаю, – ответил он.
– Исчерпывающий ответ, – усмехнулся князь. – А какие предположения?
– Ты князь, – уклонился Добрыня. – С дальней заставы богатырской дела княжества смотрятся как-то иначе.
– А как? – спросил Владимир. – Как? Добрыня, ты что-то таишь. Ты ведь старший дружинник! А это выше, чем бояре. Старшие дружинники – это мои друзья. Они водят войска, когда ведем войны. Им я доверяю управлять землями, когда отбываю на кордоны. Им, а не знатным боярам. Но у тебя что-то завелось тайное… Что на окна-то глядишь?
Добрыня вздрогнул, князь посматривает подозрительно. Все помнили, как совсем недавно прямо в окна лезли нанятые убийцы. А предавали совсем близкие люди.
– Да так, – ответил он неопределенно. – Жду полночи.
– Зачем?
– Что-то мне полночь больно нравится.
Владимир смотрел исподлобья, в черных глазах росла подозрительность.
– Петухи еще не кричали… Или тебе нужна не просто ночь, а полная луна?
Добрыня буркнул:
– Зачем?
– Тебя в древлянской земле называли Добрыней Лунным, – ответил Владимир с усмешкой. – Да и тут иногда…
Их взгляды встретились. Оба знали, о чем речь. Юная красавица Белокорка, жена Мала, однажды понесла свою годовалую дочь Малушу в корзинке к лесному озеру, искупать, заодно самой поплавать в чистой спокойной воде. Было это вечером, когда солнце уже зашло, на небе вечерняя заря, а в медленно темнеющем небе уже проступает пока еще бледный диск или серпик месяца…
В городище заметили, как вдруг налился светом месяц, но только Белокорка знала, что случилось. Когда сняла одежды и нагая вошла в тихую воду, с неба упал ясный луч. Свет был настолько ярок, что просвечивал воду до самого дна. Она видела корни болотных растений, дивных безглазых червей в бездне, что подняли головы и смотрели на ее белое тело.
Устрашившись, она поскорее выбралась на берег. Но там ощутила такое томление, что легла на мягкую траву, раскинулась в неге, чувствуя, как по всему телу ходят прохладные пальцы, как некто незримый трогает ее за грудь, подминает, берет грубо, горячо… Когда она наконец встала, уже чувствовала, что понесла от неведомого, явившегося в лунном луче. Малуша мирно спала в корзинке, улыбалась во сне. Белокорка чувствовала себя настолько странно, что ухватила корзинку и поспешно вернулась в городище, так и не помыв дочку. С того дня брюхо ее начало расти.
На седьмом месяце она как-то пошла в лес, где князь Мал указывал, где строить первые засеки супротив киевских насильников. То ли злой умысел, то ли случайность, но столетняя сосна обрушилась на Мала. Белокорка подбежала первой, увидела перекошенное лицо мужа. Его вбило по колени в землю, он хрипел, держался изо всех сил, дерево вот-вот сломает ему спину, и Белокорка поспешно подставила плечо, приподняла тяжелый ствол.
Когда подбежали плотники, она уже лежала на земле, а Мал с безумными глазами стоял перед ней на коленях, умолял не умирать, обещал богам любые жертвы. Белокорка выжила, но родила прямо тут же, в лесу. Сам Мал в присутствии десятка мужиков принял роды, отнес недоношенного ребенка в городище.
Никто не думал, что ребенок выживет. У Белокорки молока не было, сама металась в горячке, ребенка поили молоком диких лосей, волчиц, даже медведиц, благо их всегда куча на цепи. Рос не по годам быстро, однако, в отличие от других детей, не любил шумные игры, а в светлые ночи часто выходил во двор и сидел на крылечке. Его недетски серьезное личико бывало обращено к месяцу.
Когда ему исполнилось семь лет, кто-то из взрослых мужиков обозвал его недоноском. Мальчишка молча ухватил обидчика, все увидели, как от усилий покраснели оба. Затем хрустнули кости, изо рта мужика плеснула кровь. Добрыня отпустил обидчика, тот рухнул с переломанными костями. На Добрыню все уставились со страхом и великим почтением. А старый мудрый волхв пробормотал: «Дурни вы все, радоваться надо, а не зубы скалить! А если бы родился доношенным? Все бы здесь разнес…»
– Тебя тоже называют, – ответил Добрыня сумрачно. – Только по-разному… Еще как по-разному!
Далеко в ночи вроде бы озарилось багровым. Свет едва был отличим от ночи, но сердце у Добрыни едва не выпрыгнуло. Он не помнил, как вскрикнул тонким срывающимся голосом:
– Пожар?.. В той стороне мой дом!
Затем все словно бы застыло, он один двигался среди остановившегося мира, несся через палату, успевая заметить и застывших с поднятыми кубками гостей, и красные рожи бояр, и веселых стражей в коридорах…
Дверь распахнулась в прогретый за день ночной воздух. Загрохотала земля под его сапогами, возле ворот сбоку выбежал младой отрок, держа в поводу коня. Добрыня бездумно толкнулся от земли, взлетел и плюхнулся на конскую спину, мелькнули ворота, дальше ветер засвистал в ушах, а улица понеслась навстречу.
Ночь стала совсем черная, как угольная яма, а впереди на багровой площади, залитой злым светом пролитой крови, страшно полыхал, как огромный стог сухого сена, терем. Стены из толстых бревен еще держались, но из окон и даже из-под крыши с диким воем, свистом, треском вырывался широкий оранжевый огонь.
Вокруг терема носились всполошенно люди. От колодца уже выстроилась цепочка мужиков, передавали ведра, набегали и, отворачивая от огня лица, с размаху плескали холодную воду на стены, на горящее крыльцо. Причитали бабы.
Добрыня едва не ринулся прямо на коне в дом, но сбоку раздался знакомый крик. С растрепанными волосами к нему неслась Милена:
– Добрыня!.. Добрынюшка!.. Горе-то какое!
– Отец?! – крикнул он, сердце сжало болью, а в горле встал ком. – Что с отцом?
Она ударилась с разбегу о коня, ее руки ухватили его за сапог. Он чувствовал, как дрожит все ее тело, а голос прерывается от плача:
– Отец… Ты бы хоть о Борьке спросил!
– Что с ним? – повторил он, глядя поверх ее головы.
– Ему обожгло руку до локтя!.. Сейчас бабка мажет гусиным жиром, отец вынес из горящего дома…
Он переспросил сдавленным голосом:
– Отец?
Она всхлипнула, все прижималась к его сапогу, растерянная и ищущая защиты. Дыхание остановилось в груди Добрыни: расталкивая зевак и сердобольных, вышел огромный темный старик, ведя перед собой хнычущего Борьку. Не сразу узнал в этом освещенном багровым заревом человеке отца – одежда обгорела, а серебряные волосы в саже и копоти. Теперь Мал походил на вожака лесных разбойников, даже двигался без уже привычной старческой осторожности и заметных усилий.
– Отец, – выдохнул Добрыня. Гора рухнула с его плеч, он чувствовал подступающие слезы облегчения. – Как хорошо…
Милена повернулась к мальцу, что заменял им сына, обхватила с негромким плачем. Тот стоял как маленький дубок, смотрел на огромного витязя исподлобья. Мал кивнул на бушующий огонь:
– Не знаю, как получилось… Печи не топили. Разве кто-то из слуг с лучиной баловался? Но я помнил твои слова!.. Как только занялось, не стал гасить, сразу за Борьку, а тут и княжеские люди набежали как муравьи… Меня прямо на руках вынесли!
Белоян, понял Добрыня. По его приказу. Он отшатнулся, в лицо полыхнуло жаром – из окон с жутким треском вырвались такие ревущие столбы огня, что в народе послышались крики: не бочки ли с кипящим маслом взрываются внутри, а то и греческий огонь, который в Киев привезла еще княгиня Ольга.
Милена всхлипывала, потом заголосила:
– Да что же это делается?.. Там же столько добра пропадает!.. Там же…
Мал сурово цыкнул:
– Умолкни! Зато мы все целы.
– Мы-то целы, – заголосила она еще громче, – а там у меня пять сундуков с белоснежным полотном!.. И Добрыне я рубаху вышивала петухами…
Мал отвернулся, с сыном смотрели на страшный костер, в котором огромный терем полыхал, как простая поленница дров. С правой стороны пламя удалось сбить, там плескали воду уже из двух колодцев. Даже к третьему дальнему выстроилась цепочка из набежавшего люда, особенно из соседских домов. Эти уже суетились с баграми, готовые растаскивать по бревнышку, дабы сохранить свои.
– Отстроим, – сказал Добрыня, на душе у него стало светло. – Даже если сгорит дотла, дня за три еще краше построим!
Цепкие пальцы Мала ухватили пробегавшего мимо дружинника с такой силой, что тот едва не упал на спину.
– Эй, эй! Это тебе я поручал вынести мой сундучок с книгами?.. Где ты поставил? Не сопрут?
А к Добрыне подскакал на маленькой печенежской лошаденке отрок, прокричал, запыхавшись:
– Добрыня!.. Там князь на той стороне привел воев! Тебя ищет!
Добрыня хлестнул коня, успел увидеть, как отец лается с дружинником, толпа раздалась, он по широкому, освещенному красным кругу обогнул горящий терем. С той стороны, вытаптывая огород и цветник, суетились люди в блестящих кольчугах и с железными шлемами на головах.
На глазах остолбеневшего Добрыни из окна прямо через стену красного огня выпал человек, перекувыркнулся в воздухе и встал на подошвы, только присел до земли. К груди прижимал шкатулку. К нему набежали воины и, отворачивая лица от огня, под руки бегом вывели на место, где можно было дышать.
Добрыня ахнул, узнав князя. Владимир, весь покрытый копотью, с обожженным лицом, но улыбающийся, протянул шкатулку:
– На! Тут твои камешки.
Добрыня взял из княжеской руки ларец, едва не выронил с руганью, металл раскалился и жег пальцы. Владимир захохотал, дружно заржали его дружинники.
Добрыня сказал, сердясь:
– Какого черта? Князю рисковать из-за камней?
Владимир ответил насмешливо:
– А чтоб не просил на новый терем. У тебя ж в этой шкатулке на три таких терема.
– Ну и шпионы у тебя, княже, – ответил Добрыня с упреком. – Добро бы за ромеями так, а то за своими!
– За своими тоже нужен глаз да глаз, – возразил Владимир уже серьезно.
Морщась, он снял шлем. По закопченному лицу текли струйки пота, прокладывая дорожки. Привычно черные мохнатые брови обгорели, отчего лицо великого князя показалось совсем юным.
Глава 4
От главного входа донеслись крики. Чувствуя неладное, Добрыня повернул коня. За спиной выругался быстроглазый князь, отчего мороз прошел по спине. Он погнал коня, а сзади загрохотали копыта множества коней.
На крыльцо бросались люди, плескали воду из ведер и бадей, отскакивали. На одном загорелась одежда. Его повалили и вываляли в грязных лужах. Милена выла в голос и бросалась в дом, ее удерживали силой.
Добрыня заорал еще издали:
– Что случилось еще?
Милена прокричала сквозь слезы:
– Твой отец!.. Он…
Он вскрикнул в страхе:
– Что с ним?
– Забыл свои проклятые книги!..
Добрыня спрыгнул с коня. Не помня себя, метнулся к пылающему крыльцу. Его ухватили за руки, он попробовал расшвырять державших, но с князем прибыли сильнейшие богатыри. Добрыня сумел протащить их почти до крыльца, жар опалил лицо и накалил кольчугу…
Страшно загрохотало. Тугая струя жара ударила, как могучая океанская волна. Их отшвырнуло, оглушенных и ослепленных. Добрыня сквозь багровый огонь увидел, как обрушилась вовнутрь терема крыша. Тяжелые бревна, рассыпая искры, исчезали в стене огня, в ответ взметнулось пламя еще яростнее, победнее. Земля вздрогнула от удара.
Добрыня упал на колени, закрыл лицо ладонями. Плечи тряслись, горький ком распирал сердце, грозил разорвать грудь.
– Отец… Отец!
Смутно слышал, как застучали копыта, тяжелая ладонь упала на плечо. Негромкий голос Владимира произнес:
– Что там было? Из-за чего он так?
Плечи Добрыни тряслись, ответить не мог, из-за спины прозвучал плачущий голос Милены:
– Да все книги, будь они неладны!.. Глаза бы выдрала тому, кто на старости лет дал ему грамоту!
Голос князя был полон участия:
– Книги книгам рознь. За иные стоит и в огонь… Добрыня, мы все с тобой. Твой отец был великим человеком. Сам знаешь, он давно уже не был пленником, как бы враги ни стравливали нас. Он все понял… и тоже строил Новую Русь. А сейчас ушел… красиво! Прямо в огонь, из которого мы все вышли. Вставай! Твой отец – это славное прошлое. А мы должны думать о дне завтрашнем.
Добрыня поднял бледное лицо, на щеках блестели слезы. Князь смотрел с глубоким участием. На молодом лице глаза были грустные и не по возрасту всепонимающие.
– Ты тоже думаешь, – спросил Добрыня с надеждой, – что он сам… сам так захотел?
– Знаю, – ответил Владимир твердо. – Мужчина всегда страшится умереть в постели, а твой отец был… образцом для мужчин. Не знаю, что за книги он читал, но от падающего бревна не стал увертываться… даже если и смог бы. Какую еще краду может пожелать по себе воин?
Терем полыхал, бревна трещали и раскалывались по всей длине. Огненные фонтаны били в небо, достигая звезд. Небо стало страшно и весело багровым, звезды померкли. Красное зарево освещало окрестные дома. Люди облепили крыши, как муравьи головку сыра, им подавали ведра с водой, там поливали, баграми спихивали занесенные ветром горящие щепки.
– Тогда пусть догорит, – проговорил Добрыня, в горле стоял ком из горьких слез. – Пусть это будет воинской крадой!
Владимир зычно крикнул:
– Отозвать людей! Следить, чтобы не перекинулось к соседям!
Остатки терема растащили, нетронутыми оставались только подвалы. Топоры начали стучать уже с ночи – по княжескому распоряжению плотники были переброшены с ремонта городской стены на восстановление терема именитого витязя. В багровом свете костров подвозили огромные толстые бревна, пахло сосновой стружкой. Стены росли медленно, но неуклонно. Десятки плотников работали и ночами.
Подошел грузный воевода, Добрыня по тяжелым шагам узнал Волчьего Хвоста. Тот посопел сочувствующе, предложил:
– Давай пока в мой терем!.. Там хоромы – заблудиться можно. И не знаю, зачем мне такие?.. Говорят, положено.
– Да положено, положено, – отмахнулся Добрыня. – Ты ж боярин.
– Или поместье в Родне возьми, – сказал Волчий Хвост. – Я там всего два раза побывал!.. Не все у ромеев надо перенимать, как смекаешь?
– Не все, – согласился Добрыня. – Спасибо, Волчара. Терем сгорел, но все пристройки уцелели. С недельку поживем, а за это время целый город поднять можно.
– Можно, – согласился Волчий Хвост. – Тем наши города и хороши…
– Чем? Что сгорают дотла?
– Что заново выстроить легче, – возразил Волчий Хвост. – Как та птица… как ее… что из пепла!.. Всякий раз можно строить иначе, лучше, шире, выше. Не то что ромейские города – зажаты в эти каменные стены, как устрица створками…
Добрыня кивал, умелый воевода все сворачивает на воинские тонкости, старается отвлечь от горьких дум, а мужчин проще всего отвлечь рассказами о необыкновенных мечах, каленых стрелах и быстрых как ветер конях. Да еще о строении крепостей, если мужчина не простой воин.
– Я пойду, – сказал он. – Ты уж извини.
– По делу аль как?
– Аль как. Просто по бережку реки. Подумаю.
– Не попади русалкам в руки, – предостерег воевода. – В такие ночи они особенно…
– Да нет, просто подумать надо.
– О чем?
– О жизни.
Свод выгнулся гигантской черной, как угольная яма, чашей. Звезд мало, тусклые и блеклые. Под ногами похрустывало, будто все еще шел по уголькам от терема.
Милена осталась обживать пристройки, суетливо указывала плотникам, где рубить и как вообще пользоваться топорами, Волчий Хвост взобрался на коня, послышался стук копыт удаляющегося коня, а он шел куда глаза глядят, перед глазами расплывалось, а в груди пекло, словно Людота всадил раскаленную полосу для меча. До этого дня про отца почти не помнил, но теперь внезапно ощутил тянущую пустоту, словно из души вырвали нечто важное.
Богатые терема остались далеко за спиной, мимо шли добротные дома кожевников, плотников, горшечников, мукомолов и пекарей, оружейников, наконец, потянулись мазанки и наспех вырытые землянки. Прохладный ночной воздух стал влажным, а звездное небо появилось внизу, только эти звезды подрагивали и качались на волнах темного, как деготь, Днепра. А потом из-за тучки выплыл блистающий полный месяц, яркий, загадочный. Сердце стукнуло чаще, взволнованнее. Он сразу вспомнил, что он не просто Добрыня, а Добрыня Лунный.
До берега оставалось с десяток шагов. Впереди, прямо в том месте, где он должен был пройти, в темной земле появился гнилостно лиловый свет. Он разрастался, словно из глубин темной воды к поверхности поднимался пузырь затхлого воздуха. Застыв, Добрыня увидел, как подземный огонь прорвал землю, не затронув поверхности, встал короной, а в середке, окруженной зубцами синюшного огня, разогнулся гигантский богомол, в рост человека, жуткий, с огромными зазубренными лапами. Зеленые надкрылья казались темно-зелеными, почти черными, а шипы на лапах, боках и голове блестели, как заточенные лезвия коротких ножей.
Треугольная голова с торчащими усиками, похожими на обрубки стальных прутьев, на фоне черного звездного неба казалась самой смертью. В огромных фасеточных глазах Добрыня увидел себя, крохотного, перевернутого, раздробленного на сотни измельченных жалких человечков. Он стиснул губы, страшась, что задрожат. Богомолов с детства боялся и ненавидел, что-то в них страшное и неправильное, в то время как у похожих на них кузнечиков все ладно…
Пасть богомола распахнулась, нечеловеческий голос проскрежетал, словно внутри покрытого хитином тела терлись и крошились камни:
– Ты не послушал… Потерял отца… Моя воля… Моя сила…
Добрыня произнес с дрожью в голосе:
– Ты… это ты? В прошлый раз я говорил с… большой ящерицей.
Богомол проскрипел:
– Мы вольны… В любых личинах. И еще… Даже будь у тебя конь-Ветер, догоню быстрее, чем ты конным – бредущего старика… Куда бы ни… ни скрылся…
Добрыня сделал судорожный вздох. Губы и даже колени начали подрагивать. Но темно, никто из людей не зрит, что неустрашимого Добрыню трясет как лист на ветру.
– Понял, – сказал он как можно ровнее, хотя голос тоже дрожал. – Если брошу коня на жертвенный камень – хорошего коня!.. – отца вернешь?
Он задержал дыхание. Звезды исчезали за головой богомола то справа, то слева. Добрыня знал эту привычку хищников покачиваться из стороны в сторону, так они точнее определяют расстояние для прыжка.
Богомол проскрежетал что-то, Добрыня с трудом различил слова:
– Нет… нет…
– Табун коней?.. Чистокровных арабских скакунов!
Огромная пасть задвигалась, слова вылетали изломанные, сухие, как камешки под ударами тяжелого молота камнетеса.
– Даже боги не могут сделанное… несделанным. Но скажу другое… Если не… жертвы коня… через неделю умрет твоя жена.
Из-под отвратительных голенастых ног выплеснулись зубцы гнилостного лилового пламени. Жесткие надкрылья слегка приподнялись, словно богомол готовился взлететь. Выпуклые фасеточные глаза вспыхнули красным. От язычков огня повеяло нестерпимым жаром.
Добрыня отшатнулся, прикрыл глаза ладонью. В призрачном свете успел увидеть кости и суставы, просвечивающие сквозь розовую плоть. Тут же огонь померк. Когда он опустил ладонь, на том месте, где только что полыхало пламя, угольно чернела земля. Он присел на корточки, потрогал землю. Кончики пальцев ощутили холод и сырость. А металлический щиток на груди оставался таким же холодным, как и до встречи с чужим богом.