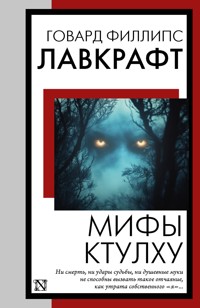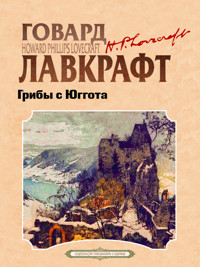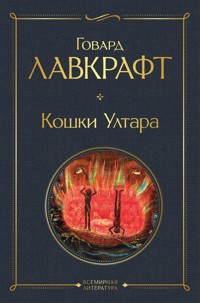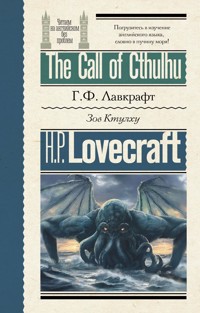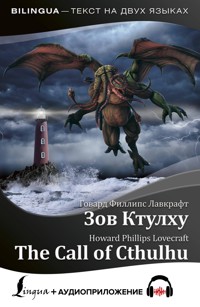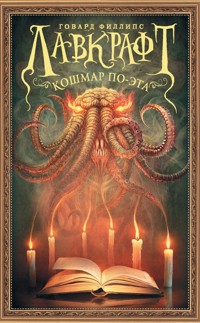Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Шедевры ужаса в иллюстрациях
- Sprache: Russisch
Во время своих многочисленных путешествий по Массачусетсу в поисках старинной архитектуры Лавкрафт делился своими впечатлениями в письмах, эссе и путевых заметках. Из них внимательный читатель заметит, как четко прослеживается связь реальных пейзажей и зданий с воображаемой им землей вдоль реки Мискатоник: Кингспорт, Данвич, Иннсмут и Аркхэм. Однако именно Провиденс, где он создавал свои произведения, навсегда остается царством между реальностью и вымыслом. Рассказы, собранные в этом томе, посвящены местам, которые Лавкрафт изобразил как свою странную Новую Англию.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Говард Филлипс Лавкрафт Горизонты Аркхема
Howard Phillips Lovecraft
ARKHAM HORIZONS
All the artworks are © Santiago Caruso 2019–2022
© О. Колесников, В. Бернацкая, Д, Афиногенов, С. Лихачева, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Предисловие Сантьяго Карузо
Следующая далее подборка отрывков имеет целью показать почтительность или неприязнь, которые Лавкрафт испытывал к некоторым городам, городкам и поселкам. Совершая многочисленные путешествия по Массачусетсу (в 1920–1936 гг.) в поисках старинных причудливых построек, архитектурных свидетельств колониальных времен, он описал множество своих впечатлений в письмах, эссе и путевых дневниках.
Благодаря этому внимательный читатель может отследить увлекательную связь между реальными ландшафтами и зданиями и созданной воображением автора местностью вдоль реки Мискатоник: Кингспортом, Данвичем, Иннсмутом и Аркхемом.
Где-то на мрачном горизонте они сливаются.
Однако именно Провиденс, где Г.Ф. Лавкрафт все это замыслил и написал, навсегда останется переходной зоной между реальностью и вымыслом.
Рассказы, собранные в этой книге, дают прекрасное представление как о городских, так и о сельские местностях, из которых Лавкрафт образовал свою потустороннюю Новую Англию.
Вместе с книгой «Ужас Данвича» они дают полное представление о так называемой «Стране Лавкрафта».
Отрывки из заметок Г.Ф. Лавкрафта о дорожных впечатлениях
«Прибрежные города поражены недугом перемен и стремления к модернизации. Их странные наросты, архитектурные и топографические, и трансформации демонстрируют угрожающую тиранию техники и производную от нее власть инженерии, которые быстро лишают нынешние места проживания людей всякой связи с их предшествующей историей и отправляют их дрейфовать в чужеродный им океан без якоря и почти без традиций. Мрачные чуждые формы, произошедшие от умонастроений и побуждений, противоположных тем, которые сформировали наше наследие, нескончаемыми потоками проносятся по задымленным и залитым слепящим светом фонарей улицам; такая обстановка склоняет к странному поведению и насаждает странные обычаи. В примыкающей к городам сельской местности хорошо заметны язвы перемен. Водохранилища, рекламные щиты и бетонные дороги, линии электропередач, гаражи и расфуфыренные гостиницы, убогие иммигрантские поселения и грязные поселки при фабриках; это и все подобное привнесло уродство, безвкусицу и обыденность в отбрасываемую городом полутень. Только в отдаленной лесной глуши можно еще найти незапятнанную красоту, что была характерной для южной части Новой Англии наших предков […]»
«[…] С таким настроем, смягченным, возможно, созерцанием красоты холмов и излучин рек на подступах к нему, вступает в Вермонт житель южной части Новой Англии. Он уже некоторое время видел из Коннектикута его холмы, куполоподобные и волнообразные, отблескивающие цветом чистейших изумрудов, не обезображенные уродством или паровыми машинами. Затем все вдруг стремительно приближается, и по ту сторону прозрачнейшей водной поверхности вырисовываются восходящие террасы старого города, как могла бы открыться любимая, запомнившаяся картинка, когда медленно переворачиваешь страницы детской книги. Сразу же становится ясно, что этот город не вполне похож на те, что остались позади. Крыши, шпили и дымоходы, весьма прозаичные в описании, образуют здесь, на зеленом крутом склоне реки, некое волшебное сочетание, пробуждающее смутные воспоминания.
Что-то в общих очертаниях, что-то в атмосфере здесь способно затронуть глубокие струны чувств, наследственных, если человек молод, или личных, если он стар. Вся эта сцена смутно напоминает о мимолетных особенностях, с которыми мы были знакомы ранее. Когда-то давно мы видели такие города, поднимающиеся от рек в глубоких долинах и воздвигшие свои старые кирпичные стены у покатых, мощеных булыжником улиц. Величия, может, и маловато, но чудо возрожденного видения явно есть. Здесь живо что-то, умершее уже в других местах; что-то, что мы или наша кровь можем признать более близким к себе, чем оживленный южный космополис. По сути, это сохранившийся фрагмент старой Америки; это то, чем были другие наши города в те дни, когда они были самими собой, в те дни, когда в них жили именно их люди и создавали все те маленькие легенды и крупицы преданий, которые делали эти места очаровательными и значимыми в глазах их детей. Проходя по древнему мосту с крышей и деревянными стенами, мы перемещаемся на десятилетия в прошлое и попадаем в зачарованный город мира наших отцов».
Из «Вермонт: первое впечатление» (1927)
«Что касается декораций для историй – я стараюсь придерживаться реализма настолько, насколько это возможно. Разрушающиеся старые города с извилистыми улочками и домами возрастом от 100 до 250 и более лет – реальность побережья Новой Англии. В Провиденсе сохранились несколько домов, построенных в 1750 году и около того; тот, в котором я живу, построен 130 лет назад. Самый старый дом Бостона датируется 1676 годом; в Хливерхилле есть дом, построенный в 1640 году, и так далее. Мой придуманный „Кингспорт“ – своего рода идеализированная версия Марблхеда в Массачусетсе, тогда как мой „Аркхем“ более или менее происходит от Салема, хотя в Салеме нет колледжа. „Иннсмут“ – сильно искаженная версия Ньюберипорта, штат Массачусетс. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете увидеть некоторые из этих старых городов – они мое главное хобби».[1]
Из письма к Эмилю Петайя (декабрь 1934)
«Сегодня я любитель древностей из Новой Англии, „не более того“, и мой главный интерес в жизни – исследовать старые города и выискивать сохраняющие дух старины улочки и колониальные резные входные двери. Все мои свободные деньги уходят на поездки в старые города, такие как Ньюпорт, Конкорд, Салем, Марблхед, Портсмут, Плимут, Бристоль и им подобные, а если выезжаю за пределы Новой Англии, то всякий раз это место, где сохранившаяся архитектура и местность в целом позволяют мне вновь окунуться в колорит восемнадцатого века; мои любимые „зарубежные“ города – это Филадельфия и Алегзандрия. Соединяя эту страсть к старине с фантастическим воображением, вы сможете понять, как рождаются такие истории, как „Праздник“ или „Усыпальница“.
[…] Что касается „Неименуемого“ – вы правы, предполагая, что в этом рассказе есть весьма мрачная фантастическая основа. […] Раскрывая некоторые подробности, сообщаю, что я использовал пару подлинных суеверий старой Новой Англии – одно из них, о лицах уходящего поколения, прикованных к окнам, мне рассказали лично, и в подлинности этого не сомневалась высокоинтеллектуальная пожилая леди, имеющая на своем счету успешный роман и другие вполне заметные литературные работы. Живые обитатели – как правило безумные или слабоумные члены семьи, таящиеся на чердаках или в потайных комнатах старых домов, – это буквально реальность, или, по крайней мере, были таковой в сельской местности Новой Англии. Кто-то рассказывал мне, как много лет назад остановился в стоящем на отдалении фермерском доме в связи с каким-то поручением в тех краях и оказался напуган почти до смерти, когда, открыв раздвижную панель в кухонной стене, увидел в проеме самое ужасное лицо, покрытое засохшей грязью и со спутанной бородой, какое, по его мнению, когда-либо могло существовать! Конечно, элементы сурового, гротескного ужаса в изобилии встречаются в лесной глуши Новой Англии, где дома расположены очень далеко друг от друга, а у людей с неразвитыми умом и психикой слишком много возможностей месяц за месяцем предаваться размышлениям в одиночестве».
Из письма Бернарду Остину Двайеру (июнь 1927 г.)
«Родной дом – это то место, где бесчисленные воздействия, зрительные и звуковые, оказываемые на добрую половину моих предков в течение трехсот лет и на меня на протяжении всей моей жизни, начиная с детских воспоминаний, мало-помалу влияли на мою зародышевую плазму, формировали мой дух и создали из бесформенной протоплазмы ту индивидуальную сущность, которой я являюсь. Ибо что такое любой человек, как не отпечаток его дома и родословной? Что есть в нас такого, что помещено туда не нашим прошлым? Воистину, ни один человек не может быть самим собой нигде, кроме как в окружении той обстановки, которая сформировала его и его предков; и я никогда не смогу надеяться обрести надежный покой там, где рядом не будет древних памятников зеленолиственного Провиденса, оседлавшего холмы, – Провиденса со старыми кирпичными тротуарами, георгианскими шпилями и извилистыми улочками на холмах, а также солеными ветрами, дующими от ветхих причалов, у которых покачиваются на якорях корабли из былого с грузами из дальних стран. Провиденс – это я, и я – это Провиденс. Единое и неразделимое! Итак, после всех моих странствий я вернулся к чуду и красоте, более великим и неизменно более загадочным, чем те, которых искал в далеких портах или находил среди чудес под крышами домов чужаков и в экзотических горных странах».
Из «Наблюдений в нескольких частях Америки» (1928)
«Я совершенно уверен, что никогда не смогу адекватно объяснить ни одному другому человеческому существу точные причины, почему продолжаю воздерживаться от самоубийства, то есть почему все еще нахожу в существовании достаточную компенсацию его крайней обременительности. Причины эти имеют глубокую связь с окружающей архитектурой и вообще местностью вокруг, световыми и атмосферными эффектами и принимают смутную форму предвкушения приключений в сочетании с ускользающими воспоминаниями. Ощущается, что определенные вереницы воспоминаний, особенно те, что связаны с закатами, это пути приближения к областям или условиям совершенно неизъяснимых наслаждений и свобод, которые мне довелось познать в прошлом и которые имею слабую надежду познать снова в будущем».
Из письма к Августу Дерлету (декабрь 1930)
Заброшенный дом
Провиденс
I
Даже в самых кошмарных событиях обычно таится ирония. Иногда она вплетена в сам их ход, а иногда лишь подчеркивает элемент случайности в связях людей и мест. Именно этот последний вариант видим в случае с Эдгаром Алланом По. В конце сороковых годов прошлого века он, безуспешно ухаживая за талантливой поэтессой миссис Уайтмен, частенько посещал старинный город Провиденс. Писатель всегда останавливался в Мэншен-хаус на Бенифит-стрит – бывшей гостинице «Золотой шар», под крышей которой в свое время находили приют Вашингтон, Джефферсон и Лафайет, а его излюбленный путь к жилищу дамы его сердца пролегал по улице, над которой раскинулось на холме кладбище Святого Иоанна, чьи сокрытые зеленью от досужего взора надгробия обладали для него особой притягательностью.
Вы спросите, в чем же заключалась ирония? А в том, что на своем пути этот непревзойденный певец загадочного и сверхъестественного много раз проходил мимо одного дома, расположенного на восточной стороне улицы, – прилепившегося на крутом склоне холма, невзрачного с виду старомодного особняка, утопающего в огромном запущенном саду, разбитом еще в незапамятные времена. Эдгар По никогда не писал и не упоминал в своих беседах об этом доме, вероятно, вообще не обратил на него внимания. А ведь по крайней мере у двух людей есть неоспоримые доказательства, что тайна дома не уступает, а может, и превосходит по своей кошмарной сути взлеты самой изощренной фантазии не раз проходившего мимо него гения. Сам же дом и поныне мрачно возвышается как материальный символ зла.
Этот особняк привлекал внимание любопытных и в старые, и в нынешние времена. Первоначально задуманное как фермерское жилище середины восемнадцатого века, двухэтажное строение отражало вкусы зажиточных колонистов Новой Англии – островерхая крыша, глухая мансарда, портик в георгианском стиле и внутренние помещения, обшитые панелями (последнее диктовалось изменившимися представлениями о красоте интерьера). Фронтон дома смотрел на юг, восточная стена зарывалась в холм – вплоть до нижних окон, а западная выходила на улицу. Такое местоположение обусловливалось сто пятьдесят лет назад нуждами времени: требовалось выровнять улицу. Ведь Бенифит-стрит (прежде она именовалась Бэк-стрит) некогда была извилистой тропой между захоронениями первых поселенцев. Перемены стали возможны только после перенесения останков колонистов на Северное кладбище, и вот тогда, не боясь уже оскорбить чувства потомков, улицу начали выравнивать.
Прежде западная стена дома начиналась на высоте двадцати футов от тропы, но во времена Революции, когда улицу стали расширять, часть земли срыли, обнажив фундамент строения. Хозяевам пришлось облицевать подвальную стенку кирпичом, а из самого подвала сделать выход на улицу. Тогда же в подвале появились и два оконца. А когда сто лет назад потребовалось проложить тротуар, срыли еще немного земли, и Эдгар По в своих прогулках мог уже видеть только выходящую на улицу темную кирпичную стену – корпус же самого дома старинной кладки начинался лишь на высоте десяти футов.
Прилегающий к дому сад взбегал по холму вверх, раскинувшись довольно далеко и почти достигая Уитон-стрит. Та его часть, что выходила на Бенифит-стрит, была значительно выше самой улицы. От нее сад отделяла отсыревшая и заросшая мхом высокая каменная стена с пробитой в ней крутой лестницей, ведущей мрачными переходами в верхнюю часть участка с неподстриженными лужайками и развесистыми деревьями. Унылая картина разбитых урн, проржавевших котелков, свалившихся с треног, сооруженных из сучковатых палок, и прочих неожиданных вещей дополнялась жалким зрелищем обветшалой двери с разбитым веерообразным окошком, сгнившими ионическими пилястрами и источенным червями треугольным фронтоном.
В годы своей юности я, помнится, слышал разговоры, что в этом доме слишком часто умирали люди. Именно поэтому первые хозяева дома, прожив в нем двадцать лет, переехали в другое жилище. Место, очевидно, было нездоровым. Возможно, причина крылась в сыром подвале, заросшем грибовидной растительностью, откуда гнилостный запах разносился по всему дому, а может, вину следовало искать в гуляющих по коридорам сквозняках или в колодезной воде. Именно эти пагубные обстоятельства назывались моими близкими в первую очередь. Только годы спустя я нашел в записных книжках моего дяди, доктора Илайхью Уиппла, знатока древностей, упоминание о смутных подозрениях, которыми делились по секрету между собой старые слуги и прочая челядь. Догадки эти никогда широко не распространялись и были почти забыты ко времени, когда Провиденс стал крупным городом со множеством пришлых людей.
О привидениях речи не было. Никогда я не слышал от старожилов рассказов о бряцающих цепях, ледяных порывах ветра, внезапно задутых свечах или незнакомых лицах в окне. Самые дошлые иногда поговаривали, что дом-де «нечист», но дальше этого не шли. Одно было несомненно: люди здесь умирают много чаще, чем во всей округе, точнее сказать, умирали: шестьдесят лет назад при неких не совсем обычных обстоятельствах дом опустел, и с тех пор не находилось охотников поселиться в нем. Скончавшиеся здесь люди не являлись жертвами какого-то рокового случая: скорее, их что-то долго и методично подтачивало, и тот, в ком жизненных сил было меньше, уходил первым. Из выживших же все поголовно страдали явно выраженной анемией или чахоткой, а некоторые и психическими расстройствами. Все это говорило о неблагоприятной для здоровья атмосфере жилища. Ничего подобного, к слову сказать, не замечалось в соседних домах. Вот, пожалуй, и все сведения, которыми я располагал к тому моменту, когда мой дядя после долгих упрашиваний с моей стороны извлек наконец из своих тайников собранные им материалы – шаг, положивший начало нашему опасному расследованию.
В мои детские годы этот особняк, окруженный корявыми бесплодными деревьями, уже пустовал. В поднимающемся террасами саду, куда никогда не залетали птицы, росла бледная, на редкость высокая трава и причудливо изогнутые сорняки. Мальчишками мы частенько забегали сюда, и я до сих пор не могу забыть свой детский страх, вызванный не столько странной деформированностью растений, сколько общей зловещей атмосферой и мерзким запахом. Он шел из обветшалого дома, куда мы иногда, влекомые непреодолимой жаждой неведомого, с опаской проникали через незапертую дверь. В этих стенах, обшитых ветхими панелями, витал дух запустения: оконные стекла были разбиты, ставни расшатаны, обои отклеились, отовсюду сыпалась штукатурка, ступеньки отчаянно скрипели под ногами, а то немногое, что осталось из мебели, уже ни на что не годилось. Пыль и паутина довершали эту мрачную картину, и потому мальчишка, который решался подняться на чердак, считался отчаянным смельчаком. Когда-то в это просторное помещение с высокими стропилами, освещаемое лишь двумя маленькими тусклыми оконцами, сваливали без разбора всякую рухлядь: сломанные стулья, сундуки, прялки. Теперь за давностью лет все это превратилось в какое-то бесформенное месиво, в адский бедлам.
И все же чердак вряд ли являлся самым зловещим местом в доме. Им был, несомненно, холодный подвал, попав в который мы не могли унять дрожь. Даже сознание того, что он находится не под землей, а на уровне улицы, и за кирпичной стеной с тонкой дверцей и небольшим окошком шумит жизнь, не спасало нас от жгучего страха. Мы никак не могли решить для себя, заглядывать ли сюда почаще в надежде увидеть привидения или, напротив, совсем не показываться, зато спасти тело и душу. В подвале гнилостный запах ощущался сильнее, а кроме того, нам был неприятен вид бледной грибообразной поросли, которая особенно буйно разрасталась в дождливую летнюю погоду. Она чем-то напоминала сорняки в саду и имела преотвратный вид, карикатурно походя на поганки или трубки индейцев. Ничего подобного мы нигде больше не встречали. Эти растения, сгнивая, начинали слабо фосфоресцировать, и те, кто проходил мимо дома ночью, потом божились, что видели, как за разбитыми стеклами окон плясали дьявольские огоньки, а зловоние было особенно ощутимо.
Мы никогда, как бы нам ни хотелось, не осмеливались наведываться в подвал ночью, но иногда, если день был пасмурный и дождливый, тоже наблюдали свечение. Кроме того, в подвале было нечто такое, о чем мы никогда не могли с уверенностью сказать, не померещилось ли оно нам. Я говорю о неясном беловатом наросте на грязном полу, смутном, расплывчатом узоре из плесени, который мы различали у основания печи, где поросль редела. Иногда этот узор напоминал по форме скорченную человеческую фигуру, потом сходство уменьшалось и исчезало совсем. Часто не различался и сам нарост. После одного дождливого дня, когда человеческие очертания проступили на полу особенно отчетливо и от плесени по направлению к дымоходу потянулся, как мне почудилось, легкий желтоватый дымок, я рассказал обо всем дяде. Он счел, что у меня разыгралось воображение, и даже посмеялся, но потом задумался. Позже я узнал, что в некоторых самых невероятных из всей череды преданий говорилось о взмывавшем иногда из трубы дыме, принимавшем отвратительные, звероподобные формы. Эти гнусные очертания воспроизводили и корни мрачных деревьев, пробивавшиеся сквозь толщу камня в подвал.
II
Когда я достиг совершеннолетия, дядя ознакомил меня со своими записями и документами, касавшимися заброшенного особняка. Доктор Уиппл относился к здравомыслящим врачам старой школы и, несмотря на свой ярко выраженный интерес к тайне пресловутого дома, не торопился направить юношескую любознательность на столь рискованный объект. Сам он, впрочем, был уверен, что вся тайна сводится к нездоровым природным условиям и качеству строительства, но опасался, что многочисленные загадочные подробности, столь заинтересовавшие его самого, могут потрясти мое воображение и вызвать самые непредсказуемые реакции.
Доктор – седовласый, всегда чисто выбритый джентльмен – был старым холостяком. Он проявлял глубокий интерес к истории нашего края и настолько преуспел в этом, что неоднократно вступал в полемику с такими учеными мужами, как Сидни С. Райдер и Томас У. Бикнелл. Он жил со своим единственным слугой в георгианском коттедже с дверным молотком и обитыми железом перилами, примостившемся у того самого места, откуда Норт-Корт-стрит уходила вверх. С коттеджем соседствовали старинное кирпичное здание суда и дом, прежде принадлежавший колониальному управлению, где дед доктора – двоюродный брат прославленного капитана Уиппла, спалившего в 1772 году «Гаспи», боевой корабль Его Величества, – проголосовал за независимость Род-Айленда. В библиотеке – сыроватой комнате с низким потолком, стенами, обшитыми белыми панелями, накаминником с затейливой резьбой и увитыми виноградом окнами – хранились семейные реликвии и бумаги. В некоторых встречались упоминания о заброшенном доме на Бенифит-стрит, таящие намеки на нечто таинственное. Это проклятое место находилось неподалеку от коттеджа: Бенифит-стрит начиналась сразу за зданием суда и шла вдоль холма, на котором строили свои дома первые колонисты.
Наконец мои неустанные расспросы возымели действие. Дядя решил, что, повзрослев, я имею право знать правду, и ознакомил меня с весьма странными обстоятельствами, касаемыми этого дома. Как показывала объективная статистика, за все время его существования жизнь обитавших в нем людей непрерывно подвергалась воздействию некой злой и разрушительной силы. Это открытие произвело на меня куда большее впечатление, чем на доброго дядюшку. Собранные вместе, отдельные случаи и некоторые вроде бы незначительные эпизоды наводили на ужасные предположения. Мною снова овладело жгучее, неуемное любопытство, по сравнению с которым мой детский интерес казался обычной в этом возрасте любознательностью. Первые догадки привели впоследствии к долгому и изнурительному изучению документов и наконец – к фатальному расследованию, которое так дорого обошлось мне и моей семье. Ведь дядя, конечно же, присоединился к начатым мною розыскам, и после одной ночи, проведенной вместе в проклятом доме, я вышел оттуда один. Как недостает мне теперь этого доброго человека, в течение долгих лет бывшего в моих глазах образцом чести, добродетели, хорошего вкуса, доброжелательности и образованности. В память о нем я воздвиг мраморное изваяние на кладбище Святого Иоанна, где так любил бродить Эдгар По. Этот погост, ограниченный с одной стороны вековой церквушкой, а с другой – домами и оградительными стенами Бенифит-стрит, по сути, представляет собой тихую укромную рощицу из раскидистых ив, где мирно жмутся друг к другу могилы и родовые склепы.
Изучая историю дома и сопоставляя отдельные события и даты, мы не обнаружили ничего необычного и тем более ужасного ни в обстоятельствах его строительства, ни в личностях первых владельцев, принадлежавших к богатому и уважаемому семейству. Однако с самого начала в доме ощущалось присутствие неопределенной опасности, которая вскоре осязаемо себя проявила. Собранные дядей по крупицам сведения восходили к постройке дома в 1763 году и довольно подробно прослеживали все дальнейшие события. Его первыми хозяевами были Уильям Хэррис и его жена Роби Декстер. С ними также жили их дети: Элкана, родившаяся в 1755 году, Абигайл – в 1757-м, Уильям-младший в 1759-м, и Руфь – в 1761-м. Слывший состоятельным купцом и искусным мореплавателем, Хэррис совершал по поручению фирмы «Обадья Браун и племянники» деловые вояжи в Вест-Индию. После смерти Брауна в 1761 году глава новой фирмы, «Николас Браун и К°», доверил ему бриг «Пруденс» водоизмещением 120 тонн, построенный тут же, в Провиденсе. Повышение по службе позволило Хэррису наконец исполнить давнишнюю свою мечту, укрепившуюся после женитьбы, и выстроить собственный дом.
Для особняка он выбрал живописное место на недавно выровненной и потому считавшейся престижной Бэк-стрит; улицу проложили вдоль холма, и она довольно высоко поднималась над плотно застроенным бедняцким районом. Дом вполне соответствовал красоте места, впрочем, ничего лучшего, учитывая весьма скромные накопления, выстроить было просто нельзя. Поэтому понятна та торопливость, с какой Хэррис поспешил въехать в новое жилище, тем более что семья ждала пятого ребенка. Но родившийся в декабре мальчик оказался мертвым. С тех пор в течение ста пятидесяти лет ни один ребенок не родился в этом доме живым.
В апреле следующего года дети Хэррисов заболели неизвестной болезнью, и еще до конца месяца Руфь и Абигайл скончались. По мнению доктора Джоуба Айвза, девочки умерли от лихорадки, но другие специалисты утверждали, что смерть наступила в результате истощения и резкого упадка сил. Болезнь была, по-видимому, заразной, так как в июне Ханна Бауэн, служанка, скончалась от недомогания со сходными симптомами. Другой слуга, Эли Лайдисон, постоянно жаловался на слабость и хотел было вернуться в Рибот, на ферму отца, но помешала его внезапная страсть к Митабел Пирс, взятой на место Ханны. Он умер на следующий год, оказавшийся поистине трагическим: тогда же скончался и сам Уильям Хэррис, подорвавший свое здоровье, как все полагали, на Мартинике, где он подолгу находился в последние годы.
Овдовевшая Роби Хэррис так никогда и не оправилась от потери любимого мужа, а смерть старшей дочери, Элканы, нанесла последний удар по ее рассудку. В 1768 году у нее появились первые признаки помешательства, и тогда вдову пришлось перевести на второй этаж, ограничив ее передвижения по дому. Заботы о семье взяла на себя ее старшая незамужняя сестра, простоватая Мерси Декстер, перебравшаяся на Бенифит-стрит. Природа наделила сухопарую Мерси недюжинным здоровьем, которое, впрочем, после переезда заметно пошатнулось. Она была очень привязана к своей несчастной сестре и обожала племянника Уильяма – единственного из детей, кто остался в живых, хотя и превратился из былого крепыша в болезненного, непропорционально высокого и худого подростка. В том же году умерла служанка Митабел, а другой слуга, Презервид Смит, попросил расчет, не дав по этому поводу никаких вразумительных объяснений, а только бормоча нечто невнятное и все время повторяя, что в доме премерзкий запах. Мерси с трудом нашла новых слуг: семь смертей и сумасшествие, поразившие семью всего лишь за пять лет, могли хоть кого отпугнуть. Кроме того, по городу поползли разные слухи, обросшие со временем совсем уж фантастическими подробностями. Наконец ей удалось заполучить людей со стороны: угрюмую Энн Уайт, родом из той части Северного Кингстауна, которая теперь именуется Эксетером, и ловкого бостонского малого по имени Зенас Лоу.
Именно Энн Уайт впервые открыто заговорила о том, о чем шептались в городе. Мерси не стоило нанимать прислугу из такого Богом забытого местечка, как Нусек-Хилл, слывшего тогда, как, впрочем, и теперь, рассадником самых невероятных поверий и предрассудков. Если не далее как в 1892 году жители Эксетера эксгумировали труп и торжественно сожгли извлеченное из него сердце, дабы воспрепятствовать мнимым ночным хождениям покойника, якобы наводившего порчу на горожан, то можно себе представить, с какой силой могло разыграться воображение их предков в середине восемнадцатого века. У Энн был острый язычок, и спустя несколько месяцев Мерси пришлось расстаться с ней, взяв на ее место преданную и добродушную Марию Роббинз, мужеподобную амазонку из Ньюпорта.
Тем временем несчастную, полностью впавшую в безумие Роби Хэррис мучили сны и видения, о кошмарности которых можно было судить хотя бы по ее отчаянным воплям. Иногда истерические крики больной – свидетельство переживаемого ею ужаса – становились совершенно непереносимы, и тогда Уильяма забирал на время к себе его кузен Пелег Хэррис, живший на Пресбитериен-лейн, неподалеку от нового здания колледжа. Здоровье мальчика там сразу же улучшалось, и будь Мерси столь же мудра, как добродетельна, то позволила бы ему поселиться там насовсем. К сожалению, не осталось подробных сведений о том, что именно выкрикивала миссис Хэррис в приступах безумия, но дошедшее до нас представляется на редкость абсурдным. Ну разве можно поверить, что женщина, знавшая лишь несколько французских слов, могла часами ругаться на этом языке, прибегая к идиоматическим выражениям, известным лишь исконным французам? И чего стоили ее странные жалобы на некую ужасную тварь, пытавшуюся кусать и жевать ее, если она находилась под постоянным присмотром? В 1772 году умер Зенас, и миссис Хэррис, услышав об этом, засмеялась с видимым удовольствием, что было совсем на нее не похоже. А на следующий год и она отошла в мир иной и теперь покоится на Северном кладбище рядом со своим мужем.
Когда в 1775 году начались трения с Великобританией, Уильям Хэррис, несмотря на свои неполные шестнадцать лет, записался добровольцем в армию генерала Грина и за несколько лет значительно преуспел и в здоровье, и в чинах. В 1780 году он служил уже капитаном в войсках Род-Айленда под командованием полковника Энджелла, там, в Нью-Джерси, познакомился с Феб Хетфилд родом из Элизабет-тауна, женился на ней и на следующий год, вернувшись с триумфом в Провиденс, привез с собой и юную жену.
Однако возвращение молодого воина не превратилось в сплошной праздник. Дом, правда, находился в отличном состоянии, а улицу расширили, переименовав в Бенифит-стрит. Однако тетушка Мерси заметно сдала – от ее былой крепости не осталось и следа. Уильяма встретила скрюченная жалкая старушка с безжизненным голосом и бледным как смерть лицом. Похожие перемены произошли и с единственной не покинувшей семейство служанкой, Марией. Осенью 1782 года Феб Хэррис родила мертвую девочку, а пятнадцатого мая следующего года добродетельная Мерси Декстер, прожив жизнь в самоотверженном труде и заботах о близких, оставила этот мир.
Тогда-то Уильям, полностью уверовавший в нездоровый климат своего жилища, решил навсегда покинуть его. Временно сняв для себя и жены номер в только что открывшейся гостинице «Золотой шар», он затеял строительство более благоустроенного дома на Уэстминстер-стрит, в новом городском районе за Большим мостом. Там в 1785 году родился его сын Дьюти, после чего семья благополучно жила в этом доме до того времени, когда интересы коммерции заставили их перебраться ближе к прежним местам и поселиться в новой части восточного квартала, на проложенной вдоль холма Энджел-стрит. Именно там, где впоследствии, в 1876 году, покойный Арчер Хэррис воздвиг свой пышный, но безвкусный особняк с мансардой. В 1797 году Уильям и Феб скончались во время эпидемии желтой лихорадки, а Дьюти взял на воспитание его двоюродный брат Ратбоун Хэррис, сын Пелега.
Ратбоун был человек деловой и поспешил сдать дом н Бенифит-стрит внаем, несмотря на желание Уильяма, чтобы дом пустовал: он считал своим долгом сделать все, чтобы увеличить состояние подопечного. Ратбоун и впредь не озадачивался большим количеством смертей и болезней в доме, из-за которых там часто сменялись жильцы, а также растущей недоброй славой особняка. Похоже, он чувствовал только раздражение, когда в 1804 году городской совет обязал его обработать дом серой, дегтем и нафталином после очередных четырех смертей, о которых много говорили в городе, и не верил, что причиной их была все та же эпидемия лихорадки, уже сходившая на нет. По мнению же совета, о наличии источника инфекции говорил стоявший в доме гнилостный запах.
Самого Дьюти мало заботила его собственность: он вырос, стал морским офицером и проявил себя наилучшим образом в войне 1812 года, служа на судне «Виджилент» под командованием капитана Кехуна. С войны он вернулся в добром здравии, в 1814 году женился и стал отцом в ту незабываемую ночь двадцать третьего сентября 1815 года, когда в заливе бушевал невиданной силы шторм. Затопив полгорода, он вынес на улицы сторожевой шлюп, мачты которого уперлись прямо в окна дома Хэррисов на Уэстминстер-стрит, как бы символически подтверждая, что новорожденный Уэлком – сын моряка.
Уэлком погиб с честью у Фредерикберга в 1862 году, уйдя из жизни раньше своего отца. Ни он, ни его сын Арчер не были знакомы со страшной историей дома, относясь к нему просто как к неудачной собственности, которую трудно сдать из-за вечной сырости и гнилостного запаха, неудивительного в таком неухоженном и старом жилище. После нескольких смертей, последовавших одна за другой (кульминацией в количественном их нарастании стал 1861 год), дом никогда уже больше не сдавался, и только бурные события начавшейся войны заставили горожан позабыть обстоятельства этих зловещих кончин. По разумению Кэррингтона Хэрриса, последнего в семье представителя мужской линии, дом был заброшенным родовым гнездом, обросшим за долгое время множеством живописных легенд. Когда я поделился с ним жутким знанием, он хотел было тут же снести особняк и выстроить на освободившемся месте гостиницу. Но после того, как я открыл ему всё, он решил сохранить дом, провести водопровод и попробовать снова сдать его. Желающие поселиться нашлись тут же, и ужасные события были забыты.
III
Можно себе представить, как потрясла меня хроника семьи Хэррисов. Уйдя с головой в эти записи, я прямо-таки непосредственно ощущал присутствие там непостижимого, чудовищного зла, равного которому я не знал в природе. И связано оно было не с семьей, а с домом. Это мое впечатление подкреплялось множеством документальных свидетельств, обстоятельно собранных дядей, рассказами слуг, вырезками из газет, копиями медицинских свидетельств о смерти и тому подобным. Я не могу, разумеется, привести здесь все документы: дядя, страстный коллекционер по натуре, глубоко заинтригованный историей заброшенного дома, собрал их изрядное количество. Но кое-что повторялось во многих источниках, и вот об этом-то следует упомянуть. Из рассказов слуг, например, выходило, что злая сила таилась в смрадном, заросшем грибковой плесенью подвале. Некоторые слуги, особенно Энн Уайт, вообще избегали туда заглядывать. И еще: по меньшей мере в трех обстоятельных версиях упоминались корни деревьев и плесенные наросты, в дьявольских очертаниях которых угадывались искаженные формы человеческих фигур. Эти рассказы меня особенно заинтересовали, так как и я видел в детстве нечто подобное, хотя у меня было чувство, что каждый рассказчик привносил в историю колорит своего родного фольклора.
Энн Уайт, с ее эксетерскими предрассудками, предлагала самую экстравагантную и одновременно самую логичную версию. Она утверждала, что под домом похоронен один из тех вампиров, которые, чтобы сохранить свою плоть, должны пить кровь и красть дыхание у живых людей. Именно с этой целью ужасные полчища мерзких созданий бродят по ночам в виде привидений или прикидываясь людьми. Энн требовала поскорее взяться за поиски в подполе гнусной могилы, и эта ее упрямая настойчивость стала одной из причин, по которой с ней предпочли расстаться.
Ее рассказы пользовались, однако, большим успехом у соседок, оно и понятно – дом и вправду стоял на земле, где когда-то было кладбище. Это обстоятельство, хоть и весьма существенное, было для меня все же не столь важно рядом с другим: предположения Энн подтверждались жалобами Презервида Смита, слуги, уволившегося до прихода Энн и знать ее не знавшего. Смит утверждал, что кто-то по ночам «высасывает из него силы». Как тут не вспомнить свидетельства, подписанные доктором Чэдом Хопкинсом, о смерти четырех людей, скончавшихся якобы от желтой лихорадки в 1804 году! В них тоже говорилось о патологическом малокровии жертв. И несчастная Роби Хэррис кричала в бреду о некоем призрачном существе с остекленевшими глазами и острыми клыками.
Хотя я с предубеждением отношусь к разного рода предрассудкам, но здесь стоило призадуматься, особенно после знакомства с двумя газетными заметками разных лет, в которых говорилось о странных смертях в заброшенном доме. В статье из «Провиденс газетт энд кантри» от 12 апреля 1815 года и в другой – из «Дейли транскрипт энд кроникл» от 27 октября 1845 года – сообщалось о поразительно похожих, приводящих в содрогание случаях. Казалось, что описывалась одна и та же кончина. И благочестивая пожилая леди Стэффорд, почившая в 1815 году, и школьная учительница Элизар Дюрфи перед самой агонией чудовищным образом преображались: взгляд их стекленел, а при осмотре они старались впиться зубами в горло врача. Еще более удивительные обстоятельства сопутствовали той череде смертей, после которых дом на Бенифит-стрит навсегда опустел. Больные теряли рассудок, а потом стремительно погибали от прогрессирующей анемии. Впав в безумие, они покушались на жизнь близких, изобретательно изыскивая возможность вцепиться зубами им в горло или запястье.
Мой дядя занялся врачебной практикой то ли с 1860, то ли с 1861 года и уже тогда слышал об этих таинственных случаях от старших коллег. Самым необъяснимым в них представлялось то, что жильцы (а последние годы дом снимали неграмотные, темные люди – чистую публику отпугивали мерзостный запах и плохая репутация дома), не знающие ни слова по-французски, заболевая, проклинали всех и вся именно на этом языке. Как тут было не вспомнить бедную Роби Хэррис, скончавшуюся почти столетие назад! На дядю произвело сильное впечатление все услышанное, и, вернувшись с фронта, он занялся сбором информации о странных смертях в заброшенном доме, в чем ему очень помогли доктора Чейз и Уитмарш, давшие, как говорится, сведения из первых рук. Дядя много и серьезно размышлял над этим феноменом и был несказанно рад моему неподдельному интересу: теперь ему было с кем обсуждать то, над чем посмеивались другие. Он не обладал моей пылкой юношеской фантазией, но опыт подсказывал ему, что таинственное место способно воспламенить воображение и превосходит все известное в области таинственного и ужасного.
Я же отнесся ко всему исключительно серьезно и, не желая ограничиваться пассивной ролью слушателя, старался сам добыть новые сведения. Беседуя много раз с престарелым владельцем заброшенного дома Арчером Хэррисом вплоть до его смерти в 1916 году, я получил от него, а также от незамужней сестры Арчера Алисы, здравствующей и ныне, подтверждение собранной дядей информации. На мой вопрос, что могло связывать дом с Францией, оба недоуменно молчали. Арчер вообще ничего не знал, а мисс Хэррис в конце концов припомнила, как ее дед, Дьюти Хэррис, что-то такое рассказывал. Старый моряк, переживший на два года своего сына Уэлкома, павшего в сражении, не знал всей легенды полностью, но вспоминал, как его старая няня, Мария Роббинз, говорила о бредовых выкриках на французском языке Роби Хэррис, за которой ухаживала до самой ее кончины. Мария жила в доме Хэррисов с 1769 по 1783 год в пору, когда семья окончательно покинула опасное жилище, и присутствовала при смерти Мерси Декстер. Как-то она упомянула малолетнему Дьюти о странном поведении Мерси в ее последние минуты, но он вскоре все забыл, помня только, что речь шла о какой-то дикости. Впрочем, даже эти, крайне неопределенные, подробности внучка Дьюти вспомнила с большим трудом. И она, и ее брат мало интересовались историей дома, в отличие от нынешнего его хозяина – Кэррингтона Хэрриса, сына Арчера, которому я без утайки рассказал о жутком нашем расследовании.
Собрав всю доступную информацию о семействе Хэррисов, я стал внимательно изучать документы, относящиеся к прошлому города, занимаясь с захватывающим интересом тем, чему дядя не уделил должного внимания. Мне хотелось составить связное представление об истории поселения начиная с 1636 года, а может, и с более ранних времен, если посчастливится разыскать индейские легенды, бытовавшие в районе Наррагансетского залива. Я узнал, что земля, на которой впоследствии построили дом, была частью протянувшегося вдоль побережья владения, пожалованного в свое время Джону Торкмортону. Земли, дарованные другим колонистам, начинались также недалеко от реки, где теперь пролегает Таун-стрит, и тянулись вверх по холму в направлении нынешней Хоуп-стрит. Земли Торкмортонов, по мере разрастания рода, дробились, и мне надлежало установить, к кому же перешел злосчастный участок на Бэк-стрит, или, что то же самое, на Бенифит-стрит. По слухам, там располагалось кладбище рода Торкмортонов, но, порывшись в старых бумагах, я выяснил, что их останки со временем перезахоронили на Северном кладбище, близ дороги на Потакен-Уэст.
Затем я наткнулся на документ – надо сказать, по чистой случайности, так как он лежал отдельно от всех остальных, – который возбудил мое острейшее любопытство: документ прояснял наиболее странные обстоятельства дела. Это была запись о сдаче в аренду Этьену Руле и его жене в 1697 году небольшого участка земли из владения Торкмортонов. Вот он, французский элемент! Я начал досконально изучать расположение отдельных участков перед тем, как проложили, а затем и выровняли Бэк-стрит, то есть за 1747–1758 годы, и тут на меня дохнуло ужасом, пожалуй, не меньшим, чем с самых зловещих страниц когда-либо читанных оккультных книг. То, что я подсознательно уже знал, подтвердилось: там, где теперь стоял заброшенный дом, было кладбище семейства Руле; оно непосредственно примыкало к их жилищу – одноэтажной постройке, и не существовало никаких свидетельств, что останки захороненных там людей куда-либо переносились. Так как из найденного мною документа ничего более нельзя было извлечь, мне пришлось перерыть всю Историческую библиотеку Род-Айленда, а затем и Библиотеку Шепли, прежде чем я выяснил, кто же такие были эти Руле.
Семейство Руле прибыло в наши места, как выяснилось, из Ист-Гринвича, расположенного на западном берегу Наррагансетского залива. Власти Провиденса долгое время колебались, разрешить ли этим гугенотам из Кода обосноваться в городе. В Ист-Гринвиче, куда Руле приехали после отмены Нантского эдикта, их недолюбливали. Эта неприязнь проистекала, по слухам, не из расовых или национальных предрассудков и не из-за споров о земле – вечном поводе для раздоров между французскими и английскими колонистами, которые не смог притушить даже губернатор Эндрос. Но, учтя их стойкую приверженность к протестантизму, слишком уж яростную, по мнению некоторых, – а также их неподдельную скорбь по утраченному домашнему очагу, которого их практически насильственно лишили, власти даровали им приют в Провиденсе. Более того, смуглолицего Этьена Руле, который мало что смыслил в сельском хозяйстве, зато много преуспел в чтении мудреных книг и часами рисовал диковинные диаграммы, назначили клерком при товарном складе, обслуживающем верфи в южной части Таун-стрит. Именно там позднее разразился бунт, но это было лет сорок спустя, когда старик Руле уже умер. После этого события семейство покинуло город, и дальнейшая его судьба покрыта тайной.
Но о них не забывали еще долго; в течение целого столетия, а может, и больше, пребывание здесь Руле вспоминали как бурный эпизод в размеренной жизни морского порта Новой Англии. Особенно часто обсуждали сына Этьена, Поля, мрачного субъекта, своим странным поведением спровоцировавшего бунт, после которого семейство убралось из города. В Провиденсе никогда не практиковалась охота за ведьмами, что частенько случалось в пуританских селениях по соседству, но о Поле поговаривали, что он никогда не преклоняет колена в отведенное для молитвы время, да и молится-то непонятно кому. Эти слухи и лежали в основе легенды, известной старой Марии Роббинз. Однако все это не объясняло, какая существовала связь между семейством Руле и бредом на французском языке Роби Хэррис и прочих домочадцев. Не знаю, сопоставлял ли кто-нибудь из жителей города эти легенды с ужасными событиями, известными мне из старой литературы. Я имею в виду то зловещее дело, которое неписаная история мирового Зла связывает с именем Жака Руле из Кода