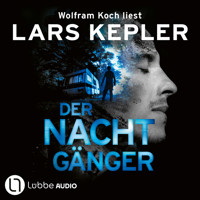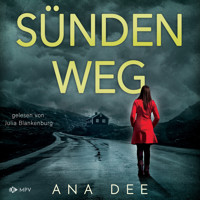Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Русский исторический бестселлер
- Sprache: Russisch
Середина XVI века. Царь Иван IV ещё не стал Грозным Он изо всех сил старается воплотить в жизнь свою мечту: присоединить к Московскому государству бескрайние заволжские земли. Но неодолимой преградой к этой цели стоит непокорная Казань. Искусные всадники татарского князя Епанчи громят русские сотни. Поражения вынуждают царя изменить тактику. Он начинает строить мощные крепости под носом у казанцев и готовить сокрушительный удар. Пережить этот драматический период своей жизни Ивану Грозному помогает нежная, преданная ему казанская красавица Сююмбике. Царь по-юношески влюблен в нее, его сердце без остатка отдано ей. Ей, дочери хана Юсуфа из Ногайской орды, заклятому врагу русского самодержца…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Соколов ГрозныйПервый настоящий император Руси
Серия «Русский исторический бестселлер»
В оформлении переплета использована иллюстрация художника И. Варавина
© Соколов С., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Русь начинается с Рюрика,
Россия начинается со ВЗЯТИЯ!
Предисловие
Откуда начинается Россия? Былинные Киевские времена трогательны и дороги сердцу, а дохристианская Русь, как корни огромного дерева, надежно спрятана от нашего познания в слоях исторической почвы. Неугасающая свеча православия на Клязьме и Нерли среди междоусобицы и дикого нашествия. Древние московские князья, вбирающие в свою калиту мелкие городки и уезды, готовые ради своей маленькой вотчины на Боровицком холме резать соседей и унижаться перед Ордой… Все это, безусловно, наши милые ветхозаветные истоки.
Само слово «Россия» звучит как исключительно планетарное. Россия – это от океана до океана, от ледяных панцирей до ласковых южных морей. Это могучий Урал и вольный Кавказ, это тысячи верст тайги, это когда шпалы кончились и рельсов нет, а тайга все простирается за Байкал до самого Амура! Россия – это благолепный колокольный звон и призыв муэдзина, звезды Давида в палатах Булгарских ханов, таинство причастия и стройность мечетей. Россия – это много, разнообразно и необъятно!
Волгой, конечно, можно считать и скромную речку в Тверской области, но настоящая Волга с воспетыми утесами и ширью начинается после впадения в нее больших рек. Можно считать началом Руси приход варягов, но Россией она становится после объединения Европы и Азии. А началось оно после присоединения Казанского ханства к Московскому государству осенью 1552 года. И тут уж – как при впадении Камы в Волгу – еще надо разобраться, кто в кого впадает…
Проект присоединения Казанского края к Москве, который совершили наши предки, не имеет аналогов в истории по своему масштабу, технической оригинальности и здоровой наглости. Ведь что, собственно, произошло? Молодой царь с небольшим опытом государственного управления, с кучкой молодых же единомышленников встал перед огромной проблемой – Казанским ханством. Наследница Великого Булгара – Казань за сотню лет корнями и ветвями переплелась с государством московских князей, но по своему политическому складу была для Москвы смертельным врагом и тяжелым препятствием. Что делали многие десятилетия предки Ивана IV и он сам по юности с этой проблемой? Традиционно устраивали зимний поход, чтобы не отрываться от земледелия и не портить нивы, с большим или меньшим успехом намять казанцам бока и вернуться до весенней распутицы. В итоге «Маруся – от счастья слезы льет!», но заноза остается в том же месте.
Строительство крупной крепости в верховьях Волги, сплав и сборка ее стен и башен в максимальной близости от столицы государства с сильным военным режимом, умелое привлечение в свою орбиту дружественных или невраждебных народов Поволжья и казанских кланов и, наконец, штурм и последующий прорыв в просторы Азии – такого не совершал никто до Ивана, прозванного впоследствии Грозным. И все это на глазах не успевших ничего противопоставить Турции и Крымского ханства, которые тоже не были простачками. Достаточно вспомнить, что крымский хан отомстил за взятие Казани через несколько лет – сжег Москву.
Казалось бы, на протяжении своего существования человечество только и делало, что строило, захватывало и разрушало города. Когда-то греки взяли Трою, турки разгромили Константинополь и заняли его окрестности – что тут удивительного? А то, что «колонизация», как любят в литературе называть присоединение Казани к Русскому государству, проходила тут совсем по-другому. Например, испанцы покоряли Америку. Но разве отдавали они побежденным целые города в своих метрополиях, где-нибудь под Севильей? Это даже дико представить. А вот русские государи отдавали казанским татарам в полное правление целые города и княжества. Хану Шах-Али – Касимов на Оке. Побежденному хану Ядыгару – Звенигород под Москвой, а братьям Сююмбике – сыновьям хана Юсуфа – город Романов на Волге, позже ставший Тутаевом. Как родного растил при себе Иван Грозный сына хана Сафы-Гирея и Сююмбике, а из потомков отца Сююмбике – хана Юсуфа – на благодатной русской почве вырос целый дворянский род, один из самых богатых и влиятельных в России – династия Юсуповых.
Мне одному кажется, что здесь есть какая-то недосказанность, какой-то пробел в исторических трудах? Грозный царь, который, судя по учебникам, книгам и фильмам, мог уничтожать целые города, не стеснялся лично участвовать в пытках и казнях и был крайне подозрителен даже к близким друзьям и родственникам, не то что к противникам – этот серийный убийца вдруг проявляет такую невероятную милость к верхушке враждебного государства. Ну казанский хан Шах-Али понятно – он и его касимовские татары давно служили русским князьям. Но хан Ядыгар и жена бывшего хана Сююмбике, ее сын и родственники – откуда такая беспримерная забота, желание Ивана Грозного устроить им жизнь в полном достатке, почете и богатстве?
Глубокое, я бы даже сказал, любовное изучение истории России на протяжении всей сознательной жизни приводит к выводу, что она изобилует огромным количеством белых пятен. Одно и то же событие обрастает несколькими версиями, и каждая имеет под собой почву и противоречит другой. Мы знаем точные даты и места событий восстания Спартака или составления Хартии вольностей Англии, но мы не знаем точно, где были подготовлены стены, башни и церкви Свияжска, которые потом были разобраны, сплавлены вниз по Волге и собраны уже на месте. Ну что это значит «срублен в Угличских лесах в вотчине бояр Ушатых», как указано во многих исторических исследованиях? Один ученый считает, что это пригороды Углича у села Золоторучья. Другой предлагает поискать следы этого масштабного строительства у города Мышкина. А третий отсылает к княжеству Моложскому, откуда вышли бояре Ушатые, и к городку Глебову, где Волга в те давние времена начинала быть судоходной. Ничего себе! Где Углич, который был вотчиной Великих московских князей, и где Глебово с Ушатыми? Летописные сведения подобно картам диверсантов как будто созданы, чтобы запутать врага!
История словно сторонится последних лет жизни Сююмбике. Увезена в Москву в 1551 году, насильно выдана замуж за бывшего казанского хана – вассала русского царя Шах-Али и умерла в Касимове. Могила неизвестна. Как-то слишком мало сведений для исторической личности, женщины – правительницы Казанского ханства, изысканной красавицы, жены двух, а с Шах-Али – трех казанских ханов, героини татарского эпоса, вы не находите?! Может быть, сведения о ней нарочно утрачены, чтобы что-то скрыть? Или при ее жизни – для безопасности, а может, и потом – чтобы принизить ее роль?
О самом Иване Грозном написано книг и снято столько фильмов, что, казалось бы, уж тут-то все понятно. Но и его фигура в доступных для широкого круга источниках настолько демонизирована и упрощена, что это приводит к абсурдным парадоксам. Особо выделяется страсть Ивана IV к мучению людей, убийствам, издевательствам и надругательствам. Если описание этих зверств сложить в совокупности, то возникает ощущение, что ни на что другое времени просто не должно оставаться. Насиловал чужих жен, топил собственных, давил людей на улицах, изощренно казнил, лично пытал, пьянствовал и развращал юношей… Когда только на все это находил время уникальный человек, которому нужно было продумывать отношения с Турцией, Крымом и странами Европы. Проводить, причем эффективно, военную реформу. Составлять планы военной кампании на Волге и лично принимать в ней участие. Отдавать указания и контролировать масштабное строительство от острога в Алатыре до каменных соборов в Казани и Свияжске. Это все может делать сумасшедший маньяк, как его рисуют? Так ведь не Ивана одного. Младший брат его, Юрий, по мнению составителей исторических трудов, был «безумен, бессловесен». Сын Ивана, русский царь Федор Иоаннович – «постник и молчальник, слабый здоровьем и умом». Как сопоставить, что в годы правления этой семейки слабоумных и маньяков были основаны города Воронеж, Белгород, Самара, Саратов, Царицын (шутка ли – будущий Сталинград!), Тюмень, Сургут и т. д. Как это они сами возникли и управлялись, если царь был занят исключительно насилием? Когда смотришь на шедевр мирового зодчества собор Василия Блаженного и сопоставляешь его дивный облик со сводным образом кровожадного до бессознательности Ивана IV, то несоответствие, несовпадение пазлов возникает само по себе. В этом месте только не подумайте, что я буду изображать Ивана Грозного гуманистом! Войны, пытки и казни сопровождали путь любого создателя империи, начиная от властелинов античности до Петра Первого и вождей XX века. Главное-то в том, что в своей жизни Ивану IV довелось принимать важнейшие решения, которые в итоге заложили основы, да просто стали актом рождения России. И ведь до принятия этих решений он наверняка сомневался, когда что-то не получалось – отчаивался, но все равно делал.
Я не могу отделаться от сопоставления событий середины XVI века с делами, происходящими в России начиная с 1999 года. Ныне действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин, наверное, тоже в чем-то сомневался, когда принимал тяжелые решения. Ну вот получить в руководство страну, в которой каждый из субъектов понабрал себе «суверенитетов – сколько хотим», вплоть до противоречащих законов, чуть ли не собственных армий, притеснений по национальному и языковому признаку. Уверен, очень трудно было урезать непомерно раздувшиеся за 1990-е годы интересы региональных элит и привести всю нашу многообразную страну к единому праву и порядку. Где-то это удалось убеждением, а где-то только с применением жесткой силы. Ну а что было делать? Ждать, пока страна погрузится в раздор и хаос гражданских войн?
Пример возвращения Крыма в Российскую Федерацию еще ярче. Президент не мог не понимать всей ответственности трудного решения, грядущего обострения отношений на мировой арене, сложностей экономического плана. Но а что было делать в исторической перспективе? Какой еще мог быть вариант? Оставить наших бывших сограждан, отчаянно на протяжении двадцати лет стремящихся к России, на произвол судьбы? Дождаться, что базы Черноморского флота займут корабли чужих стран? Если не сравнивать нюансы и масштабы, то свершения эти по исторической значимости очень похожи на сделанное в середине века XVI. При присоединении Крыма мировая общественность ахнула: «Надо же, впервые за многие десятилетия Россия не утерлась, не бросила русских за своим рубежом, а посмела заступиться!»
Такое же впечатление на мир произвело и взятие Казани в 1552 году и последовавшие события. Русское государство впервые за сотни лет не жертва набегов с юга и востока, а победительница, распростершая свою власть за Волгу, присоединяющая казавшиеся неукротимыми Казанское, Астраханское ханства, земли Ногайской орды, Приуралье и далее. А что было делать царю Ивану? Дожидаться, пока южные владыки насадят в Казани своих марионеток, которые опять повернут дело к ежегодным кровавым набегам? Оставить в плену и рабстве тысячи захваченных при этих набегах? Терпеть и дальше удушающий хомут на Волжском речном пути? И это при том, что от режима ханской Казани многие мурзы и беки со своими семьями и нукерами перешли на службу Москве и даже храбро участвовали в осаде и штурме Казани.
Во многом с вдохновением от состоявшегося возвращения Крыма в Россию у меня получилась книга о самом важном событии в истории России: присоединении Казанского края к государству, создаваемому еще дедом Ивана Грозного с центром в Москве. Именно с этого момента родилась Россия, вся сила и красота которой в многогранности населяющих ее народов. Как у родившегося в муках человека потом будут школа, институт и свадьба, так и у родившейся новой страны потом будут и Смута, и мыс Дежнева, и окно в Европу, и присоединение Украины, и революции. Но из Московского государства в Россию наша страна превратилась в 1552 году именно тут, при впадении Свияги и Казанки в великую Волгу.
Каждый из великих деятелей огненного и прорывного XVI века, будь то царь Иван Грозный или сеид Кул-Шариф, имеют важнейшее значение для истории России, потому что именно в результате их дел, пусть и в разных векторах, начала складываться империя, наследницей которой является современная Россия. Дела каждой исторической личности, как Казанского ханства, так и противостоящей ему стороны, заслуживают более глубокого изучения, уважения и дискуссии. Их нельзя упрощать до наивных небылиц.
За юмористическим слоганом «Казань брал! Астрахань брал!» стоит не прихоть монарха – пошел и взял, что плохо лежало. Задолго до решающего 1552 года отношения Казани и Москвы переплелись так, что их объединение было предопределено географически, политически, экономически. Тысячи казанских татар на службе у московских князей, наличие целых татарских княжеств внутри русской метрополии, многочисленные ставленники Москвы на Казанском троне и теснейшие торговые связи – это все уже было. При взятии Казани в смертельной схватке сошлись не русский народ против татарского, а принципиально непримиримые соперники-личности, каждый из которых, что с одной, что с другой стороны, достойны уважения и памяти.
Если мне повезет, то читатели осилят эту книгу до конца, и каждый увидит в ней что-то свое. Поэтому предупреждаю сразу. Автор этого художественного произведения испытывает нулевую толерантность к любым проявлениям национализма и розни по религиозным и этническим признакам, одинаково уважает как последователей ислама и христианства, так и атеистов, ненавидит войну и насилие в любых проявлениях. А если книга вызовет споры и желание докопаться до истины, прочитать научные труды, а лучше посетить места событий: Москву, Казань, Свияжск, Углич – то это будет достойным результатом. Значит, не зря я засел за компьютер холодным московским вечером в апреле 2018 года.
Том I
Утро в Напрудном
Ранним летним утром, когда высоко летающие ласточки в бесцветном небе обещали знойный день, Александр Иванович Молога с приятным кряхтением распрямил спину, поставил одну ногу на широкую дубовую колоду и начал раскуривать короткую трубку. Наваленная кучка колотых четвертушками дров свидетельствовала о том, что мастер встал до рассвета. С годами по утрам хочется спать все меньше, уж слишком быстро начинает бежать жизнь. А без дела Мологу никто и никогда не видел. В редкие, свободные от службы дни он все время что-то делал: чертил на досках березовыми угольками, что-то измерял заграничными циркулями, выпиливал, строгал или вытачивал деревянные детали. Для этого к главному дому с каменным подклетом была пристроена длинная мастерская, а к мастерской еще избушка, в которой для большой работы селились подмастерья. Но в основном жизнь Александра Ивановича протекала на постройке церквей, теремов, изб для служилого люда и других деревянных сооружений, то есть согласно призванию зодчего.
Утреннюю тишину нарушил скрип телеги, негромкое пересыпание молодых голосов, прыски девичьего смеха. Это сельские ребята шли с сенокоса. Что-то хлопнуло на мельнице, колесо которой крутилось водами чистой речки, обрамленной камышами и осокой. Раздался бас мельника, ярко объяснявшего кому-то из нерадивых работников его место и личные качества, и легкий ветерок доносил сочные многоэтажные фразы. На звоннице Трифоновской церкви осторожно прозвенел колокол, потом еще. Напрудная слобода просыпалась и приходила в движение.
С намерением разбудить внука и заставить его складывать дрова в поленницу Александр Иванович притушил трубку, вытряхнул остатки табака и пепла и начал подниматься к двери в дом. Дробный топот копыт за воротами заставил его замедлить и обернуться.
– Иваныч, доброго утра! Отворяйте, тверичи! – раздался задиристый звонкий голос с улицы. «Ваську, племянника, с утра принесло», – подумал Молога.
– Василий, за каким лядом приехал? – для виду строго спросил мастер и двинулся к воротам. Опережая деда, перепрыгивая порог и ступеньки, с крыльца слетел и помчался к калитке мальчишка лет двенадцати, в длинной рубахе, без подштанников и босиком.
– Дядя Вася, открываю! Заводи Марусю! – крикнул мальчик, ловко отщелкивая засов и, придав всем своим щуплым тельцем веса, распахивая тяжелую створку.
– Марусечка! – Мальчик погладил по морде и принял под уздцы кобылу песчаного цвета.
– Сергуля, здоров! Из колодца воды не давай Маруське, простынет! Из бочки тепленькой… Здоров, дядя Саша! – Всадник с большей, чем полагалось его возрасту и фигуре, важностью спустился с лошади и протянул руку Мологе.
– Здравствуй, Вася! Ты что павой вырядился? Кафтан на тебе не то литовский, не то фряжский. Проходи в дом! – скомандовал мастер.
А Вася и правда был одет с иголочки, роскоши к кафтану цвета темной черешни и новеньким мягоньким сапогам добавляла широкая сабля в ножнах с почти незаметным изгибом. Ну то есть из таких клинков, которые уже и не меч, но и не сабля в татарском или турецком понимании. Расшитая перевязь, широкий серебряный пояс, за который был заткнут вишневый же клобучок, – в общем, все у молодца было нарядно и ново.
– А вот так, дядя Саша, дивись, какая форма теперь у нашего полка! – сказал Васька, усаживаясь на скамью в светлой горнице. – Это ж как продумали воеводы! Чтобы каждый полк таким цветом, каким потом удобно поле боя различать и руководить. Какой, значит, полк для атаки, какой осадный, какие правой – левой руки. Взглянет государь из ставки, и все ему видно, куда кого направить, все по своим цветам!
– Дивлюсь, дивлюсь на тебя, Васька! Ростом вымахал, а умом еще не вырос. Какое сукно для полка твоего поставили, из такого и пошили кафтаны. Другого, знать, в этот раз не было. – Лидия, давай на стол! – скомандовал Молога, усаживаясь в свое кресло в торце стола.
Из бокового низенького проема, откинув полог, появилась женщина лет двадцати восьми, с коком черных волос и фигурой, свойственной и характерно украшающей многих женщин юго-западных окраин Руси. То есть с крупным бюстом, тонкой талией и внятными бедрами. Она сунула Василию корытце с водой и рушничок. Вася быстро обмакнул в воду широкие ладони и наспех вытер, не только не сказав спасибо, но даже не взглянув на Лидию. А если бы и сказал, она не смогла бы ему ничего ответить. Лидия досталась Александру Ивановичу в качестве гонорара за работу в Вильне, куда его для работы пожаловала на два года государыня Елена Глинская. Казаки лихо прошлись тогда по землям литовским, побили народ, пожгли дома, церкви и башни, навершия к которым отстраивали потом Молога и такие, как он, мастера. А Лидия после ухода донской вольницы осталась одна из немногих живой и здоровой, но с урезанным языком. Впрочем, как домашняя прислуга Мологу она вполне устраивала, так как обеспечивала его и Сергулю чистыми рубахами и едой, которую умела вкусно приготовить из того, что на тот момент есть.
– Ну насчет кафтанов ладно, пропущу! – проворчал Васька, набивая рот кровяной колбасой и запивая квасом. – А вот пищали теперь – это главная сила. И вообще огневой бой – это основное. Государь наш молодой, да умом велик. Из лучших бойцов приборы стрелецкие повелел составить, ну отряды, значит. И лучших из лучших при себе, в Белом городе, держать решил.
– Ты из лучших, значит? – переспросил Молога.
– А то как?! – поняв подвох и придав насколько возможно хитрое выражение своим открытым голубым глазам, продолжал Васька. – Это и в других землях такой уклад завели, а наш государь не хуже. И при английском, и при французском королях, сказывают, пищальники состоят. Да только у них для охраны государя, а у нас-то все поболее: в каждом городе теперь будут полки стрелецкие.
– Мушкетеры у них, Васька! С мушкетами они. Ну это что твоя пищаль, тут ты прав. Ладно, чего приехал, скажи, пока все секреты государевы не выболтал?
– Собирайся, дядя Саша! На совет к дьяку повезу тебя. За воротами два бойца моих и конь запасный.
– Когда совет?
– В полдень, дядя Саша, – сказал Васька уже серьезно, стряхнув с себя крошки и вытерев рукавом губы.
– Знаешь что, Вася. Какой-то холодок у меня от фраз таких: «Отвезу тебя!» Не за что меня еще под светлые очи отвозить. Ты поезжай, а я к полудню и сам дойду.
– Как знаешь, – ответил Василий. – Только не протяни. Большой совет будет, всех зодчих дел мастеров собирают, что на Москве сейчас.
– Буду, буду. Давай.
Вася бодро вышел на воздух, сбежал с крыльца, потрепал по вихрам Сергулю, кормившего морковкой Марусю, и вскочил в седло. Подняв за собой дорожную пыль, всадники двинулись рысью по направлению к Ярославскому тракту.
– Сергуля! Руки мыл? Подкрепись поди, оденься. В Кремль идем сегодня, – отдал поручение Александр Иванович.
– В Кремль идем! Идем! – радостно подхватил мальчишка и помчался собираться. Через короткое время дед и внук, одетые почти празднично, спорой, но мерной походкой шли по старой Переяславской дороге навстречу уже высоко стоящему в небе солнцу.
Дорога к Кремлю
Для Сергули было прямо подарком идти с дедом, а не оставаться с молчуньей Лидой на хозяйстве. Пришлось бы рубить на мелкий хворост упавшую накануне яблоню, вытаскивать из досок и выпрямлять старые гвозди. Дед больше всего не любил в людях безделья, поэтому внуку всегда доставалось много заданий, подчас очень скучных. А еще мог бы прийти поп из Трифоновской церкви, и пришлось бы засесть за правописание, потом за арифметику… В общем, сердце мальчика весело стучало, заставляя прыгать через кочки и камушки и задавать деду всякие вопросы.
– Дедуля, а вот мы далеко живем от Москвы, за лесом. Куда лучше тем, кто ближе живет, да? Веселее на Москве-то, да?
– Веселье не главное в жизни. Что тебе веселье? На Христово воскресенье и так в Москву ходишь, на ярмарку по осени тоже. Чего еще?
– Так тут торг вокруг, каждый день что-то новенькое. То на Красной площади засекут кого или голову срубят – все местные глазеют. А мальчишки, ровня моя, уже многие приторговывают, кто пирожки-калачи продает, кто побрякушки всякие. Всегда деньгу имеют. А не сидят взаперти…
– Эх, внучок! Легкие деньги они быстрые, причем и в обратную сторону. Легко пришли – быстро уйдут. Да и не торгаши мы с тобой, у нас мастерство в роду. И случайных людей на Москве много стало, залетных. Легкой жизни ищут под царским боком. И просто много, весь посад забит новгородскими, псковскими, окраинцами с Дона, булгарцами с Камы, другими инородцами. Мусорно стало, душно. На Мясницкой от лавок тесно, отходами целое озеро запоганили, вонь и мухи. Вдоль Неглинной столько мылен да кузней, что уж и не река под Кремлем, а канава сточная. А пожары! От тесноты-то да по глупости Москва горит чуть не через лето. Дом занялся, потом соседние, и пошло. Не-ет, в Напрудном куда вольнее и спокойнее. – В своем повествовании Молога умолчал, что сам с семейством перебрался в Москву из Тверского княжества всего-то лет 20 назад – на постройку Китайгородской стены, да так и остался. И село Напрудное выбрал не сам, а просто указали ему место в слободе, там он и осел.
– А вот еще на Москве веселье – идут конные напуском по улице, галопом, а ребята вперед перед ними выбегают, и кто сколько пробежит. Главное свернуть вовремя, чтоб не снесли.
– Ты где этих глупостей набрался?! Прекрати болтать, Сергей! Потерял я уже мать твою и бабушку, хватит с меня. – Переход на полное имя означал, что дед не шутит. Сергеем мальчика называли, когда он загулялся с мальчишками и не выполнил дедовы поручения, ничего хорошего это не сулило.
– Дедуля, а мы купим седня че-нить? – сказал Сергуля и примолк. Он уже знал, что настроение деда переменчиво и важно, каким оно будет при выходе из-за Кремлевской стены.
– Что-нибудь точно получишь, – ответил дед.
За разговорами они подошли к скромным воротам Сретенского монастыря. Молога был не слишком набожным человеком. Как мы уже увидели, он даже курил, что в те времена было не принято и церковью никогда не одобрялось. Закурил в Литве, так и пошло, потом все вокруг уже рукой махнули. А в деревянную церковь Сретенского монастыря он заходил по привычке, потому что сам ее задумывал и строил. Когда по приказу государыни Елены Глинской обносили Китай-город новой кирпичной стеной, было решено перенести старый Сретенский монастырь. Та самая обитель, где встречали воинов после битв с ордынцами, где молились Владимирской иконе о спасении от войск Тамерлана, раньше располагалась между рядами Китай-города и устьем Яузы и лишь по необходимости была перенесена на новое свободное место в конце улицы Лубянка. А название монастыря сохранилось и продолжало соответствовать положению. На старом месте он встречал двигающихся по Солянке из Орды, на новом месте – входящих с севера, из Троице-Сергиевой лавры, из Ярославля, обозы с речных волоков. В общем, «сретенка – встретенка» была Мологе по душе. Перекрестившись и отбив поклоны, наши путники вошли на монастырский двор и направились к деревянной церкви, что названа была в честь Марии Египетской.
В церкви пахло свежим деревом, ритуальными маслами и теплым воском. Мастера, который только что успел незаметно положить в щелку для пожертвований мечевую копейку, сразу заметил высокий священник в черной рясе. По статности и красоте нагрудного креста было понятно, что в иерархии он занимает место не ниже епископа.
– Приветствую тебя, Александр Иванович! – Священник направился к мастеру, радушно улыбаясь сквозь черную с проседью бороду и пышные усы.
– Благослови, батюшка! – Молога сложил ладони одна в другую и немного склонился. То же, глядя на деда, сделал и Сергуля.
– Бог благословит! – дважды произнес батюшка, перекрестил головы и подал руку для целования. Прикоснувшись к руке игумена, Сергуля засмущался и вообще постарался стать незаметнее.
– Что, мастер, не сидится на месте? Или для служения пришел? – лукаво и по-доброму пробасил священник. – Работы тебе и ватаге твоей плотницкой у меня непочатый край.
– Я всегда рад поработать у тебя в обители, отец Владимир. Светлое место у тебя тут. Да по срочному делу, в приказ вызван. Видно, боярину ближнему новые хоромы нужны, терем или дворец потешный. Так что потом тебе службу сослужу.
– Не так все просто, Александр Иванович! Пустословием держать тебя не буду, грех, да и спешишь. Знай только, время неспокойное наступает. Государь-батюшка дело задумал великое, труднейшее. Не для потехи позвали тебя, да и остальных. Служивых собирают для похода далекого. Помолись-ка с внучком у Владимирской иконы, вот тут. Как вырос-то, помощник дедов! – Игумен потрепал Сергулю по макушке. – Возьми-ка вон там свечку да поставь у иконы!
Мальчик в нерешительности замешкался у ящика со свечами разного размера.
– Ты бери всегда маленькую, давай-ка и я с тобой! – ободрил его священник. – А чтобы Богу и Богородице виднее было, поставь к иконе поближе, вот так! Поди-ка сюда, сынок, наклони голову! – Сергуля послушался.
– Вот тебе на шею образ Сергия Радонежского, из лавры вчера привезли. Знаешь, кто это? Носи, не снимай.
– Мой святой, спасибо большое, – проговорил тихо Сергуля. Нательный образок был и впрямь удивительный. Во-первых, несколько больше обычного, для подростка великоват, во-вторых, лик святого был намного точнее канонического, Сергий был на нем как живой.
– Благодарю, отец Владимир. Пора нам. Управимся с государевым делом – в твоей обители, может, и каменные храмы поставить доведется, – сказал Молога, коротко кивнул и повлек за собой внука к выходу.
– Благословит предстоятель – доведется, – ответил игумен и, прошептав тихо: «Благослови вас Господь», перекрестил удаляющиеся фигуры.
Дед и внук прошли мимо пышных палисадников Лубянки, оставили по правую руку дымящий пушечный двор, преодолели мостовую Никольской, застроенной боярскими палатами, пересекли по деревянному мосту ров и вошли в Никольские ворота. Не успел колокол отбить полдень, как Александр Иванович занял свое место на скамье среди зодчих мастеров в палате у дьяка Разрядного приказа Ивана Григорьевича Выродкова. Сергуле же было наказано никуда не отлучаться с Ивановской площади, где он и болтался до дедова возвращения.
Белая палата
На мурзу Рашида, бывшего послом Казанского царства при дворе Московского великого князя, было жалко смотреть. В Белой палате ханского дворца собрался диван – верховный совет знати средневековой Казани. На четырех топчанах, обшитых кремовым шелком и серебряными нитями, полусидели карачи – главы четырех знатнейших родов, фактические соправители хана. На широких скамьях, расставленных чуть далее полукругом, разместились эмиры – основные владельцы земель и угодий, турецкий паша – представитель султана и ногайский хан Юсуф – дедушка нынешнего Казанского хана. Вдоль стен сидели на полу по-восточному мурзы, беки, чувашские и черемисские князья. Все присутствующие так или иначе были обращены лицами к роскошному топчану, примыкающему к главной стене палаты, богато украшенной резьбой по камню: шамаили – изречениями из Корана и характерными для Казани тюльпанами. На этом ложе, являвшемся композиционным центром Белой палаты, в окружении мягких игрушек, вертелся двухлетний мальчик – казанский хан Утямыш-Гирей. За ним с царственной осанкой, скрестив опущенные перед собой руки в замысловатых браслетах, стояла Сююмбике, вдова умершего недавно хана Сафа-Гирея, мать маленького Утямыша. По краям царского места стояли четыре широкоплечих стража, каждый из них держал правую руку на эфесе сабли.
Посол Рашид был и без того невысокого роста, а стоя на коленях в центре залы, озираясь на присутствующих с видом побитой собаки, он был воплощением ничтожества. Вопросы начал задавать карачи Булат Ширин, пожилой и властный татарин в темно-синем халате и белом тюрбане, с благородно обрамленным совершенной седой бородой лицом.
– Скажи, Рашид-бек, хорошо ли помнишь ты наши наставления? С чем посылала тебя Казанская земля к московскому князю? Мы посвятили тебя в наши планы, а ты все испортил. Великий Сафа-Гирей оставил этот мир пять полных лун тому назад, оставив нам своего наследника. Наша обязанность позаботиться, чтобы он правил в мире, чтобы земля наша процветала. Обернись, посмотри на этого мальчика, всем нам в глаза посмотри! Ты хочешь войны? Ты не смог объяснить людям молодого князя, что сейчас война не нужна? Или ты не счел нужным это объяснять? – Ширин явно говорил не с несчастным Рашидом, он своими величавыми вопросами работал на всех присутствующих.
– Сиятельный Булат Ширин, позволь прервать твою яркую речь! – поднялся высокий эмир Акрам, с уверенной улыбкой на лице закаленного воина. – Давай послушаем посла, пусть расскажет о своих делах сам, пока он здесь, а не в зиндане. Дай ему ответить на твои важные вопросы, сиятельный карачи!
После минутной паузы посол заговорил:
– Послание великого хана Утямыша, составленное тобой, сиятельный карачи Ширин, было со мной постоянно. Много дней искал я встречи с духовным главой московским. Предлагал через верных людей золото – все напрасно. Не берет теперь главный духовник русский денег! А с молодым князем Иваном все время ходит поп Сильвестр и еще трое князей чуть старше возрастом. Никого не допускают до самого, и сами знаются только со своими. И тоже ни серебра, ни мехов не берут, ни камней. Сколько ни пробовал…
Потом на наше подворье пришли нукеры князя, числом до сотни, стрельцами их зовут. Велели собраться и с ними ехать. Всем посольством. Ехали почти день до села Воробьева. Там в тереме к князю меня и впустили. С поклоном передал грамоту, начал речь, но не послушал никто. Князь Иван отдал грамоту своему князю Адашу, а тот надорвал ее до половины и бросил. Еще Иван сказал такие слова: «Не жалует меня, убогого, великий хан своим вниманием, а я уж палаты ему в Кремле освободил. Видишь, в избушку съехал! Придется Ивашке самому в Казань на поклон приехать. Ждите, недолго ждать».
Посол Рашид мог еще долго рассказывать, как не пустили его с посольством обратно в Москву, как сопровождали, фактически гнали конвоем до самой Коломны, но голоса его уже никто не слышал.
– Понятны слова Ивана – Москва нас за улус уже считает! За удел! Разговаривать даже не хочет! – горячился эмир Акрам.
– А ты воевать собрался? Интересно, с каким войском? – поднялся с места Ширин.
– Крымцев надо звать! И Москву с ними жечь! – криком вступил в дискуссию еще один эмир. – Ногайцев звать!
– Мало сам ободрал людей? Хочешь их под голодных крымцев отдать? – противостояли другие спорщики. Неизвестно, дошло ли бы дело до рукопашной схватки – спор уже выходил за рамки приличий. Сююмбике инстинктивно обняла сына, как бы прикрывая собой, а отец ее Юсуф мигом оказался рядом и держался за рукоять кинжала.
Вдруг резко распахнулись высокие двери зала, впуская солнечный свет, при котором сразу все заиграло по-другому. В зал не вошли – вбежали около пятидесяти одинаково одетых в черные халаты молодых людей. Они ловко выстроились в шеренгу плечом к плечу, лицами к окружающим, образовав коридор. «Мюриды! Черные ангелы Кул-Шарифа», – сказал кто-то негромко, и воцарилась звенящая тишина. Медленным шагом, цокая копытами, в зал въехал всадник на высокой белой лошади. Роскошный черный халат, отороченный дорогим мехом и расшитый золотом, покрывал его до самых сапог. В одной руке всадник держал длинные четки, на запястье другой висела коротенькая нагайка. После короткого паралича все присутствующие в палате повалились на колени, положили ладони на пол и низко согнулись. Только Булат Ширин, встав со своего топчана, сделал несколько шагов навстречу, приложил левую руку к сердцу и произнес:
– Могу ли я поцеловать стремя твое, благословенный потомок Мухаммеда?
Сеид Кул-Шариф выдержал паузу, оглядел с ног до головы Ширина и обратился ко всем присутствующим таким тихим голосом, которым всегда говорили великие люди, достигшие непререкаемого авторитета:
– Всевышний даровал нам эту северную жемчужину Ислама! Нельзя позволить кресту возвыситься над ней. Нельзя позволить неверным приблизиться к могилам наших предков и святым камням. Источник чистой воды не должно осквернять нечистотами, а источник чистой веры – неверием. Аллах даст нам силы и подмогу в нужное время, и он же в нужное время дарует нам жизнь вечную. Это не молитва, ведь в зале женщина! Это слова мои для ваших голов. Заберите посла к нам в медресе, – это уже обратившись к дервишам, – он нуждается в духовной поддержке.
А ты, досточтимый Ширин, – сказал Кул-Шариф уже повернувшись и глядя карачи прямо в глаза, – ты сам теперь решай, достоин ты целовать стремя моего коня или недостоин целовать следы его копыт?
Развернувшись в полнейшей тишине, всадник медленно процокал к выходу, за ним вышли дервиши. Двое из них вели под руки совершенно обмякшего посла Рашида. Продолжать заседание дивана как-то не получалось, все постепенно потянулись к боковым выходам, стараясь держаться на дистанции от карачи Булата Ширина.
Совет у дьяка Выродкова и отправка на войну
Как несомненно помнит читатель, мы расстались с Иваном Мологой и Сергулей в Московском Кремле. Мастера зодчих дел, среди которых были русские, приглашенные смуглые итальянцы, светловолосые литовцы, татары казанские и даже сибирские, типа мастера Бармы, томились в ожидании дьяка. Кто-то начинал ковырять перочинным ножичком стол, кто-то дремал, некоторые переговаривались вполголоса. Приказная палата сразу ожила, когда в нее быстро вошел Иван Выродков, за ним влетел писарь. На дьяка вошедший в общем понимании был совсем не похож. Это был сорокалетний, хорошо выбритый мужчина, одетый в европейский короткий кафтан, привыкший говорить быстро и не повторять распоряжений. Волосы его были убраны в короткую косичку, на манер английского капитана.
– Говорить буду откровенно. Слушайте внимательно и спокойно. Все равно никому разболтать не сможете, потому что под охраной стрелецких команд прямо отсюда отправитесь набирать ватаги свои. Идем на войну с Казанью. Задача такая: набрать себе работных, и с этими людьми выступать. Под Казанью потребуется строить туры осадные. Лес валить будем на месте. Для каждого полка свои «гуляй-города». Прямо скажу, я против такого способа – из сырого непонятного материала сооружать. Но это указ. Рисунки срубов и подсчеты леса буду проверять на ходу. Все, с Богом!
У выхода из приказа каждого мастера поджидали служивые и так под конвоем отводили в сторону. Надо ли уточнять, что мастера Мологу поджидал стрелец Василий, который уже распознал на площади Сергулю и приспособил его к делу – нагрузил мешком с разным походным барахлом.
– Как же без инструментов? Мне циркули нужны, линейки, угли рисовальные! – рассуждал Александр Иванович с Василием по ходу к Троицким воротам, где их поджидали два десятка служивых с оседланными лошадьми.
– Дядя Саша, указ нарушать нельзя, домой ты не заедешь. Вообще никуда не отлучишься от нашего отряда. А вот мы с Сергулькой можем, да? Ты садись на коня и рысью с моими бойцами до села Медведково. А мы с твоим помощником сделаем круг, заедем в Напрудную и возьмем твои чудеса чудесные. Сергулька, прыгай сзади. Мешок петелькой к седлу, вот так. Знаешь дедовы принадлежности? Ну, трогаем.
– А в Медведково-то зачем? – с коня спросил уже Молога.
– Работников тебе набирать! Немного поворошим вотчину князя Пожарского!
– Круто-то как, – буркнул себе в бороду Молога и тронул следом за стрелецким отрядом к улице Солянке и дальше к Яузе, по берегу которой шла тропа до Медведкова.
Вечерело. За околицей села Медведкова, на правом берегу Яузы стояли четырнадцать телег, запряженных разнокалиберными лошадьми. Князю Пожарскому был дан наказ не только крестьян своих на работы отдать, но и транспорт предоставить, и хлеба в дорогу. Сам тучный князь с двумя приказчиками топтался поодаль, в разговоры со стрельцами не вступал. Вот прибыл и командир Василий со своим молодым попутчиком. Сергуля на лямке через плечо вез драгоценный дедушкин port-feulle, привезенный им из Литвы. Это у них там на французский манер эта кожаная плоская сумка с двумя замками, набитая всякими чертежными инструментами и пергаментом, называется как бы «носитель листов», а Молога называл это свое сокровище «по́ртфель» с ударением на «о».
Стрельцы начали выгонять из изб мужиков и баб и строить всех у Покровской церкви. Бурчание и всхлипывания пресекались ударами плетей, не сильно, но четко. Наконец, когда начало темнеть, Молога начал свой отбор. Указывал на молодого, ну хотя бы не очень старого и крепкого мужика, его сразу отводили в сторону, раздавалось бабье оханье, церковный служка тут же записывал имя-прозвище. Таким манером было отобрано восемнадцать мужчин. Тут вперед выступил Васька:
– Всем слушать! Кто отобран для работ, идти по домам и собираться. На рассвете выходим. Собираться с семьей кто женатый: с женой и детьми. Десятник Михайлов! Деревню оцепить, чтобы бежать никто не надумал! В полночь сменить десятнику Семенову!
Александр Иванович, Сергуля и Василий расположились на ночлег в избе княжеского приказчика. Мальчику раздобыли хорошую кружку молока и кусок свежего белого хлеба, и после краткой трапезы он уже спал на широкой лавке, как говорится, «без задних ног». А Молога и Василий вышли на крыльцо. Мастер раскурил трубку, а стрелец короткими глотками пил квас из крынки. После такого шебутного дня и не спалось.
– Как справилась служба? – раздалось из темноты. На свет луны выехал верхом дьяк Выродков. Следом за ним также верхом его верный писец Степан.
– Все как по указу! Мужики отобраны, с рассветом выступаем! – отрапортовал Василий, быстро отставив квас и проверив застежки на кафтане.
– Вопрос есть, Иван Григорьевич! Можно на ночь глядя? – подал голос мастер.
– Слушаю тебя, Александр Иваныч.
– Это на кой же ляд мне таскать по полям да весям этот обоз с бабьем и выводком? Мне же плотники нужны, а не табор!
– Не горячись, Александр Иванович, не горячись. Устали сегодня все. Да дело важное решили, такое, что на века запомнится и откликнется. Сегодня Русь впервые на восток двинулась. Понимаешь? Не восток на Русь, как столетиями было, а наоборот. Государь наш молод, но умен. И советчиков подобрал по себе, избранными их называет. Не громить Казань намечено… хотя громить тоже… Надолго обосноваться нужно на Волге, навсегда. Врасти корнями. И чтобы село Медведково в Казанском крае тоже было, с церковью православной. И монастырь Троицкий, например. И башня со Спасом в киоте. Вот для этого люди и нужны. Ну все, отдых. Я к Пожарскому заеду, Степка, за мной!
Александр Иванович и Василий еще немного постояли и посмотрели молча в звездное небо. Душна и темна была эта ночь в начале августа 1549 года.
Мы все провалили. Февраль 1550-го
В юго-восточном направлении от Казанского кремля протянулась протока Булак, связывавшая некогда реку Казанку с озером Кабан. Если смотреть от нее на озеро, то справа оно обрамлено пологими берегами, а слева начинается рельефная терраса, разрезанная оврагами на три основных холма. Топонимы Первая, Вторая и Третья гора в Казани были исконно привычными, хотя горами их можно назвать только в условиях нашей однообразно-равнинной природы.
Так вот, на бровке третьего от Казанской крепости холма, буквально в двух верстах от ханского дворца, стоял молодой великий московский князь Иван IV. Зарево пожара, бушевавшего в районе Булака, отблескивало в кольчуге исключительно тонкой работы, поддетой царем под светло-серый полушубок, и в его больших, полных почти детскими слезами глазах. Когтистая лапа обиды душила молодого человека, и выхода этим удушающе-колючим чувствам он не давал, только чтобы не выглядеть смешным. Быть смешным для него было страшнее, чем быть больным или тяжелораненым.
«Потомок Рюрика и Византийских монархов! Тебе снова плюнули в лицо! На смех всему миру и своим московским боярам-псам… Потрачен целый год подготовки, положено столько сил! Кто ты, Иван?! Ивашка! Начитался по-гречески. Кем возомнил себя? Ахиллом? Одиссеем? Ничтожный, несчастный царек захудалого вонючего ледяного волчьего угла на карте мироздания!» – такие мысли роились в голове Ивана. Хотелось ткнуться лицом в плечо кого-нибудь старшего и просто порыдать, чтобы пожалели. Но одиночество, вечное одиночество, сопутствующее безраздельной власти… Он вышел, он не мог уже находиться в главном шатре ставки, над которым развевался стяг с образом Спаса Нерукотворного. В ходе военного совета, проходившего в шатре, стало уже совсем очевидно – Казань опять устояла, а русские войска потерпели неудачу.
11 дней уже царь лично руководил осадой Казани, но из достижений был только устроенный пожар в районе кожевенных мастерских да разгром купеческих домов и лавок на площади Ташаяк, прямо у крепостных стен. Казанцы ловко уходили от больших схваток, при этом могли устроить внезапно непроходимую оборону любого дома в городе, положить около него десяток русских бойцов, а потом поджечь его и моментально отступить.
Иван сделал усилие, тяжело проглотил, всхлипами втянул горелый воздух и вернулся в шатер. Все учтиво поклонились вошедшему государю. После того как царь опустился в свое кресло, князь Воротынский продолжил расспрашивать двоих гонцов, вернувшихся с объезда.
– Где, толкуйте точно, расположился Епанча? – Перед воеводами лежал план местности.
– Вот здесь, господине. На краю Арского поля, до начала склона к Казанке. С Высокогорской стороны засека у них, невысокая, правда, засека. По центру кругом обоз поставили. Лучников по два десятка тут, здесь и тут. – Гонец-разведчик толково показывал концом малюсенького ножичка, где и как расположен противник.
– Что же они обозом встали? В крепость не дошли? Думали, не видим их? – подал голос стольник Курбский.
– Епанча, Епанча… – проговорил Иван. – Третий раз за день слышу про Епанчу. Кто это?
– Государь! Епанча этот мурза, не из самых знатных. Но лихой и дерзкий. То покажется с двумя сотнями в одном конце, то с тысячной конницей в другом. Налетит, авангарды порубит – и тикает! – ответил с почтением Воротынский.
– Взять Епанчу! Привести живым мне! Слышишь, Михаил Федорыч! Выполняй! – сорвался голосом Иван и сам осекся. Понял, как несолидно выглядит.
– Дозволь слово, отец?! – встрял Петр Шереметев. – Не самая главная фигура сейчас Епанча. Карача Ширин всю силу нашу сковал, до 30 тысяч у него по моим подсчетам, кого тут пошлешь Епанчу ловить?
– Курбский! Серебряный, Петя! Слышите ли вы?! Взять, взять, сейчас! – Молодого царя уже трясло, и лицо его стало серым, а глаза страшными. Князь Петр Серебряный налил в глиняную чарку немного воды и с поклоном поднес Ивану. Но остановить приступ уже было невозможно. Направив взгляд куда-то сквозь присутствующих, не смотря, он что есть силы схватил чарку. Сосуд тут же треснул на осколки, и кровь Рюриковичей вместе с водой обильно окрасила рукав, порты и половик.
– Твою ж мать! – тихо сказал Серебряный. – До Арского поля версты две, так? Кто у нас ближе всех? – глянул он на Воротынского.
– Полторы версты… да это же безумие, причем бесполезное… – тихо проговорил воевода, но тут же как-то собрался. – Под боком у нас только стрельцы воеводы Микулинского и сотни две конницы Шигалея…
– Седлать мне! Я сам поведу Микулинский полк! – очнулся от забытья царь. – Курбский со мной!
Примерно через час царь в сопровождении Андрея Курбского поднялся на деревянный помост, который был наспех сколочен плотниками мастера Мологи из подручного кругляка и досок. Сам мастер едва успел проверить крепление перилец и ступенек, как был отодвинут царской охраной – сотня отборных воинов окружила помост на краю леса, после которого как на ладони было Арское поле. Воткнув бердыши в землю и оперев на них пищали, стрельцы образовали позицию по бровке длинного оврага. Из-за засеки полетели некучно стрелы, по большинству не долетая до двойного строя стрельцов. Но двоих достали, на их место встали другие. Сотник махнул рукой, и рявкнул залп. Впервые в истории эти места услыхали раскаты огнестрельного оружия. Плотный белесый дым, на несколько мгновений окутавший стрельцов, начало сносить ветерком. Тем временем к ряду бердышей подступила вторая шеренга стрельцов. Залп, дыма стало еще больше, и царю со свитой сложно было уже видеть происходящее. Шевелений в обстрелянной засеке и в обозе не виделось. Конный отряд касимовских татар, сабель в 50, двинулся к засеке. За ними споро шагали, почти бежали по грязному подтаявшему снегу микулинские бойцы. По тому, как скоро обоз был облеплен спешившимися касимовцами и подоспевшими стрельцами, было понятно, что сопротивления существенно никто не оказал. Началась какая-то возня, донеслись обрывочные возгласы, и даже с удаленной от места событий опушки было видно, что обоз не пустой. Курбский подозвал стоящего рядом конного из детей боярских и наказал сгонять и доложить, что там.
Вдруг Ивану показалось, что помост под ногами забило мелкой дрожью, да и не только ему. Понимание источника этого биения пришло в одно мгновение со следующей сценой: как будто из-под земли, на хорошем разгоне прямо на копошащихся в обозе выкатывала лава всадников с саблями наголо. Числом их было не более трехсот. Одинаково пригнувшиеся к лукам своих седел, они не издавали никакого звука, снег-квашня почти гасил топот копыт. Не все стрельцы успели даже понять, откуда их настигла смерть. Между тем рубка была страшно искусной. Нападавшие били отточенными, верными ударами каждого только один раз. Тем, кто только успевал обернуться, сносили головы. Касимовцы и стрельцы поопытнее, успевшие поднять над головой оружие, ожидая принять удар сверху, получали саблей по горлу или подбородку снизу по косой. Клинки порхали в руках наездников невероятными синусоидами, и встретиться с ними саблей в саблю было невозможно. Даже успевший вскочить в седло касимовец, явно не робкий, не встретил своей саблей противника. Нападавший на скаку уклонился от взмаха, и, уже почти разъехавшись, как бы играючи, описал саблей дугу позади себя. Касимовец уронил голову на грудь и через несколько шагов свалился с коня с разрезанной шеей. Ускоряя галоп, всадники как по команде, с наклоном ушли вправо вниз по расщелине в сторону Казанки.
– Это и был Епанча, государь, – вышел первым из оцепенения Андрей Курбский.
– Я хочу их увидеть. Коня! – скомандовал на удивление бодрым голосом Иван. В окружении охраны вместе с Курбским царь подъехал к месту гибели. Но долго всматриваться в куски еще только что живых и вполне здоровых людей не пришлось. Лежащие вперемешку раздробленные головы, разрубленные торсы и отсеченные руки микулинских стрельцов и татар хана Шах-али, который на Москве откликался и на Шигалея, заметала поземка. Поднялся сильнейший северный ветер, и явно похолодало. Подтаявший снег покрывался коркой и переставал липнуть.
– Всех похоронить по-христиански, когда станет возможно, поставить часовню! – сказал Иван как бы в никуда, но тот, кому было положено из свиты, эту команду услышал и быстро закивал головой.
День завершился невесело. Ужинать вместе со своей «избранной радой» Иван не пожелал, уединился в походной церкви. Стоя на коленях у образа святого Георгия, царь думал. Умом он понимал, что этот, четвертый за двадцать с небольшим лет, поход русского войска против Казани опять закончился неудачей. Но принять это поражение не мог. Он Богом избран для величия Руси. Он должен сделать больше, чем его дед Иван.
Казанские татары сильнее? Нет. Умнее? Нет, скорее, изворотливее, проворнее. Сложный, ох, какой сложный этот край, где Волга с Камой сходится. Тут не выйдешь, как рыцарь, лоб в лоб на поединок. Военачальник карача Ширин силен, да и на сражение прямое не выходит, еще этот Епанча круги наматывает. Чуваши, марийцы и черемисы вроде как за маленького хана, но вроде как и за себя. Ногайцы свою политику гнут: могут дать хану войска, а подумают – и не дадут. Крымцы сильны, это главная опасность. И интерес у них тут на Волге кровный. Зайдут с юга, пока мы Казань осаждаем, или не зайдут?
– Вразуми, господи Иисусе! Дай ключик к этому делу!
Но Иисус, Дева Мария и Георгий Победоносец пока молчали, глядя мудро на молодого государя с походного иконостаса.
Ночная встреча
С мыслями своими тяжелыми Иван забрался на высокое кресло-лежанку и так, полусидя, задремал. Тусклым источником света в шатровой спальне его была лишь лампада. Вдруг раздался осторожный голос постельничего Игнатия Вешнякова:
– Батюшка государь, чаю, не спишь, родненький?
– Чего тебе, друг милый? Зайди и говори!
– Прости за беспокойство. Ближняя застава задержала казаночку, которая непонятно как прошла все посты. С поклоном обращается, говорит по-русски хорошо. Слово к царю, говорит, имею. Чо бывает за такое слово, если пустым окажется, разъяснили. Обыскана, безоружна. Чо с ней делать, поряди, батюшка?!
– Казаночка… Пусти сюда.
Через несколько мгновений в комнату вошли два стража, за ними девушка лет двадцати, за ними еще два стража и Игнатий. Круглолицая гостья, больше похожая на донскую казачку, чем на дочь ханской Казани, обладала умными черными глазами. Волосы ее были забраны в одну толстую косу, переплетенную золотыми нитями. Из-под длинных рукавов синего платья, совершенно не дававшего представления о фигуре, были немного видны полненькие пальчики. Девушка явно нервничала, поэтому говорила старательно четко и даже немного заносчиво.
– Слово к тебе имею от царицы моей, царь Иоанн!
– А ты смелая, раз пришла сюда и рот раскрыла. Тебе сказали, что бывает с теми, чье слово пустым окажется? Живой в землю закапывают, – негромко проговорил Иван.
– О твоей смелости также наслышаны в землях наших, великий царь. Оставь меня с собой наедине, без людей твоих!
– Вон подите, – сказал Иван, уже с интересом глядя на татарку. Когда все вышли за полог, он выждал и повторил: – Все вон! Говори, казаночка. Как зовут тебя? Что расскажешь страннику, чем развлечешь?
– Зовут меня Динария. Что может рассказать простая девушка великому господину? Честь мне оказана пригласить тебя к царице моей! Она расскажет.
– Кто царица твоя и когда ждет убогого Ивашку? – сказал Иван по привычке с иронией и тут же понял, что теперь такое излишне.
– Сейчас, государь. Только сейчас ждет тебя Сююмбике.
– А что же раньше, засветло тебя не прислала царица? Я бы к ней нарядным выездом пожаловал?
– Раньше было рано, а потом будет поздно. Решайся, государь.
В жизни каждого мужчины бывают такие моменты, когда доводится совершить полное безрассудство с упованием только на везение. Совершишь и думаешь потом: первое – как хватило мозгов так собой рисковать? Второе – как так повезло, что, несмотря на предельную опасность, остался цел? И тем не менее мужчины обычно на такие авантюры идут, кто-то раз в жизни, кто-то не раз. Иначе, наверное, остановился бы ход развития человечества, и жизнь была бы пресной. Наступил такой момент безрассудства и у Ивана.
– Игнатий! – прокричал он. Постельничий тут же вбежал, видно, недалеко он выходил вон. – Одеваться! И Дине одежду отдай. И сам облакайся. Гулять идем!
– Батюшки! Государь, ты, что за дверью-то творится, видал? Пурга такая, что следов уже через мгновение нету. И морозненько! Куда в ночь-то?
– Вешняков, ты замолчишь сам или сразу язык вырвать? Лучше сразу, думаю, чтобы не болтал! – Постельничий виновато заулыбался, вроде что понял царскую шутку, но с этого момента не произнес ни звука и язык берег.
Вскоре с тыльной стороны царского шатра отодвинулся совершенно незаметный полог, и на ночной мороз вышли три фигуры, среди которых царская выделялась осанкой и ростом. Дремавший в закрытых санях царский возница всегда был готов к выезду, лошади были оседланы и менялись три раза в день, даже если царь никуда не ехал.
– Двигай по дороге к озеру, – сказал царь вознице, и тот тронул. Проехав одну за другой три заставы, кони вынесли санный возок на ледяной простор озера Кабан и остановились. К саням русского царя приблизился другой санный экипаж, запряженный четверкой лошадей, масть которых в темноте и пурге было не разглядеть.
– На рассвете быть тут с десятком рынд! – приказал Иван, вместе с Динарией пересел в чужие сани и скрылся в снежной ночи.
Сани ходко шли по ровному льду, внутри было тепло. Предусмотрена была даже печечка, которая делала нехолодными сиденья и отдавала тепло ногам путников. Динария молчала, опустив глаза. Иван про себя рассуждал. Еще утром собственная персона и жизнь казались ему никчемными. Наверное, даже если бы прекратилась жизнь в этот момент отчаяния, капризного приступа, он бы не пожалел. Как совсем не пожалел он тех стрельцов Микулинского полка, которые сейчас порубленные лежат и стынут на Арском поле. Если бы не его повеление, они сейчас в землянках да вокруг костров бы дремали, живые. А вот сейчас настроение переменилось, и жизнь его, великого государя, была важнейшей ценностью. И земля Российская, Богом данная ему в правление, уже казалась ему не волчьим углом, а благословенной державой, которую он будет лелеять, защищать и преумножать. Будет, если жизнь его не прервется в следующее мгновение. Нет, нужны все-таки авантюрные опасности, чтобы жизнь приобрела вкус и ценность.
За этими мыслями царь почувствовал, как сани начинают взбираться по склону вверх. Будучи человеком образованным и имея хорошую пространственную ориентацию, Иван догадался, что по продолговатому озеру Кабан они поехали влево и поднялись на холмы, не занятые ничьими войсками. Ну просто потому, что поехать вправо, в сторону Казани, где бушует пожар и передвигаются отряды Камая и Епанчи, они не могли. Сани остановились, путники вышли, и Динария изысканным жестом пригласила Ивана пройти в огромный шатер, сложенный по принципу среднеазиатской юрты.
Внутри все было устлано коврами, преимущественно красных и золотых тонов. На стенах плотно были развешаны шкурки лис и енотов, причем подобраны были они волной с переходом от почти черных к серым до почти белых и обратно. Четыре литых 12-рожковых светильника заливали пространство теплым, слегка плывущим светом. На низком круглом столе стояло несколько матовых графинов, чарок и огромное блюдо с ягодами и фруктами, так не сочетавшимися с бушевавшей за пологом зимой. Дальнюю от входа сторону занимало огромное, крытое шкурами ложе. Центральную часть помещения занимал очаг странной формы, колонной возвышающийся под верх шатра.
– Всем сердцем рада видеть тебя, Иван! – тепло произнесла Сююмбике. – Ты пришел, настоящий…
Они встретились изучающими взглядами, возникла пауза. Иван скользил глазами по лицу и фигуре женщины, понимая, что он пока не постигает ее образа. Что, в общем, объяснимо. Чтобы почувствовать красоту Сююмбике, нужно было сразу настроиться на восприятие другой породы человека. Она была безусловным воплощением Востока, всего прекрасноазиатского, тонкого, как самый искусный завиток в декоре самаркандских мечетей. У Сююмбике было характерно вытянутое овальное лицо. Большие черные глаза, обрамленные тонкими черными линиями бровей, были похожи на полумесяцы, потому не только верхние, но и нижние веки имели легкий изгиб вверх. Полные чувственные губы чуть выдавались вперед, ровно настолько, чтобы быть прекрасными. Благородный носик имел изгиб, но до той грани, которую можно назвать горбинкой. Длинная и тонкая шея была чуть наклонена вперед, отчего создавалось впечатление постоянного внимания к собеседнику. Волосы были собраны на затылке в замысловатую форму и заколоты крупными, на манер китайских, спицами. Темно-зеленое платье очерчивало изящную, почти подростковую фигуру. Из украшений на Сююмбике была только ниточка золотого браслета на правой руке, длинные замысловатые серьги и золотое кольцо без камня на среднем пальце, что резко отличало ее от привычного облика мусульманских женщин, украшавших себя в старину максимальным количеством золотых бус, браслетов и колец. Отличали Сююмбике и манеры. При радикально восточном облике она держалась по-европейски естественно, обладала ясной русской речью без лишних чопорных оборотов.
Сделав несколько легких шагов, она приблизилась ко все еще молчащему, не понимающему, как себя вести, Ивану.
– Позволь принять твою одежду, государь! – проговорила она, и тяжелая царская шуба соскользнула в ее изящные ручки. – Сделай милость, садись со мной на ковер и не побрезгуй тем, что припасла моя служанка.
Иван опустился на ковер, подогнув под себя одну ногу. Напротив, изящно сложившись, разместилась Сююмбике.
– Из южных земель Франции мне привозят удивительное белое вино, государь. Оно немного шипит и пенится, как будто разговаривает. Всего три бочонка, только для самых ценных гостей! – Сююмбике налила в высокие серебряные стаканы вино, и южный аромат разлился вокруг.
– Мы почитаем вина Греции, царица, – ответил Иван, все же принимая из рук наполненный сосуд.
– Это потому, что на Москве еще не умеют ценить тонкие вкусы Европы. Вам еще чужда нега, вы молодые дерзкие воины.
– Царица Сююмбике, ты хотела видеть меня, врага своего, который с мечом и огнем пришел в твои земли. Мне это странно! – сказал Иван и сделал два больших глотка.
– Я мать царя и вдова царя. И земли мои родные на юге за Итилью, широкие степи до Уральских гор и поселения, богатые китайским шелком. Хотя Казань мне стала родной, ведь я здесь с 12 лет.
– И все же? Ты не ответила.
– Мне предсказано, что ты покоритель. Твой портретик привез нам в Мангытский юрт посол отца твоего, Данилка. Ты там маленький совсем. Мне нагадали, что ты мой покоритель! – сказала Сююмбике и весело засмеялась.
– Ты морочишь меня, Сююмбике? Я не пойму тебя! – нахмурился Иван, чтобы скрыть неловкость.
– Я Сююк, зови меня так. Важное имя побережем для церемоний.
– Что еще нагадали тебе твои колдуны? Будущее предсказали? Казань упадет или устоит?
– Само ничего не упадет, даже грушеньку потрясти надо, чтобы грушки самые сладкие упали. Судьба ханства решена столетия назад, а кто достоин будет, тому Казань и отдастся. Ты будешь настырным – тебе достанется, кто-то другой – значит, другому! – игриво улыбалась Сююмбике. Иван и понимал, и не решался до конца понять восточную красавицу. Тут Сююмбике встала и подошла к висящему на одной из стен юрты гобелену.
– Посмотри, какая работа. По заказу покойного Сафы во Фландрии сделали. Тут все про основание Казани. Подойди, государь! – Иван встал на ноги и почувствовал приятную облачность, окутавшую голову после выпитого стакана.
– Занятная шпалера! – сказал царь. – Про эту историю я ведаю. Сказано и писано, и про котел-казан, который утопили, и про змея Зиланта. Не видал я только, чтобы магометане людские изображения на стены вешали.
– Ты много видел магометан вблизи, государь? Ты знаешь их изнутри? Говорят, что и в тебе есть кровь Чингиса, это правда?
– Будет тебе, Сююк…
– Присмотрись вот к этой собачке, Иван. Видишь, собачка убитая лежит, а хан рядом плачет… – Сююмбике показала снова на гобелен, но не успела договорить.
– Я достаточно присмотрелся, Сююк, – сказал Иван шепотом и взял красавицу за обе руки. Она посмотрела Ивану в глаза и прижалась всем телом. Он провел по лопаткам, по тонкой шее, выдернул из прически заколки, и прямо в руки ему упали длинные черные волосы.
– Я никогда не держал в руках ничего подобно нежного! – шепнул Иван, уткнувшись в волосы и вдыхая незнакомый запах благовоний. – Какие у тебя волосы… – прошептал Иван.
– Какие? – сказала она нежно и негромко.
– Необыкновенные и… тяжелые… – тут его руки осторожно, но настойчиво повернули ее голову, и две стоящие фигуры слились в одну, в жаркий, изучающий, требовательный поцелуй. Боясь нарушить чувство биения сердца красавицы, Иван осторожно повлек ее к ложу. Она совсем не сопротивлялась, но и не способствовала, когда Иван разоблачал ее, осторожно снимая мягкие разрисованные сапожки, штанишки, обнажал соски и припадал к ним губами. Царем же владели совершенно незнакомые чувства и совсем незнакомые запахи. Чужие, но манящие, притягательные запахи, сводящие с ума.
Он в свои 20 лет знал уже много женщин. Для хозяина московских городов и весей не было преград взять любую девку и даже замужнюю барыню. Со временем это стало обычным делом, как сорвать и надкусить яблоко, а если кислое – выбросить и сорвать другое. С любовью и нежностью он относился только к своей белокурой жене, светлой и чистой Настеньке. Но это было другое, это было хоть и приятно, но как-то законно и слишком правильно, почти идеально.
Сейчас, в объятиях тонких рук Сююмбике, Иван ощущал себя необыкновенно. Она ничего особенного и не делала, просто отдавалась. Но отдавалась так самозабвенно и так всецело, что каждый ее вздох или нежный стон приводил Ивана в сладкий экстаз. Руки молодого сильного мужчины скользили по нежному по-детски телу, сжимали хрупкие косточки бедер, ласкали коленки, маленькие грудки, сильно, но не до боли вцеплялись в ключицы и шею. А в голове носилась буря мыслей! Под ним была одна из красивейших женщин мира! Царица, которой обладали и которую желали многие великие владыки. И она вот, его! Иван чувствовал себя всесильным, бессмертным, мифическим божеством! И это сознание обладания переполняло сердце восторгом уже даже больше, чем само осязание обнаженной красоты, пока не переполнило и тела не содрогнулись в последних сладких судорогах.
Ночь была долгой. Они стали смелее, и взаимные проникновения стали так естественны. В коротких перерывах между объятиями Сююмбике смеялась, болтала о каких-то мелочах, засовывала Ивану в рот спелые виноградины и дольки мандаринов.
– Сююк, что ты хотела сказать про собачку? Вертится у меня в уме: Собачка. Хан плачет, – прошептал Иван.
– Да это старая сказка. Когда выбирали место для основания Казани, должны были убить первого встречного. Такие города на костях стоят вечно. Как Рим, например, на костях Рема. Попался навстречу сын хана. Его пожалели, убили и закопали собачку. Вот хан и плачет, от радости, что сын живым остался. Ерунда это все, старинные байки.
– Я должен ехать, Сююк. Скажи Дине, чтобы проводила меня.
– Я увижу тебя снова, родной?
– Конечно, я не смогу теперь тебя не видеть. Cегодня, с тобой, я понял, что значит жить! – отвечал Иван, уже натягивая сапоги.
– А когда я тебя увижу? Скажи, когда?
– Я дам знать, Сююк. – Иван наугад протянул руку к штофу, стоящему на низком столике. Запах привычного хлебного напитка ударил в нос, но именно это было ему сейчас очень нужно. Налив и в три глотка осушив чарку, Иван двинулся к выходу.
Обратный путь вместе с Динарией царь проделал в полусне. В условленном месте его поджидали сани, десяток конных бойцов и хлопочущий Игнатий в малахае. В ставке у шатра со стягами его поджидали Андрей Курбский, Петр Серебряный и Александр Горбатый.
– Команды ждем, отец родной! – глухо, со старинным поклоном, сказал грузный Горбатый. – Когда на Москву уходим?
– Мы отступаем, но мы никуда не уходим. И никогда не уйдем! – сказал царь. На душе Ивана стало как-то легко и ясно. Он вспомнил про свою жену Анастасию и понял, что скучает по ней и по Москве. Он, конечно, удалится в Москву, но он обязательно вернется и победит, теперь, этим утром, у него не было в этом сомнений. Нужно передохнуть перед дорогой и трогать. Игнатий уже стаскивал со своего господина сапоги, а Иван расправлял себе усы и гладил бороду. Руки его пахли телом Сююмбике.