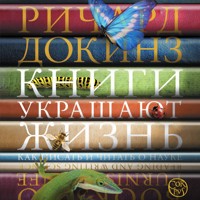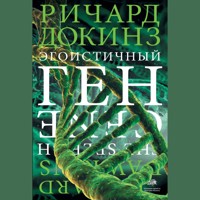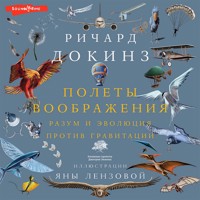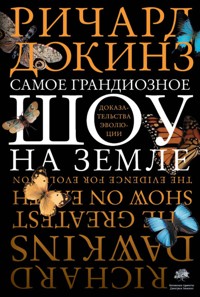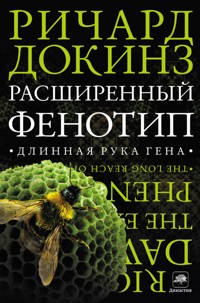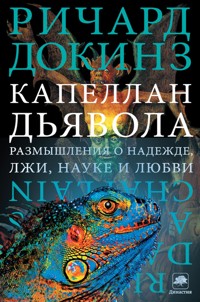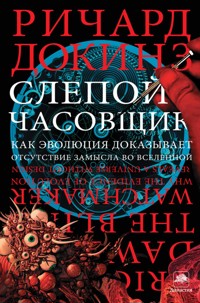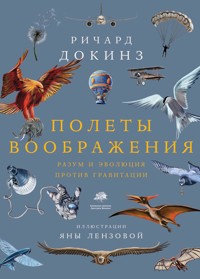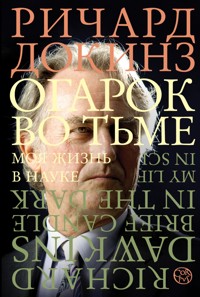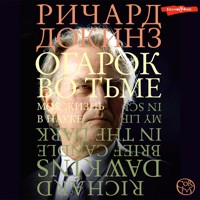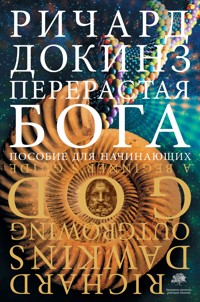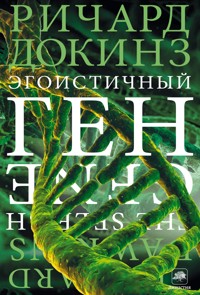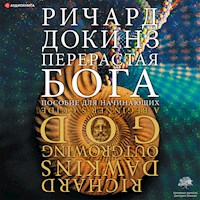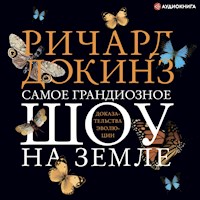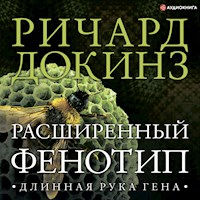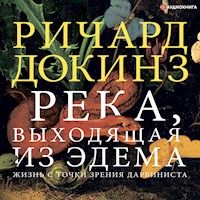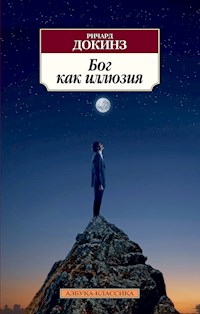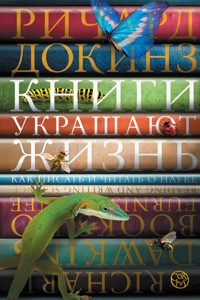
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Russisch
Сборник прославленного Ричарда Докинза "Книги украшают жизнь" довольно необычен. Он содержит написанные Докинзом предисловия к произведениям его коллег-ученых, послесловия, рецензии. Книга разделена на несколько частей, и каждая предварена записью беседы Докинза с кем‑то из известных научных журналистов или ученых. Представленные эссе весьма разнообразны, но объединяет их элегантный литературный стиль Докинза, юмор, порой граничащий с сарказмом, и, разумеется, любовь к науке.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ричард Докинз Книги украшают жизнь. Как писать и читать о науке
© 2021 by Richard Dawkins Ltd
All rights reserved
© М. Елифёрова, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство АСТ”, 2025
Издательство CORPUS ®
* * *
Памяти Питера Медавара
Предисловие редактора к английскому изданию
Никогда популяризация науки не была столь важна, как сейчас. Если, как считал Фрэнсис Бэкон – человек эпохи Возрождения в прямом и в переносном смысле, – знание само по себе сила, то люди никогда еще не располагали такой силой, чтобы действовать в интересах будущего планеты, самой ее ткани и мириад ее обитателей, – и в то же время никогда, похоже, не проявляли больше политического безволия в деле проведения необходимых перемен.
Мы живем в эпоху, когда научное знание и технологический прогресс, похоже, далеко опережают волю использовать их с умом. Именно поэтому тяжелое бремя ложится на обладателей знания, на основе которого можно принимать решения, касающиеся всего спектра политической, социальной, образовательной и коммерческой деятельности, и на тех, кто хорошо владеет словом и способен привлекать внимание, притягивать, удивлять, а главное – убеждать. Люди, наделенные обоими этими дарами, могут и должны в наше время говорить правду власти – если, конечно, мы не хотим, чтобы человечество разбазарило свой потенциал, разбазаривая планету.
Пока я пишу эти строки, человечество слышит самый громкий сигнал к пробуждению, когда-либо звучавший за много последних лет: по планете распространяется пандемия COVID-19. Для борьбы с болезнью, ее причинами и следствиями потребовалось чрезвычайно много героических усилий, политической воли, народного энтузиазма и оперативных действий – и все это удалось мобилизовать за считаные месяцы. Цинику простительно будет отметить контраст с вялой, тянущейся десятилетиями реакцией на долгое медленное тление климатических изменений, – которые и сейчас, пока мы пытаемся спасти свои жизни и доходы, никуда не деваются. На обоих фронтах мы опираемся на науку, которая показывает нам, как справиться, как выжить, как улучшить свое положение; и мы рассчитываем, что ученые не просто будут выполнять свою сложную, кропотливую, трудоемкую работу, но и расскажут остальным, что и как они делают и каковы вероятные последствия их открытий.
Поэтому никогда еще популяризация науки не была столь важна, – но и никогда еще ее популяризаторы не испытывали такого давления. Мы живем среди множества медийных платформ, под обстрелом многосторонних дискуссий, сенсаций и споров, мы захлебываемся в потоках научных публикаций онлайн и оффлайн и наблюдаем непрерывную перепалку в социальных сетях (которые столь часто оказываются антисоциальными). Как же нам среди всей этой какофонии обрести доходчивые аргументы, неразрывно связанные со страстной вовлеченностью, как ощутить волнение открытия, базирующегося на четко выверенной постановке вопросов, – и все это во имя разума и науки, с огромным почтением и ответственностью перед Землей, на которой мы обитаем?
Для начала можно прочесть Ричарда Докинза. К счастью для нас, в мире много преданных своему делу людей – мыслителей, исследователей, лекторов, писателей, – которые одновременно занимаются наукой и популяризируют ее. Они работают поодиночке и в коллективах, стоя на плечах гигантов, протягивая руки своим современникам, стремясь просвещать и привлекать тех, кто находится вне их собственного круга. Один из самых выдающихся среди них – Ричард Докинз, человек, обладающий необычайной энергией и духовной щедростью, всегда готовый популяризировать труды своих коллег-ученых.
Поэтому представляю вам этот сборник коротких текстов признанного мастера искусства научной популяризации. Все они так или иначе связаны с книгами, в основном с научными, – с книгами, которые украшают жизнь Ричарда в науке. Перепечатанные здесь предисловия, послесловия, вступления, рецензии, эссе написаны ради того, чтобы поддержать, раскритиковать или попросту прокомментировать те или иные издания; ради того, чтобы не остаться в стороне от решения жизненно важной задачи: распространять то, что, как мы знаем благодаря научному методу, является истиной, и защищать эту истину от тех, кто отрицает, отвергает, искажает ее.
Разумеется, в книге, целиком посвященной задачам коммуникации, начинать каждый раздел лучше всего с беседы. Каждая из шести частей этого сборника предваряется опубликованной расшифровкой диалога Ричарда с каким-нибудь другим автором, где оба размышляют на темы данного раздела и соотносят их с насущными проблемами нашего времени. А сборник в целом открывается новым эссе, которое Ричард написал специально для этого издания и в котором он размышляет о “литературе науки”.
Работа по популяризации науки нескончаема. Мы все должны быть благодарны тем, кто посвятил этому свою жизнь, – не только за их занятия наукой, но и за слова, которые они пишут как в книгах, так и о книгах, что могут украсить нашу жизнь.
Джиллиан Сомерскейлс
Предисловие автора Литература науки
Литература:
а…род письменных сочинений, которые ценятся за свойства их формы или эмоциональное воздействие.
б Корпус книг и статей по определенной теме.
(Краткий Оксфордский словарь английского языка)
Один из моих преподавателей в Оксфорде как-то встретил младшего коллегу в глубине научного отдела Бодлейской библиотеки и, склонившись, шепнул ему, поглощенному чтением, на ухо: “Вы, я вижу, голубчик, литературу смотрите. Не надо. Она вас только запутает”. На слове “смотреть” он спалился. Он употреблял слово “литература” в особом смысле, в котором его употребляют ученые – в соответствии с приведенным выше определением (б) из Оксфордского словаря. “Литература” для ученого означает все публикации, зачастую темно и невнятно написанные, относящиеся к определенной теме исследований. Джон Мейнард Смит однажды сказал: “Есть те, кто читает литературу. Я предпочитаю ее писать”. Это было с его стороны остроумно, но несправедливо по отношению к нему самому – он был добросовестным ученым, скрупулезно читавшим и учитывавшим работы других исследователей. Но его шутка опять же иллюстрирует два значения слова “литература”.
Под “литературой науки” в этом эссе я понимаю нечто, что ближе к словарному определению (а), приведенному выше. Я говорю о науке как литературе – об искусстве хорошо писать на тему науки. Это обычно подразумевает книги, а не научные журналы. Кстати, я считаю, что это прискорбно. Нет очевидных причин, почему бы научной статье не быть увлекательной и развлекательной. Нет причин, почему бы ученым не получать удовольствие от статей, чтение которых составляет их профессиональный долг. Во время своей работы редактором журнала Animal Behaviour я старался уговорить авторов избавиться не только от самоуничижительного страдательного залога, характерного для научного стиля (“Нами будет избран другой подход”), но также от традиционных унылых разделов “Введение, методы, результаты, выводы” – ради того, чтобы рассказать занимательную историю.
Однако перейдем к книгам.
Я сказал “хорошо писать на тему науки”, и это может создать неверное впечатление. Это не обязательно означает “изящную словесность” и, безусловно, не означает ее в том смысле, который передает (как это порой бывает) ощущение претенциозности, то есть belles lettres. Во второй половине эссе я перейду к Питеру Медавару, которому посвящена эта книга, потому что он, по моему мнению, был мастером научной литературы в том смысле, который подразумеваю я. По его словам, “пальцам ученого, в отличие от историка, никогда не следует увлекаться звучностью мелодии”. Ну, не то чтобы совсем никогда. Случайный орнаментальный пассаж оправдан романтикой науки – невообразимым масштабом расширяющейся Вселенной, величием и глубиной геологических эпох, сложностью живой клетки, кораллового рифа или тропического леса. Естественнонаучная поэзия в прозе Лорена Айзли или Льюиса Томаса, космические грезы Карла Сагана, пророческая мудрость Джейкоба Броновского? Медавар не стал бы – и ему, безусловно, не следовало бы – подвергать их цензуре.
Наука не нуждается в плетении словес, чтобы стать поэтической. Поэзия в самом ее предмете – в действительности. Необходимы лишь ясность и честность, чтобы донести эту поэзию до читателя и, приложив еще чуть-чуть усилий, вызвать те аутентичные мурашки по спине, которые порой считаются прерогативой искусства, музыки, поэзии, “великой” литературы в традиционном смысле слова. Это “чувство мурашек” знакомо жюри Нобелевской премии по литературе. И это объясняет, почему премия почти всегда достается романисту, поэту или драматургу, иногда философу, но пока ни разу не присуждалась настоящему ученому. Возможно, единственное исключение – Анри Бергсон, который, если только его вообще можно назвать ученым, создает отчетливо печальный прецедент. Я задаюсь вопросом: что если Нобелевскому комитету просто никогда не приходило в голову, что наука – поэзия действительности – это подходящий инструмент для великой литературы? В 1930 году Джеймс Джинс так писал в своей “Таинственной Вселенной” (The Mysterious Universe):
Стоя на своем микроскопическом обломке песчинки, мы пытаемся раскрыть природу и цель Вселенной, окружающей наш дом во времени и в пространстве. Наше первое впечатление сродни ужасу. Мы находим Вселенную ужасающей из-за ее огромных бессмысленных расстояний, из-за невообразимых глубин ее времен, на фоне которых история человечества – лишь мгновение ока, из-за нашего чрезвычайного одиночества и материальной незначительности нашего дома в космосе – миллионной доли песчинки среди всех песков мира. Но, ко всему прочему, мы находим Вселенную ужасающей еще и потому, что она кажется равнодушной к жизни наподобие нашей собственной; эмоции, амбиции и достижения, искусство и религия – все выглядит равно чуждым ее плану.
Позже нечто подобное скажет Карл Саган в своем знаменитом монологе из “Голубой точки”:
Посмотрите на это пятнышко. Вот здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы знаете, все, кого вы любите, все, о ком вы слышали, все люди, когда-либо существовавшие на свете, провели здесь свою жизнь. Сумма всех наших радостей и страданий, тысячи устоявшихся религий, идеологий и экономических доктрин, все охотники и собиратели, герои и трусы, созидатели и разрушители цивилизаций, все короли и крестьяне, влюбленные пары, матери и отцы, дети, полные надежд, изобретатели и исследователи, моральные авторитеты, беспринципные политики, все “суперзвезды” и “великие вожди”, все святые и грешники в истории нашего вида жили здесь – на пылинке, зависшей в луче света.
Земля – очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы (в триумфе и славе) на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокости, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало непонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть.
Эта голубая точка – вызов нашему позерству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте, и нет даже намека на то, что откуда-нибудь придет помощь и кто-то спасет нас от нас самих.
До сих пор Земля – единственный известный нам обитаемый мир. Мы больше не знаем ни единого места, куда мог бы переселиться наш вид – как минимум в ближайшем будущем. Наведаться – да. Закрепиться – пока нет. Нравится нам это или нет, в настоящее время только Земля может нас приютить.
Говорят, что занятие астрономией воспитывает смирение и характер. Вероятно, ничто так не демонстрирует бренность человеческих причуд, как это далекое изображение крошечного мира. По-моему, оно подчеркивает, какую ответственность мы несем за более гуманное отношение друг к другу, как мы должны хранить и оберегать это маленькое голубое пятнышко, единственный дом, который нам известен[1].
В 2013 году Каролина Порко, которая, наряду с Нилом деГрассом Тайсоном, больше всего подходит на роль Карла Сагана наших дней, запустила прекрасный флешмоб его памяти, пригласив население всего мира посмотреть вверх и улыбнуться на камеру, когда ее группа обработки снимков зонда “Кассини” фотографировала нас с Сатурна, с расстояния в полтора миллиарда километров, что разделяют эту планету и нашу “Голубую точку”:
Посмотрите вверх, подумайте о нашем месте в космосе, подумайте о нашей планете – о том, насколько она необычна, о том, какая она цветущая и животворная, подумайте о вашем собственном существовании, подумайте о масштабах достижения, которые знаменует эта фотосессия. Наш космический аппарат долетел до Сатурна. Мы настоящие межпланетные путешественники. Подумайте обо всем этом и улыбнитесь.
Для меня Каролина уже заслужила свое место в галерее ученых-поэтов, когда она не преминула поместить прах своего любимого наставника Юджина Шумейкера, которому судьба при жизни отказала в возможности стать первым геологом на Луне, в отправлявшуюся туда ракету вместе с выбранными ею строчками из Шекспира:
А Питер Аткинс, один из лучших англоязычных стилистов среди ныне живущих ученых, берет этот ужас перед пустотой и укрощает его с блаженной безмятежностью, которую иные осудят как сциентистскую, но я нахожу великолепной:
В начале было ничто. Абсолютное ничто, а не просто пустое пространство. Не было ни пространства, ни времени, ибо это было до начала времен. Вселенная была бесформенна и пуста.
Случайно в ней возникла флуктуация, и несколько точек, возникших из ниоткуда и обязанных своим существованием порядку, который они образовали, определили время. Случайное формирование порядка привело к рождению времени из слияния противоположностей, его появлению из ничего. Из абсолютного ничего, совершенно без вмешательства, явилось зачаточное существование. Зарождение пыли точек и их случайная организация во время стали стихийным, немотивированным актом, вызвавшим их к жизни. Противоположности, крайности простоты, возникли из ничего.
Сходную тему развивает и Лоренс Краусс во “Вселенной из ничего” (A Universe from Nothing), к которой я написал послесловие (см. сс. 409–413; в русском переводе “Все из ничего: Как возникла Вселенная”). Книга Аткинса, откуда я взял цитату – “Творение” (The Creation), – завершается гимном уверенности в могуществе науки:
Когда мы разберемся со значениями фундаментальных констант, убедимся, что они не могут быть иными, и отбросим их как не имеющие отношения к делу, мы добьемся полного понимания. Тогда фундаментальная наука сможет отдохнуть. Мы почти этого достигли. Полное знание – в пределах нашей досягаемости. Понимание распространяется по планете, как восход солнца.
Химика Питера Аткинса можно было бы по праву назвать поэтом в прозе, но он никогда не позволяет стилю возобладать над ясностью. А вот биолог, который видит мир глазами поэта, но тем не менее решительно научными глазами, – это Лорен Айзли:
С тех пор, как первый человеческий взгляд различил лист в девонском песчанике и озадаченный палец коснулся его, на сердце человека легла печаль. Эта тонкая нить живой протоплазмы, протянувшаяся назад во времени, навеки связывает нас с ушедшими в небытие берегами, чьи пески давно окаменели. Звезды, на которые обращали свой подслеповатый взгляд наши предки-амфибии, отдалились или исчезли со своих орбит, а эта голая, блестящая ниточка все еще вьется. Никто не знает тайны ее начала или ее конца. Ее формы призрачны. Реальна только нить; эта нить – жизнь[3].
Ученый и врач Льюис Томас пишет о фактах реальности, а затем высекает искру воображения, которая преображает прозу в поэзию:
Мы живем в пляшущей матрице вирусов; они снуют, как пчелы, от организма к организму, от растения к насекомому, к млекопитающему, ко мне и обратно, и в море, таща за собой кусочки того генома, цепочки генов из этого, прививая черенки ДНК, раздавая наследственность, словно на большой вечеринке[4].
Необязательно рассматривать вирусы в таком ключе. Голые факты допускают, но не диктуют, этот литературный образ. Однако стоит его добавить – и читателю становится яснее суть. А вот что Льюис Томас (тоже в “Жизнях клетки”) пишет о митохондриях:
Мы не состоим, как нам всегда казалось, из последовательно расширяющихся пакетов наших собственных частей. Нами совместно владеют, нас арендуют, оккупируют. Внутри наших клеток, служа их двигателем, обеспечивая окислительную энергию, которая дает нам силы сделать каждый сияющий день еще лучше, живут митохондрии, и в строгом смысле слова они не наши.
Мой бывший оксфордский коллега сэр Дэвид Смит нашел по аналогичному поводу уместную литературную аллюзию. Митохондрии настолько интегрировались в хозяйскую клетку, что их происхождение от проникших туда бактерий поняли лишь недавно.
В клеточной среде инвазивный организм может постепенно утрачивать части себя, медленно сливаясь с общим фоном, и его прошлое существование выдают лишь кое-какие пережитки. Пожалуй, это напоминает встречу Алисы в Стране чудес с Чеширским котом. У нее на глазах он “стал исчезать по частям, не спеша: сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное; наконец осталась только одна улыбка, – сам Кот исчез, а она еще держалась в воздухе”[5].
Нобелевский лауреат Питер Медавар, зоолог и иммунолог, которому посвящена эта книга, был, я думаю, величайшим литературным стилистом среди ученых двадцатого века, и я использую его как пример в следующей части своего эссе. Он был безусловно самым остроумным ученым, которого я когда-либо встречал. И в самом деле, если бы меня спросили, что такое “остроумие” и чем оно отличается от простого острословия, я бы мог наглядно определить его как “примерно все, что Питер Медавар когда-либо писал для широкой публики”. Вслушайтесь хотя бы вот в эти слова, которыми открывалась его Роменсовская лекция 1968 года в Оксфорде по теме “Наука и литература”:
Надеюсь, меня не сочтут невежливым, если я скажу в начале, что ничто на свете не заставило бы меня посетить такую лекцию, какую, по вашему предположению, я собираюсь сейчас прочесть.
Эта чудесная медаваровская реплика подвигла одного литературоведа в своем критическом отклике заметить: “Этого лектора никогда в жизни не считали невежливым”.
Медавар мог быть резким, мог высмеять, он не терпел претенциозного жаргона. Но он никогда не опускался до вульгарного хамства. Его насмешки над тем, что можно назвать “франкофонством” (думаю, что Питеру понравилось бы это слово), были безжалостны: его остроумие – это невозмутимое патрицианское искусство – того рода, который при чтении заставляет вас выбежать на улицу, чтобы поделиться им с кем-то – хоть с первым встречным. Как истинный стилист, у которого стиль служил ясности, он расправлялся с высокомерными “интеллектуалами”, ставящими стиль выше содержания:
Стиль сделался предметом первостепенной важности, и какой это стиль! Для меня в нем есть нечто высокопарное, напыщенное, полное самодовольства; он, без сомнения, возвышенный, но на балетный манер – время от времени он замирает в заученных позах, словно ожидая бури аплодисментов. Он оказывает прискорбное влияние на качество современной мысли…
Возвращаясь, чтобы атаковать ту же мишень под другим углом, Медавар писал:
Я могу процитировать доказательства того, что начинается кампания по дискредитации пользы ясности. Автор, писавший о структурализме в Times Literary Supplement, предполагает, что мысли, запутанные и мудреные по причине их глубины, лучше всего выражать преднамеренно неясной прозой. Какая противоестественно глупая идея! Мне это напоминает дружинника противовоздушной обороны в Оксфорде военных лет, который, когда яркий лунный свет как будто одержал победу над духом затемнения, порекомендовал нам надеть темные очки. Он, правда, шутил.
Эту лекцию о науке и литературе Медавар завершил собственным категоричным заявлением:
Во всех областях мысли, на которые могут претендовать наука или философия, включая те, на которые также по праву претендует литература, ни один человек, которому есть что сказать оригинального или важного, не станет добровольно подвергать себя риску остаться непонятным; те, кто пишет темно, либо не умеют писать, либо замышляют пакость. Однако авторы, о которых я говорю, в чисто литературном смысле умеют писать замечательно.
Подобная темнота решительно напрашивается на сатирическое осмеяние, и физик Алан Сокал воспользовался случаем. Его “Нарушая границы: К трансформативной герменевтике квантовой гравитации” (Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity) – изысканный шедевр: полная бессмыслица от начала и до конца, однако принятая к публикации в претенциозном журнале по литературной культуре, без сомнения, потому, что журнал и предназначался для публикации бессмысленной белиберды. В более недавнее время Питер Богоссян, Джеймс Линдси и Хелен Плакроуз одурачили редакторов журналов, протолкнув в печать ряд аналогичных пародий, – на этот раз пародировалось то, что они назвали “Исследованиями обид”: политически влиятельный жанр в духе жалости к себе (“Я больше жертва, чем ты”). Как бы понравились эти розыгрыши Питеру Медавару! Есть еще “Генератор постмодернизма”, компьютерная программа, придуманная для того, чтобы плодить бесконечное количество пародийных статей, неотличимых от бессмысленных реальных “постмодернистских” публикаций.
Если в этих цитатах непосредственно из Медавара ощущается нечто искренне антифранцузское, то ваши подозрения явно не развеет еще одна цитата, из его рецензии на “Феномен человека” Пьера Тейяра де Шардена – возможно, лучшей из всех когда-либо написанных отрицательных рецензий на книгу[6]. Но от него достается не только французским интеллектуалам и их попутчикам. Сравнение, которое Медавар проводит с некогда господствовавшей школой немецкой мысли – “этими трубными нотами из глубин Рейна” (какой образ, какой он изысканно “медаваровский!”), – показывает, что он не терпел никакой претенциозности:
“Феномен человека” всецело поддерживает традицию натурфилософии – философического кабинетного хобби немецкого происхождения, которое, кажется, даже случайно (при всем своем изобилии) не внесло никакой непреходящей ценности в сокровищницу человеческой мысли. Французский язык по своей природе не особенно подходит для туманных и громоздких выражений натурфилософии, и потому Тейяр прибегает к использованию той пьяной, эйфорической поэзии в прозе, которая составляет одно из самых утомительных проявлений французского духа.
Доброжелательный юмор притупляет стрелы иронии, так что вряд ли на это можно обидеться. Снова – “Этого лектора никогда в жизни не считали невежливым”. И в то же время эти стрелы, хотя на первый взгляд и притупившиеся, каким-то образом умудряются оставаться острыми и разящими. Какой контраст с Сэмюелом Джонсоном, который, по великолепному замечанию Питера, “по обыкновению потрясает рукоятью пистолета”!
В конце рецензии на Тейяра достается не только самому Тейяру, но и всему темному миру (мы скоро убедимся, что он выбрал это выражение не просто так) литературной культуры недоучек:
Почему люди ведутся на “Феномен человека”? Не следует недооценивать объем рынка подобной литературы – философически-художественной. Подобно тому, как обязательное начальное образование создало рынок для дешевых газет и журналов, так и распространение среднего, а с недавних пор и высшего образования создало большую популяцию людей, часто с хорошо развитыми литературными и научными вкусами, образованность которых существенно превышает их способность к аналитическому мышлению. Именно их глазами мы должны попытаться разглядеть, чем привлекателен Тейяр.
“Образованность которых существенно превышает их способность к аналитическому мышлению”. Несказанно восхитительно, ведь правда?
Может быть, иногда Питер заходил слишком далеко? Мои друзья женского пола обижаются на его объяснение заглавия одной из его книг, “Республика Плутона”:
Много лет назад знакомое мне лицо, пол которого рыцарственность не позволяет мне упоминать, воскликнуло, узнав, что я интересуюсь философией: “Вы ведь любите «Республику» Плутона?”
У него, несомненно, было развитое чувство озорства. Когда, в необычно молодом возрасте и еще малоизвестным, его избрали Джодрелловским профессором Университетского колледжа в Лондоне, Джон Мейнард Смит спросил Джона Холдейна, что за человек этот Медавар. Холдейн кратко перефразировал Шекспира: “Живет с улыбкой, и при этом подлец[7]”. Быть может, мы сами скрываем виноватое, компенсаторное озорство, когда радостно обнимаемся над строками рецензии Медавара на “Двойную спираль” Джеймса Уотсона “Счастливчик Джим”[8]:
Так уж вышло, что в 1950-е гг., в первую великую эру молекулярной биологии, английские школы Оксфорда и в особенности Кембриджа породили десятки выпускников с выдающимися способностями – куда более одаренных, изобретательных, ясно мыслящих и диалектически грамотных, чем большинство молодых ученых; того же класса, что Джим Уотсон. Но у Уотсона оказалось одно колоссальное преимущество над всеми ними: помимо того, что он был крайне умен, у него был важный повод проявить свой ум[9].
Думаю, определенные обиды из-за этого действительно возникли, за что Питер, любезный, как всегда, предложил полуизвинения. И у него оказалось огромное преимущество в том, что он был – на уровне, вероятно, беспрецедентном в истории нобелиатов – глубоко начитан и разбирался в литературе. Настоящий человек Возрождения – если использовать это затасканное выражение в его истинном смысле, – который мог соперничать с учеными практически в любой области, а не только в своей собственной.
Его универсализм напоминает его же великодушный и прекрасно написанный литературный портрет настоящего героя – Дарси Томпсона[10]:
…аристократ учености, чьи интеллектуальные дарования вряд ли когда-нибудь вновь соединятся в одном человеке. Он был достаточно крупным специалистом по античности, чтобы стать президентом Ассоциаций классиков Англии, Шотландии и Уэльса; достаточно хорошим математиком, чтобы его чисто математическую статью приняло к печати Королевское общество; и натуралистом, занимавшим важные должности на протяжении шестидесяти четырех лет… Он был знаменитым собеседником и лектором (считается, что эти два таланта сопутствуют друг другу, но на самом деле это бывает редко) и автором произведения, которое, если рассматривать его как литературу, может сравняться с любом текстом Пейтера или Логана Пирсолла Смита в своем абсолютном владении стилем бельканто. Добавьте к этому то, что он был свыше шести футов ростом, обладал сложением и статью викинга и гордостью осанки, свойственной тем, кто знает, что красив.
Понимал ли Питер, как много его собственных черт в этом описании? Сомневаюсь. Если меня попросят назвать одного ученого, которого я рассматриваю как ролевую модель, и в особенности одного автора, чей стиль письма вдохновлял меня больше других, я назову другого аристократа учености – Питера Медавара.
Не принадлежа к классу Медавара, ученый может глубоко любить литературу – и многие ее действительно любят. Книги всегда были важной составляющей моей жизни. В отличие от целого ряда биологов, я шел к своему предмету не через любовь к птичкам или историю дикой природы (это придет позже), а через книги и увлечение глубокими философскими вопросами бытия. Мое детское восхищение доктором Дулитлом способствовало моей любви к животным и моей моральной озабоченности их благополучием. В книге “Наука души” (Science in the Soul) я даже сравнил протагониста Хью Лофтинга с моим собственным кротким героем – Чарльзом Дарвином, молодым “философом” с “Бигля”.
Когда я подрос, то перешел на журнал комиксов Eagle и на “Дана Дейра, пилота будущего”. Меня захватывала романтика космических путешествий, пусть даже наука там и была чересчур халтурной (нельзя попросту ухватить джойстик и полететь куда-то в направлении Венеры; приходится рассчитывать орбиты, планировать гравитационные маневры и использовать рассчитанную силу притяжения). Позже романы Артура Кларка просветили меня насчет подобных ляпов и привили мне любовь к научной фантастике.
Мы со школьными друзьями, живо обсудив моральные и политические выводы, вытекающие из “Дивного нового мира”, перешли к другим романам Олдоса Хаксли, которые, не будучи сами по себе фантастикой, явно написаны человеком, глубоко начитанным в научной литературе и способным понять мысли и чувства ученых. Ученые, такие как мечтательный лорд Тэнтемаунт в “Контрапункте”, – одни из самых симпатичных персонажей Хаксли. На “И после многих весен”[11] безусловно повлияло его научное чтение, в том числе опыты его брата Джулиана на аксолотлях с впрыскиванием им гормона щитовидной железы и превращением их в невиданных прежде саламандр[12]. Мы – неотенические обезьяны, и если проживем двести лет, то не превратимся ли в волосатых четвероруких, как вымышленный граф Гонистер у Хаксли?
Часть своих научных познаний я приобрел благодаря чтению научной фантастики (см., например, мое предисловие к “Черному облаку” Фреда Хойла на с. 98), и это заставляет меня задаваться вот каким вопросом: почему, чтобы усвоить тот или иной урок, нам иногда нужна художественная литература? Почему нам нравится вымысел? В чем притягательность историй о несуществующих людях и никогда не происходивших событиях, и почему мы используем их в качестве легкого развлечения после того, как прочли о действительности? Не очень подходящий пример “легкого развлечения”, но все же – почему Уильям Голдинг написал “Повелителя мух” в художественной форме, хотя мог сотворить пророческий трактат о человеческой психологии с серьезными прогнозами того, что произойдет, если группа школьников окажется заброшенной на остров без взрослых? Герберт Уэллс писал и то и другое: пророческую художественную литературу и нехудожественные размышления в своих знаменательных (а для современных читателей местами удручающих) “Предвидениях о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль”. Но что делает вымысел столь приятным? Думаю, я смутно понимаю ответ, но я не литературовед, и с моей стороны было бы самонадеянно вламываться туда, где ступали Генри Джеймс, Э. М. Форстер и Милан Кундера.
Заглавие, которое я выбрал для настоящего издания – “Книги украшают жизнь”, – отражает ту любовь к книгам, из которой я на протяжении многих лет принимаю приглашения писать предисловия, введения и послесловия к восхищающим меня произведениям, участвовать в сборниках статей и рецензировать книги, которые могли бы (а иногда не могли бы) вызвать у меня восхищение. Перед вами подборка этих текстов, составленная в сотрудничестве опять же с Джиллиан Сомерскейлс (которой я, как всегда, чрезвычайно благодарен за грамотную добросовестность). Любой из них мог войти в нашу предыдущую антологию, “Наука души”, но оказалось весьма кстати придержать их для отдельного издания текстов о книгах – сборника, который, как я надеюсь, дает кое-какое представление о многообразии и качестве научно-популярной литературы.
Часть I Орудия двух производств, или как писать о науке
Беседа с Нилом деГрассом ТайсономО науке и ученых, публично и приватно
В апреле 2015 года я встретился с Нилом деГрассом Тайсоном, директором Хейденовского планетария, в его кабинете в Нью-Йорке. Мы говорили почти полтора часа, затрагивая многие небезразличные нам темы, и наша беседа была записана для радиопередачи “Звездный разговор” (StarTalk)[13], которую ведет Нил. Здесь публикуется сокращенная расшифровка отрывков из этого разговора.
Быть может, устройство нашего мозга просто не предназначено для логического мышления? Стали бы вы доверять врачу, который, как вам известно, придерживается антинаучных взглядов? Как переубеждать людей? Сколько среди ученых верующих – и имеет ли это значение?
НДТ: Итак, у меня здесь живой, настоящий, единственный, неповторимый и неподражаемый Ричард Докинз. Ричард, спасибо, что пришли.
РД: Большое спасибо вам.
НДТ: Я хотел бы поговорить с вами о способностях человеческого ума к познанию, мышлению и вере. Знаете, я обратил внимание на то, как часто у людей бывают проблемы с математикой. Несложно угадать предмет, про который больше всего людей говорит “Мне он никогда не давался…”. Это математика. И я говорю себе: “Если бы наш мозг был предназначен для логического мышления, то математика была бы для всех самым легким предметом”. Все остальное было бы труднее. Так что я вроде бы вынужден заключить, что наш мозг не предназначен для логики.
РД: Хорошая мысль. И дело не только в этом. Думаю, в неспособности к математике есть своего рода немотивированная гордость. Что-то не слышно, чтобы кто-нибудь похвалялся своим незнанием Шекспира, но многие похваляются своим незнанием математики.
НДТ: А если не похваляются, то говорят: “Мне никогда не давалась математика, ха-ха-ха!” – они хихикают на эту тему. Как над анекдотом.
РД: Да. Была такая статья в одной британской газете, в которой автор, пишущий о науке – кажется, научный журналист, – сокрушался по поводу того, что многие британцы считают, будто Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц, и редактор внес пометку: “А разве нет? – Ред.”. Подразумевалось как бы: “Я редактор национальной газеты, и, конечно, я не думаю, что на самом деле за месяц, – но тем не менее можно пошутить по поводу незнания этого элементарного факта астрономии”, – никто бы так не шутил, если бы Байрона спутали с Вергилием или там…
НДТ: И не гордился бы подобным. Итак, вам придется признать, что нам как человеческим организмам должно быть очень непросто мыслить рационально, логично, научно.
РД: Да. Вы высказали очень интересное соображение, что, может быть, мы не предназначены для того, чтобы нам хорошо давалась логика – ну, вы экстраполировали с математики на логику, – но я думаю, что это интересное соображение, что наши дикие предки, которым нужно было выживать в присутствии львов, в условиях засухи, голода и прочего… казалось бы, не математика, так логика должна быть достаточно важной для выживания.
НДТ: Ну, возможно, были древние люди, которые рассуждали: “Ой, зверь с большими зубами. Дайте-ка рассмотрю получше…”
РД: Да. В некотором смысле это правильно: любопытство может плохо кончиться.
НДТ: Любопытство не всегда полезно.
РД: У меня был двоюродный брат, который в детстве сунул палец в розетку, его ударило током, так он повторил это, просто чтобы убедиться! Он был настоящим ученым, но для выживания это не очень хорошо.
НДТ: Верно! Поэтому, наверное, нутряная реакция бежать, пугаться или… заклинать… Думается, вот что я пытаюсь понять: немалая доля человеческой цивилизации обусловлена не логическим мышлением, а тем, что можно назвать попросту алогическим мышлением. Возьмем алогическое мышление и, скажем, искусство: у меня на стене Ван Гог, но никто не собирается спрашивать его: “Насколько логично вы мыслили, когда рисовали звездную ночь?». В чем тогда смысл возражать людям, которые так чувствуют? Потому что я больше устраняюсь от этих баталий, чем вы. Вы на передовой, а я, так сказать, в тылу и наблюдаю за вами, и я хочу сказать, что иногда людям просто хочется чувствовать, а не думать.
РД: Да. Я вновь возвращаюсь к эволюционным корням этого. Когда вам приходится выживать во враждебной среде, то, может быть, вам действительно требуется в какой-то степени алогическое…
НДТ: Нутряное чувство.
РД: Да. Может быть, вам приходится бояться вещей, которых логика вам бояться не велит… а может быть, это вопрос вероятности того, что данная вещь действительно опасна.
НДТ: Или вопрос цены для вас, если она опасна.
РД: Цены для вас. Если вы видите, как шевелятся ветки деревьев, это может быть леопард, который собрался на вас прыгнуть, но с куда большей вероятностью это ветер, и логическое, рациональное объяснение – скорее всего это ветер. Но когда ваше выживание зависит от малейшей возможности – на самом деле не малейшей, просто более низкой вероятности, что это может быть леопард, то благоразумно будет избегать риска больше, чем…
НДТ: Чем оправдано статистикой.
РД: Именно так.
НДТ: Ладно. Итак, у нас мир, где… мы пленники этого генетического шаблона, который имеет место; и думаю, моя позиция состоит в том, что я возражаю против этого меньше, чем вы.
РД: Допустим.
НДТ: И… как говорят в таких случаях, у вас ведь это уже в печенках сидит? Ну ладно… давайте обсудим!
РД: Один бывший профессор астрономии из Оксфорда рассказал мне историю об американском астрофизике, который пишет ученые статьи для астрономических журналов, математические статьи, а математика основывается на представлении, что Вселенной 13–14 миллиардов лет. И вот этот человек пишет статьи, проводит расчеты и все такое – и тем не менее в душе он убежден, что миру всего шесть тысяч лет. Вы-то можете относиться к этому толерантно, ведь вы можете сказать: “Ну, если у него цифры сходятся, если у него статья научно обоснована…”
НДТ: Научно обоснованная статья, да.
РД: А я бы сказал, что этого человека надо уволить. Ему не следует быть профессором астрофизики в американском университете. И здесь мы, вполне вероятно, расходимся, потому что вы можете сказать: его личные верования – его личное дело, ко мне они отношения не имеют, если с астрономией у него все в порядке, то и ладно.
НДТ: Да, я соглашусь с вами – я бы отреагировал именно так. То, чем он занимается дома по воскресеньям, его личное дело – пока он не тащит это в научную аудиторию, для меня неважно, что он думает.
РД: Ладно, давайте я приведу еще более экстремальный пример. На этот раз вымышленный. Представьте себе, что вам надо обратиться к врачу, и пусть это будет глазной врач, потому что они вроде как… выше пояса… но вы узнали, что он втайне не верит в половую теорию размножения. Он считает, что детей приносят аисты.
НДТ: К такому врачу я не пойду.
РД: Вы к такому врачу не пойдете, но я встречал много людей – особенно в Америке, – которые говорят: “Не ваше дело, во что он верит ниже пояса… он глазной врач. Он компетентен? Он может вылечить вашу катаракту?”. Я не думаю, что ему следует работать в больнице, ведь то, что говорят об этом человеке, подразумевает, что его сознание настолько оторвано от реальности, что пусть даже он компетентный глазной хирург, ему, как мне кажется, не стоит доверять.
НДТ: Как интересно, вы реагируете так, как реагируют наши предки, слыша шуршание в кустах, потому что чаще всего это ветер, иногда это леопард, и это создает фактор страха, который перевешивает все остальное. Он хороший глазной хирург, он или она хороший глазной хирург, но остается риск, что аистовая теория размножения может как-то повлиять на скальпель. И вы опасаетесь этого риска.
РД: Не уверен, что это обязательно влияет на скальпель. Думаю, это что-то…
НДТ: Ага, то есть вы возражаете принципиально.
РД: Полагаю, так.
НДТ: То есть не на практическом уровне. Это для вас вопрос принципа.
РД: Возьмем профессора географии, который считает, что Земля плоская, но…
НДТ: …но при этом делает идеальные глобусы.
РД: Да, как-то так. Да, именно. Есть такие люди…
НДТ: То есть вы человек принципиальный. Вы хотите, чтобы весь комплект подчинялся единой логике.
РД: Думаю, так.
НДТ: Так вот, что вы с этим делаете? Потому что я-то на самом деле ничего не делаю. Вы хотите это изменить; а мы только что совместно признались, что мы пленники мистических, магических способов мышления – или алогичных способов мышления, – а вы хотите поменять биологическую директиву человеческого мозга. Как вы это делаете?
РД: Мне нравится выражение “воспитание сознательности”. Не хочу быть диктатором и утверждать, что нужен закон против алогичного мышления. Не такой я фашист! Но…
НДТ: Знаете, что будет, если… давайте представим себе будущее, в котором всех алогичных людей переселили в какую-то одну страну. Тогда вся музыка и все искусство будут экспортироваться из этой страны, ведь так? Все истинно творческие люди – одни из самых алогичных людей, которых я встречал, однако они творят и делают мир несколько более интересным. Но это другой вопрос. Ладно, так что вы делаете? Вы хотите воспитывать сознательность. Есть у вас тактика? Потому что я тоже хочу воспитывать сознательность. Давайте сравнивать.
РД: Ладно. Я подозреваю, ваша тактика лучше моей, потому что ваша тактика, думаю, в том, чтобы подавать пример.
НДТ: Да.
РД: Ну, а моя – в том, чтобы практиковать логику, практиковать науку, изумлять наукой. И мне тоже нравится все это делать.
НДТ: Более того, слово “изумлять” есть в заглавии вашей книги. Ваши мемуары – “Потребность изумляться”, – я думаю, она есть у любого ученого и большинства людей.
РД: Да, и это на самом деле подзаголовок другой моей книги, “Расплетая радугу” (Unweaving the Rainbow) – подзаголовок “Наука, заблуждения и потребность изумляться”. И кстати, эта книга – “Расплетая радугу” – моя попытка соединить поэзию с наукой. Это словосочетание, заголовок, взято из нападок Китса на Ньютона за то, что тот “расплел радугу”. Китс считал, что Ньютон уничтожил поэзию радуги, объяснив солнечный спектр. А идея моей книги в том, что это не так: что, уничтожая тайну, вы прибавляете поэзии, а не убавляете ее.
НДТ: И я пытаюсь этого добиться всей моей работой. Удается мне это или нет, но я стремлюсь к этому. Так где мы с вами различаемся? Или куда еще вы заходите?
РД: Я, конечно, хочу пройти весь путь до конца. Я на стороне Ричарда Фейнмана, который сказал: “Когда я смотрю на розу, я вижу ту же красоту, которую видит в розе поэт или художник, но я также черпаю поэтическое вдохновение в том, что мне известно: этот цвет нужен для того, чтобы привлекать насекомых, и возник в ходе естественного отбора”.
НДТ: Я чувствую то же самое в отношении красивых закатов. Думаю, когда вас хотят заставить подумать о Боге, чаще всего приводят образ заката с расходящимися лучами света.
РД: Частицы пыли в…
НДТ: …в атмосфере! Так что я тоже… Я глубоко ценю красоту великолепного заката с занавесом сумеречных красок, переходящих, знаете, от синего к голубому, – и красное солнце. Но я также знаю, что поверхность солнца – шесть тысяч градусов, и что оно на самом деле рассеивает атмосферу, что капельки воды конденсируются и образуют облака, так что тут я согласен с фейнмановским подходом. Но вы ведь заходите дальше, так до чего вы доходите?
РД: Может быть, я захожу чуточку дальше в направлении добродушных насмешек над абсурдными идеями, типа астрологии, типа гомеопатии.
НДТ: Вы говорите, что они добродушные, но люди, которые стали жертвами вашего остроумия и интеллекта… они-то считают вас добродушным?
РД: Наверное, нет. По правде говоря, меня это не волнует. Меня заботят не только астрологи, с которыми я разговариваю, но и, к примеру, радиослушатели или кто там нас слушает.
НДТ: Да, широкая аудитория… потому что у вас есть заметные платформы, где вы выступаете с этим.
РД: Мы оба выступаем. И мне часто делали замечание, что, если назвать кого-то идиотом, его этим не переубедить, и это, наверное, правда, но зато можно переубедить тысячи слушателей, потому я меньше стесняюсь называть его идиотом.
НДТ: Ладно, так вот, когда вы беседуете с отдельной личностью, зная, что у вас есть платформа, даже если эта личность чувствует себя оскорбленной, чувствует себя некомфортно или глупо, вы полагаетесь на то, что есть какие-то другие люди, которые, возможно, колеблются и на которых могут повлиять ваши аргументы? Что касается меня, то, наверное, я больше сторонник разговора один на один. Я хочу разговора наедине, а подслушивающие, возможно, воображают, будто присутствуют при нем. И это моя тактика, если ее можно так назвать – я скорее ощущаю, что говорю один на один с собеседником, а не с аудиторией.
РД: У вас огромная аудитория.
НДТ: Можно привести пример? Как бы вы поступили в таком случае? У меня есть родственница, у которой умер отец. Он мой двоюродный брат, она моя двоюродная племянница. Она одна в комнате с отцом. Отец мертвый в открытом гробу. Она сообщает мне – это было несколько недель спустя, – и, кстати, она агент по недвижимости и отлично умеет вести расчеты. Она сказала, что ее отец сел в гробу и она с ним разговаривала. И я спросил: “Что он сказал?”, – а она говорит: “Он сказал: «Не расстраивайся, я в лучшем мире»”, – и она отвечает: “Я рада; нам грустно, что тебя нет, но я рада это слышать”. Вот такой был разговор. И я подумал: “Ну, и что мне с этим делать? Это же моя семья, как мне поступить?”. Вот что я сделал. Я сказал: “В следующий раз, когда такое случится, задай ему вопросы, которые могут быть действительно полезными по эту сторону барьера, например: «Где ты находишься? Ты одет? Где ты взял одежду? Там, где ты, есть деньги? Какая там погода? Кто там еще? Сколько тебе там лет? Ты себе кажешься молодым или старым? А бабушка там? Сколько ей лет? Если бабушка окажется там, где она окажется, она будет старой? Или опять будет молодой?» Задавай вопросы”.
РД: Думаю, это замечательный ответ[14].
НДТ: Получить информацию. И вот она взяла это на заметку. Всякий раз, когда мы с ней видимся, она говорит: “Я поняла, мы обязательно так сделаем”. И вот теперь у нее есть собственный маленький эксперимент, который она собирается проделать в следующий раз, когда покойник поднимется и заговорит с ней. Так что бы вы – позвольте спросить – что бы вы сделали?
РД: Мне бы такое не пришло в голову – жаль, что не пришло бы. Но мне в самом деле любопытно – я хочу сказать, вы думаете, что она врала? Вы думаете, у нее была галлюцинация?
НДТ: Ох, не знаю. Я имею в виду, у меня астрофизическое образование, и мое первое объяснение – что это была галлюцинация, ведь все, что мы знаем о покойниках, говорит нам, что они не встают и не разговаривают, и, разумеется, нет никаких свидетелей или видео. Но меня не интересовало, было ли… насколько реально это было с ее точки зрения. Меня интересовало то, что я, по-моему, дал ей инструменты; я дал ей инструменты, чтобы в следующий раз, когда это случится, она могла отделить объективную реальность от того, что может происходить в ее сознании. И тогда она придет к этому выводу сама, а не потому, что я сказал ей, что у нее галлюцинация.
РД: Да, по-моему, это потрясающе. Я хочу сказать, если она все еще… горевала, все еще скорбела, то мне было бы непросто сказать “У тебя была галлюцинация”.
НДТ: Это было бы бесчувственно.
РД: Да, бесчувственно.
НДТ: Так у Ричарда Докинза есть чувствительность!
РД: О, разумеется.
НДТ: Прошу занести в протокол – Ричард – он может разнюниться!
РД: Но, если отставить это в сторону, думаю, я бы сказал что-нибудь вроде: “Наверное, ты задремала и тебе приснился сон”, – что-то вроде этого.
НДТ: Потому что на такие моменты можно опереться, да?
РД: Я имею в виду, мы все видим сны, каждую ночь, и во снах мы переживаем вещи, которые совершенно нереальные, совершенно сюрреалистические, и чаще всего мы не понимаем, что видим сон. Это на самом деле дает нам кое-какое представление о том, что значит сойти с ума. Каждую ночь я бываю сумасшедшим, потому что мне снятся сны. Любой рациональный человек мог бы тут же сказать: “Это не реальность”. Так что, я думаю, это был бы еще один способ, достаточно сочувственный способ сказать это – но ваш способ мне нравится больше.
НДТ: Я просто говорю, что такой у меня метод, если угодно. Это мой метод общения. И я могу сказать вам, что – в моей собственной жизни – атеисты то и дело пытаются меня “присвоить”, заявить на меня права как на атеиста, а мое возражение состоит в том, что я просто не хочу этого звания. Я не хочу, чтобы на меня навешивали ярлыки, потому что, если кто-то придет ко мне с ожиданием, что я буду соответствовать этому званию, или что некий ярлык подсказывает, что я буду говорить, тогда этот кто-то будет думать, будто ему заранее известны мои аргументы. А я бы хотел, чтобы он выслушал меня с нуля, выслушал, как я строю аргумент и строю диалог, чтобы мы затем строили его вместе. Я тут вставлю одно неочевидное наблюдение: когда я преподавал в колледже, дело было в то время, когда еще были такие листы для проектора, на которых можно было писать, или их можно было подготовить заранее, и вот некоторые профессора просто шлепали на проектор полностью готовый лист, весь исписанный заметками, и читали эти заметки вслух.
РД: А не строили лекцию.
НДТ: А не строили лекцию. И я говорил: “Не надо! Если вы так сделаете, они просто все скопируют!” В то время как, если вы нарисуете первую часть диаграммы – вот ось температуры, а вот время, а вот… а потом объедините идеи вместе, студенты гораздо глубже поймут, что происходит.
РД: Это очень хорошая дидактическая мысль, когда речь идет о преподавании. Не уверен, что это применимо к тому, что вы говорили о ярлыках. Я хочу сказать, вы бы не…
НДТ: Нет, это применимо к диалогу. Если вы ничего обо мне не знаете, вам придется узнать. С нуля.
РД: Но если, к примеру, известно, что вы рационалист? Если известно, что вы реалист, известно, что вы тот, кто основывает выводы на доказательствах? У вас все равно будет потребность скрывать этот ярлык?
НДТ: Я о том, что собеседник может заранее настроиться защищаться, может заранее встать в позу, заранее попытаться выстроить какие-то аргументы, а это мешает чистоте диалога, который мог бы иметь место. Искренности диалога, которую я ценю в разговоре с глазу на глаз.
РД: Ну, я думаю, я вел бы себя так же. Я имею в виду, если бы я собирался с кем-то поужинать и хотел бы убедить его в своей точке зрения, не думаю, что я бы с порога заявил: “Итак, я атеист!” Думаю, я подходил бы к этому постепенно. Постепенно заполнял бы лекционный слайд. Но если бы я жил в стране – вроде Соединенных Штатов, – где с таким ярлыком невозможно победить на выборах, думаю, это было бы вроде гей-прайда – все равно что выступить и заявить: “Я гей”, – или: “Я не гей, но сочувствую однополым бракам”, или что-то в этом духе.
НДТ: Но, полагаю, различие отчасти в том, что в движении секуляризма… там присутствует стремление склонить больше людей думать подобным образом, или быть такими же, на том основании, что это улучшит общество. Или заставит общество принимать более рациональные решения. Я не знаю ни одного гея, который ставит цель сделать всех геями. Они просто хотят, чтобы их уважали такими, какие они есть, но они не пытаются сделать геями всех остальных. И здесь отличие, скажем, от вашей книги “Бог как иллюзия”. Не существует книги “Гетеросексуальность как иллюзия”, где было бы написано: “Мы правильные”. Так что для меня существует разница в целях между гей-движением и движением секуляризма, если угодно.
РД: Думаю, вы преувеличиваете стремление секуляризма обратить всех в свои убеждения. Это скорее: “Мы хотим обратить вас не в атеизм, а в представление о том, что атеистов нельзя дискриминировать”.
НДТ: Так мы живем в иные времена, чем были сто лет назад? И Дарвин углубил раскол? Было сообщество верующих, которое после Дарвина укрепило свои позиции? Потому что я не помню подобного уровня конфликта. Может быть, я просто о нем не знал. Не претендую на исчерпывающее знание общественных и культурных нравов всего мира, но я помню дни, когда верующие ходили в церковь, синагогу или мечеть по выходным, а в будние дни дети ходили в школу и обучались науке.
РД: Похоже, в современной Америке это реальное явление – что неверующие рискуют подвергнуться остракизму. Хотя это не относится к таким местам, как Кремниевая долина, где я только что побывал. В Кремниевой долине я постоянно встречал людей, которые говорили: “В чем проблема? Я атеист, всем известно, что я атеист!” – но они-то живут в Кремниевой долине!
НДТ: Как насчет Великобритании или Европы в целом? Она ведь очень неверующая, правильно?
РД: Да, и парадоксальным образом во многих европейских странах имеется организованная церковь, и это может быть не случайно. Может быть, организованная церковь делает религию скучной, тогда как в Америке религия…
НДТ: У нас религию можно выбирать.
РД: Свобода предпринимательства. Выбор.
НДТ: Да.
РД: Вы рекламируете свою мегацерковь.
НДТ: И я могу быть последователем тех проповедников, которые мне нравятся, и…
РД: И ходить в эту церковь, и в эту церковь, а не в ту и…
НДТ: Это замечательно.
РД: В Британии люди ходят в церковь только на венчания и отпевания.
НДТ: Когда я ненадолго ездил туда – мы снимали фильм “Космос”, – тогда я узнал… Ну, вы же в курсе, что существует такая штука, как Англиканская церковь, но на практике это административное учреждение, а так в церковь никто не ходит.
РД: Да. Она коронует монарха…
НДТ: Именно!
РД: Да.
НДТ: А остальная Европа?..
РД: Думаю, Европа очень разная. По-моему, во Франции и в традиционно католических странах – Франции, Италии, Испании, – там очень силен антиклерикализм, но Соединенные Штаты выделяются религиозностью, как белая ворона. Из Европы надо двинуться в сторону Ближнего Востока, чтобы увидеть подобную увлеченность религией.
НДТ: Так вот, если оглянуться назад, то до двадцатого века практически все знаменитые ученые – верующие. Галилей верующий, он набожный католик. Ньютон был англиканином, но возражал против догмата Троицы; у него были вопросы. Нередко современные верующие ссылаются на религиозность ученых прошлого, да и если посмотреть на цифры наших дней… я не проверял новейшие данные, но когда я проверял, то в США аж треть практикующих, публикующихся ученых называет себя верующими однозначно, когда их спрашивают: “Вы молитесь? У вас есть всемогущее существо, которое вмешивается в ваши повседневные дела?” И они отвечают: “Да”. Поэтому нельзя говорить, что религиозность сама по себе является проблемой; вам придется переформулировать этот аргумент и сказать, что тогда, когда вы хотите заниматься этим с вашими религиозными убеждениями, это становится проблемой. Но вообще, для всех остальных, проблемы нет.
РД: Ладно, давайте я выскажусь по этому пункту. Во-первых, по-моему, нам следует проводить большое различие между историческим прошлым и сегодняшним днем.
НДТ: Безусловно, я смешал их. Простите.
РД: Ньютон, Галилей… это до Дарвина. До Дарвина невозможно было не быть верующим – разве что если бы вы были закоренелым скептиком. Ведь, когда я смотрю на окружающий мир, кажется практически очевидным, что его кто-то должен был спроектировать, – пока не явился Дарвин. Как можно осуждать Ньютона и Галилея? Поэтому меня совершенно не впечатляет данный аргумент. Что касается одной трети ученых в Америке – примерно так оно и есть, судя по опросам, которые мне попадались. Но если от ученых вообще перейти к научной элите – исследования проводились как на материале Американской национальной академии, так и Королевского общества Британского Содружества, – к соответствующим элитарным академиям наук, то там только 10 %. Вы скажете, что нас все-таки должны тревожить эти 10 %…
НДТ: Ну, не знаю, можно ли употреблять тут слово “тревожить”: хотя это высказывание мне и приписывают, на самом деле я имел в виду, что вот у нас есть такие люди, как вы, отстаивающие свою позицию перед публикой, – но я не вижу, чтобы вы отстаивали ее перед той самой третью ученых, наших профессиональных собратьев; а как вы можете надеяться обратить публику, привести ее к более рациональному мышлению, когда наше собственное научное сообщество на треть такое, причем даже в элитарной группе, ведь эти 10 % – не ноль процентов.
РД: Верно. Но здесь нужна толика осторожности. Если спросить ученых, во что они на самом деле верят, они могут ответить, что они верующие, могут сказать “я иудей” или “я христианин”. Если их действительно спросить, эту треть… а возможно, конкретнее, как раз эти 10 %… во что они верят, они будут говорить о тайне Вселенной – у них есть своего рода почтительное отношение, которое присуще и мне, думаю, что и вам тоже. Но если вы спросите: “Вы в самом деле верите во что-то сверхъестественное? Я знаю, вы называете себя христианином, но вы верите, что Иисус родился от девственницы и воскрес из мертвых?” – то они, конечно, не верят. Значит, их придется вычесть, подозреваю; вычитаем эйнштейнианцев…
НДТ: То есть эйнштейновский Бог – это Бог Спинозы, Бог Вселенной, отвечающий за законы и прочее, отвечающий за Вселенную, наблюдаемую наукой. Это просто недоказуемо, вот и все.
РД: По-моему, он даже не “отвечает за Вселенную”; думаю, просто Бог и есть Вселенная. А это немножко не то же, что думать, будто существует разум, который все это сотворил. Итак, я думаю, что вам понадобится их вычесть. И тогда у вас остаются те немногие, которые действительно верят в непорочное зачатие, и я не знаю, как с ними быть. По-моему, они, так сказать, предатели науки.
НДТ: Но тем не менее они занимаются наукой! То есть ваше возражение философского порядка.
РД: Как в случае с астрофизиком, о котором я рассказывал. Мы это уже обсуждали. Но я скажу вам еще кое-что. Мой британский фонд проводил опрос – мы заказали опрос общественного мнения, – и мы выбрали ту же неделю, в которую проходила перепись населения 2011 года, а в Британии при переписи задают вопрос о вероисповедании и нужно отметить галочкой “христианин”, “иудей”, “мусульманин” и т. д. или “неверующий”. Так вот, мы привлекли профессиональную организацию, занимающуюся соцопросами, чтобы выбрать тех, кто поставил галочку “христианин”, и узнать, во что они на самом деле верят. Конечно, это была всего лишь небольшая выборка, пара тысяч, но это делалось профессионально. И мы задавали им вопросы типа: “Вы отметились как христианин, то есть вы верите, что Христос ваш господь и спаситель?” Нет. “Вы верите, что Христос родился от девы?” Нет. “Вы верите, что Христос воскрес из мертвых?” Нет. “Тогда почему вы называете себя христианином?” Ну, потому что мне нравится считать себя хорошим человеком. Вот на какой уровень проваливаются люди, соглашаясь поставить галочку в графе “христианин”, чтобы получить ярлык, принять на себя ярлык “христианина”. Затем мы говорили: ладно, вам нравится считать себя хорошим человеком – это было не продолжение, это все отдельные вопросы, – вам нравится считать себя хорошим человеком; тогда ответьте: когда вы в собственной жизни сталкиваетесь с нравственной дилеммой, вы обращаетесь к религии, или вы обращаетесь к своим друзьям? Вы обращаетесь к своему культурному багажу?
НДТ: Отличный вопрос. Прекрасный вопрос. Хочется прокомментировать, но давайте дальше.
РД: И, если не ошибаюсь, всего около 9 % людей, отметившихся христианами, ответили, что обращаются к религии, хотя большинство ответило, что отметилось христианами потому, что им нравится считать себя хорошими людьми. Вот что на самом деле это показывает: будьте скептиком, когда люди говорят вам, что они верующие. Будьте скептиком, когда вам говорят “я христианин” или “я иудей”; в особенности если говорят “я иудей”. Это, скорее всего, значит, что человек следует иудейским традициям и…
НДТ: В Америке, как правило, ровно это и значит. Ну, если не считать настоящих хасидов, практикующих. Здесь, в Штатах, иудаизм – скорее культура, чем религия.
РД: И это нормально.
НДТ: Однажды я давал интервью журналу New Yorker, и в какой-то момент интервьюер спросил меня, был ли я воспитан в лоне какой-либо религии. Я сказал, что да, меня воспитывали католиком, и это было впервые, когда я признался в этом на публике. Я никогда не пытался скрывать это, меня просто никто раньше не спрашивал. И я сказал: но дело обстояло так – вначале мы ходили в церковь каждую неделю, затем это сократилось до раза в месяц, а затем мы стали “пасхальными” католиками, теми, кто ходит в церковь только по праздникам, – конечно, Рождество мы тоже праздновали. Что я на самом деле хотел подчеркнуть в этой статье – то, что это никаким очевидным образом не влияло ни на какие решения, которые мы принимали; мама никогда не подходила к нам со словами: “Нельзя этого делать, потому что боженька видит”. Не велось у нас дома подобных разговоров. Но надо было написать в статье про Нила деГрасса Тайсона: “Он был католиком, но теперь он ученый и расстался с католицизмом”, – как будто имел место какой-то значительный поворот.
РД: Но поворота не было.
НДТ: Поворота не было! Понимаю, почему людям хочется проводить подобные ассоциации, но в нашем доме никогда не думали: “Как бы поступил Христос?” Только: “Как бы поступил разумный, думающий человек?” И вот так складывалась вся моя жизнь.
Я все-таки предпочитаю обходиться без ярлыков. Единственная группа, к которой я себя причисляю, – это ученые, а обо всем прочем можно поговорить, как мы только что поговорили с вами.
Итак, Ричард, спасибо, что приехали. Разговор у нас затянулся.
РД: Да.
НДТ: Всякий раз, когда я вас вижу, я думаю: “Хочу рассказать ему то”, “Хочу поразмышлять об этом” и узнать его взгляды на это – так что замечательно, что вы приехали. Еще раз спасибо.
РД: Спасибо вам!
Нездравый смысл науки
Эта рецензия на “Противоестественное естество науки” (The Unnatural Nature of Science) Льюиса Вольперта вышла в Sunday Times в 1992-м. У д-ра Вольперта, выдающегося британского эмбриолога, родившегося в Южной Африке в 1929 году, репутация откровенного, иные скажут – страдающего сциентизмом (на мой и, вероятно, его взгляд, однако же не на их взгляд, это комплимент), борца за науку. Своим насмешливым тоном он не стесняется высказывать сомнения в пользе философии, особенно некоторых модных школ философии науки. Обычно веселый и приятный собеседник, временами он страдает приступами тяжелой депрессии, живо и трогательно описанной в “Злой тоске” (Malignant Sadness).
Вылейте в море стакан воды. Дайте ей время равномерно распределиться по океанам мира. Затем зачерпните еще стакан из моря в любом месте. Почти наверняка в нем будет как минимум одна молекула воды из первого стакана. Дело в том, что, по словам Льюиса Вольперта, “в стакане воды намного больше молекул, чем в море – стаканов воды”. Из этого простого утверждения следуют ошеломляющие выводы. Чашка кофе, которую я собираюсь выпить, содержит атомы, которые прошли через мочевой пузырь Оливера Кромвеля, и ваш, и папы римского. Это словно объединяет нас всех в одну большую счастливую семью. Вольперт, однако, делает не столь сентиментальный и более интересный вывод: что наука далека от здравого смысла.
Томас Гексли, как известно, сказал: “Наука не что иное, как вышколенный и организованный здравый смысл… и ее методы отличаются от методов здравого смысла лишь настолько, насколько гвардейское фехтование отличается от манеры дикаря размахивать дубиной”. Вольперт, рискну предположить, подписался бы под этим только при условии, что речь идет об определенных аспектах научного метода и что “здравый смысл” подразумевает скорее обоснованную рассудительность, чем бытовую народную мудрость. Бытовая народная мудрость, столкнувшись с пугающим совпадением, легко прибегает к сверхъестественному объяснению. Обоснованная рассудительность знает, что совпадения так или иначе бывают. Ученые – гвардейцы статистики, обученные рассчитывать их (совпадений) вероятность.
Но это научный метод. Подозреваю, Вольперт имел в виду не столько методы, сколько результаты. Наука печально известна отступлениями от здравого смысла на мозголомных вершинах квантовой теории и теории относительности, но даже классическая ньютоновская механика не так легко поддается нашей жалкой интуиции. Кто бы мог представить, что если бросить одну пулю и одновременно выстрелить другой из ружья горизонтально, обе пули упадут на землю одновременно?
Вольперт лукаво заигрывает с предположением, что “если что-либо совпадает со здравым смыслом, это почти наверняка не наука… Наш мозг – а следовательно, и наше поведение – в ходе эволюции приспосабливались взаимодействовать с непосредственным миром вокруг нас”. Могу засвидетельствовать, что сама эволюция, хотя это детская тема для понимания в сравнении, скажем, с сингулярностью черных дыр, вступает в конфликт с упрямо тупым здравым смыслом, созданным для восприятия человеческих масштабов времени – от секунд до столетий, и дуреющим от того, насколько медленно мелют миллионолетние мельницы геологии.
Льюис Вольперт – выдающийся эмбриолог, член Королевского общества, которому удается одновременно быть успешным популяризатором (а будь он неуспешным популяризатором, это совмещение давалось бы ему куда легче). В этом году его имя уже появлялось на литературных страницах – он внятно выступал за науку против получившего чрезмерное внимание прессы ноющего хора дамочек-писательниц[15], хороших журналистов и третьесортных философов, сетовавших на то, что наука лишила человечество “души”. Вольперт разделался со всеми ними авторитетно и ловко. Он не упоминает их в своей книге, и правильно делает, хотя он и резюмирует их взгляды, приведя столь же глупую цитату из более талантливого писателя, Д. Г. Лоуренса: “Знание погубило солнце, превратив его в шар с пятнами”.
Эта книга – собрание мыслей Вольперта о науке, ее значении, о том, как она делается и как она связана с другими областями. Изложив свой главный тезис – что наука конфликтует со здравым смыслом, – Вольперт делает пусть и не совсем неожиданное, однако интересное наблюдение, что технологии достаточно независимы от науки и что их расцвет случался в истории намного чаще, чем расцвет науки. Затем следует обязательная глава о том, что “все началось с древних греков”. Никогда не понимал, почему нас должна интересовать вся эта чепуха про огонь, землю и воду, но никто из пишущих на подобные темы, похоже, не в состоянии этого пропустить, а Вольперту даже удалось рассказать об этом вдохновенно.
У нас, ученых, есть свои амбиции и человеческие слабости, и Льюис Вольперт говорит о них откровенно. Некоторые ревниво переживают за приоритет или по крайней мере жаждут восхищения коллег. Джон Холдейн – сейчас, когда я пишу эти строки, как раз исполняется сто лет со дня его рождения, – выделяется на общем фоне как достойное исключение: его “великой радостью было видеть свои идеи в широком обиходе, даже если на него при этом не ссылались”. Иные ученые мошенничают, подменяя цифры или выдумывая эксперименты, которые никогда не проводились, в угоду любимой гипотезе. В этих случаях важно не само существование подобных ученых, а тот неподдельный ужас, с которым относится к ним научное сообщество.
Если садовник просит нас уплатить ему наличными, мы понимающе подмигиваем и не говорим об этом налоговому инспектору. Если приятель джоудит на железной дороге[16], путешествуя без билета, мы не столь снисходительны, но все же его не разоблачаем. Но ученый, в отношении которого доказано, что он сфабриковал данные, будет безжалостно изгнан из профессии и не получит второго шанса. Надо признать, впрочем, что как раз потому, что мошенничество в науке – столь несмываемый позор, профессора обычно смыкают собственные ряды ради защиты коллеги, обвиняемого в подобном, и заставляют потенциальных разоблачителей устраивать мучительные танцы с бубнами, чтобы обосновать обвинения. Но все ученые хотя бы на словах поддерживают мнение, что уличенному мошеннику в науке не место и что ему, вероятно, следует избрать себе другое поприще (например, юридическое), где его талантам нашлось бы отличное применение.