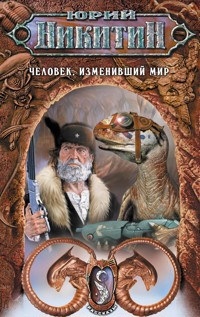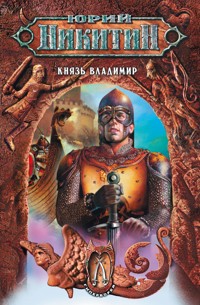
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Никитин
- Sprache: Russisch
Владимир был третьим сыном великого воина - князя Святослава. Братьев называли княжичами, его же - рабом. Но увидев в Царь-граде принцессу Анну, дочь византийского императора, он решил любой ценой добиться ее руки. Но для этого бесправному рабу предстоит как минимум стать равным ей, то есть занять киевский престол и превратиться в князя Владимира...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Юрий Никитин Князь Владимир
Книга 1
Пролог
В крохотную каморку челядной шагнул высокий молодой воин. Лицо смуглое, хищное, голова чисто выбрита, лишь с макушки свисает длинный клок пышных темно-русых волос. В левом ухе серьга с рубином, смуглое лицо худое, настороженное, с выпирающими острыми скулами. Даже здесь, в своем тереме, он двигался как волк в лесу: настороженно, бесшумно, готовый внезапно оскалить зубы. Пальцы крупных мускулистых рук никогда не удалялись от короткого меча на бедре и кинжала на поясе.
Железный шлем на локте левой руки, рубашка из железных колец плотно обтягивает широкие плечи, ноги в облегающих кожаных портках и высоких сапогах для верховой езды.
Вместе с ним в тесное помещение ворвались тревожащие запахи конского пота, степных трав, пожаров и крови. Женщина, что лежала скорчившись на широкой дубовой лавке, повернула измученное худое лицо. С воином пришел запах гари, словно бы стены раздвинулись и огромная враждебная Степь ворвалась в тесную комнатку. И даже слышались крики заклятых врагов – хазар, савинов…
– Уже? – спросил он требовательно.
– Сын, – ответила она едва слышно.
Она пыталась облизнуть бледные губы, язык царапался о сухое нёбо. У правого бока лежал завернутый в лохмотья ребенок с красным сморщенным личиком.
Воин поморщился:
– Чего такой красный? Урод какой-то.
Она прошептала слабо:
– Он будет красивым… все дети на свет такими… Дай ему имя, княжич.
Воин, которого назвала княжичем, поморщился, оглянулся, словно спрашивая самого себя, почему стоит здесь в темном чулане, где нельзя дышать от запахов грязного белья и вони от близкого свинарника. Из-за плеча выглянули и торопливо исчезли, как испуганные мыши, стряпухи. Молодой княжич грозен, свиреп, часто неистов. Под горячую руку попасть – можно потерять и голову.
– Имя?.. Гм… Он был зачат в степи. Так пусть же будет Степаном!
Женщина вскрикнула, протянула к нему дрожащие руки:
– Нет… Степь – это кровь, набеги, пожары, полон… А у него должно быть имя… самое лучшее на свете…
– Тогда Костей! Чтобы стал крепким, как кость. И пусть будет врагам нашим костью в горле. Отец говорил, что Костяным звали его дальнего родственника Зигфрида.
– И это как-то грубо… Он же у меня первенький! Может быть, Назар? Ведь он на заре родился…
– Не по-мужски. Лучше Сила, Силантий, Стоян…
– А Наум? Чтобы был самым умненьким?
Воин сказал с раздражением:
– Водан, Рюрик, Потык – вот имена для воина! А то еще Ульяном назови, чтобы пчел приманивал, или Филей-Филипом, чтобы мыши боялись!.. Ладно, не реви. Ишь, посматривает, волчонок… Он останется рыжим или потемнеет?.. Давай так и назовем: рыжий волк, а? Рудой волк! Рудольф?
– Волк – это страшно, – сказала она несмело и заплакала.
Воин нависал сверху, молодой, но уже огромный и хищный, в запавших глазах блистали искры. Лицо с резко очерченными чертами выражало сдержанное недовольство. Он уже жалел, что пришел в каморку для низшей челяди. Мало ли что когда-то во хмелю подгреб под себя эту девку, надо признаться, красивую, но когда вернулся из похода в Киев, стало не до нее. Он вообще женщин мало замечал: сильные мужчины раздвигают мечом пределы, пробивают новые торговые пути в дальние страны, накладывают дань на богатых соседей, бдят, защищают, добывают, а сладострастие – это утеха рабов. Другие радости им просто недоступны.
– Ладно, – сказал он, отступая к двери, – выбери сама любое имя.
– Благодарю…
Она от слабости на миг опустила веки, а когда открыла глаза, в каморке снова темно и пусто. Под окном раздался лихой свист, прогремел дробный стук копыт. Судя по направлению, где он затих, юный княжич умчался к воеводе Сфенелу, который был воеводой у князя Олега, оставался им при Игоре, а теперь все еще воевода и правая рука у великой княгини Ольги…
– Игорек, – прошептала она, – ты ведь такой игривый… Или Беримир, Селимир, Будимир… чтобы трудом своим заселил мир…
В каморке душно и жарко. В единственное окошко пробивается сквозь стенку бычьего пузыря слабый свет. Потом подошла, судя по силуэту, расседланная лошадь. Задумчиво почесалась о стену, подняла хвост. Малуша услышала дробный стук конских каштанов. Сильный запах конского помета тяжелой волной хлынул в тесное помещение.
Малуша ощутила дурноту. В раскрытой двери мелькали неопрятные челядинцы. Протащили тяжелую лохань, разбрызгивая дурно пахнущие помои.
– Нет, – прошептали ее обескровленные губы, – пусть будет сильным и стойким… Пусть станет хитрым и живучим… Хоть родился рабом, но пусть не останется им. Как суждено мне… И в залог этого пусть имя его будет – Владимир!
Часть первая
Глава 1
Огромный конь мотал головой, страшно храпел, часто переступал ногами. Это уже не смирная коняга, на которую сажали сильные руки взрослых. Этого зверя с гривой сам взнуздал в конюшне, сам вывел во двор. Только бы приучить молодого жеребца к себе, своему запаху!
На крыльце сидел Сувор, старый дружинник. Острые глаза из-под кустистых бровей внимательно смотрели за босоногим мальчиком, похожим на маленького взъерошенного вороненка на спине огромного коня. Сувор был еще в силе, только хромал из-за наконечника стрелы, засевшего под коленом. Да и жилы левой руки срослись плохо, в локте разгибалась не до конца. Но ему доверял воевода Сфенел, уважала княгиня и любил молодой княжич Святослав, уже стяжавший ратную славу неистового воителя.
– За гриву не хватайся, – предостерег он. – Позор для мужа!
Мальчик осторожно направил коня вдоль забора, понуждая идти во дворе по кругу. Жеребец шел легко, косился налитым кровью глазом на крохотного всадника. И не слышно на спине, но чует его слабенькую, но требовательную руку.
Сувор щурился под утренним солнцем. Толстые дубовые ступеньки прогрелись под прямыми лучами, от земли поднимается пряная сырость. Забегали муравьи, копают, строят, тащат. Из заднего двора доносится довольный гогот откормленных гусей. Прекрасный мир сотворил Род, отец всего живущего! И вовремя привел свирепых русов на земли мирных славян. Русы, защитив славян от хазар и других насильников, взяли в жены их дочерей, дети от такого брака зовутся русичами, и вот без крови и борьбы Сфенел безропотно служит русичу Святославу и его матери, славянке из племени древлян, княгине Ольге!
Жеребец с грохотом пронесся мимо. Копыта выбивали комья сухой утоптанной земли, те взлетали выше головы. Волосы мальчонки трепало ветром, похожие на черный огонь с редкими рыжими искорками. Владимир, закусив губы, напряженно смотрел перед собой.
– Довольно, – сказал наконец Сувор предостерегающе. – И так растешь не по дням, а по часам! Неделю тому тебя и на смирную кобылу сажали под мышки, а теперь какого зверя взнуздал!
Владимир не ответил, боялся своего дрожащего голоса. Он гонял коня по двору, приучая к себе, своему запаху, превозмогал слабость, заставляя жеребца ощутить усталость раньше, чем свалится с коня он сам.
Сувор задремал под теплым солнышком, очнулся от надсадного гоготания гусей. Те гоняли забежавшего пса. Сувор потряс головой и удивленно уставился на кружившего по двору маленького всадника:
– Еще на коне? Тебя сам Велес за ноги держит, что ли? Что за малец…
– Добрый конь! – крикнул Владимир из последних сил. Голос его осип, превратился в жалобный писк.
– Еще бы, – ухмыльнулся Сувор. – У хазар захватили! А они толк в конях знают.
– Но у меня будет лучше, – ответил Владимир. Голос пресекся, ибо жеребец внезапно пошел боком. – У меня будет свой конь.
Сувор покачал головой, но глаза его смотрели строго и настороженно. Мальчишка родился и был рабом. А рабу не суждено стать князем или знатным мужем. Правда, при усердии да старании может выкупиться из рабства, стать отроком, затем дружинником, а повезет – то и старшим дружинником. Тогда у него будут свои кони, свой терем, а то и село какое под старость получит в кормление…
Наверху в горнице послышались визгливые женские голоса. На перила навалилась заспанная и помятая Прайдана. Ее лягушачьи глаза навыкате, закисшие как у дворовой собаки, смотрели зло и подозрительно. Смятое, как сырое тесто, лицо, где отпечатались рубцы подушки, кривилось в брезгливой гримасе.
– Опять этот байстрюк лошадь гоняет, – сказала она со злостью. – Спать благородным княжичам не дает!
Жеребец оглушительно заржал, понес по двору, уже не слушая повода. Сувор вскочил, прыгнул прямо с крыльца, но его растопыренные пальцы только скользнули по шелковой гриве. Упал, перекатился через голову, тут же подхватился, напружиненный как для смертельной схватки, озверевший, мальчишка на волосок от смерти, однако жеребец внезапно изменил направление, понесся прямо на забор.
– Узду отпусти! – закричал Сувор оглушительно.
Жеребец распластался в прыжке. На страшный миг Сувору почудилось, что конь разобьется о бревна, затем решил, что заденет копытами за верхнее бревно, перевернется в воздухе и всей тушей рухнет на детское тельце – ни один конь не одолеет такую высоту, – но жеребец как взлетающая птица оторвался от земли, поднялся в воздух, всплыл как облачко над забором и передвинулся на ту сторону…
На самом деле озверелый жеребец перелетел над торчащими кольями бревен как стрела, яростно понесся вдоль узкой улицы. Комья земли взлетали над забором как огромные черные галки.
Прайдана злорадно смотрела вслед. Ей с высоты была видна крохотная удаляющаяся фигурка на бешено скачущем коне. Рядом с ее локтями над перилами появились две детские головки. Золотоволосые, с голубыми глазами, оба мальчика были с чистыми нежными личиками, оба в рубашонках до пола, пахнущие целебными травами.
– Что там? – спросил чистым детским голосом старший мальчик.
– Все тот же байстрюк, – буркнула Прайдана. – Авось на этот раз сломит себе шею.
Она сладко, с завыванием зевнула, потянулась. Пышные телеса заколыхались. У нее было сочное сдобное тело. Гридни любили ее тискать и щупать, как курицу в поисках яйца, и она гордилась своей дородностью. С такими телесами могла бы родиться купчихой, а то и боярыней!
– Он опять на коне? – спросил мальчик.
– Да, Ярополк. Ему можно, он – сын рабыни. Зато вы с Олегом – княжичи… Вам надлежит овладевать княжьими знаниями, вы – будущие печальники земли Русской. А этот… ему можно водиться с конюхами, простым людом, грязной челядью. Он спит в золе на печи, потому его зовут запечником, золушником, попелюшником!
– Запечник, – повторил Ярополк задумчиво. – Это плохо?
– Хуже некуда. Это даже не человек. А ты, напротив, выше человека. Ты – княжич!
День клонился к обеду, когда к воротам княжьего терема подошел, тяжело ступая, вороной конь. На спине сидел измученный мальчонка. Лицо и волосы были серыми от грязи, мутные капли все еще прокладывали дорожки через слой пыли.
Гридень-воротник мотнул было головой в сторону ворот, мол, сам открывай, потом закроешь за собой, но увидел отчаянные глаза ребенка, нехотя поднялся:
– Да ты едва жив… За что себя так истязаешь?
Конь потащился во двор. Гридень запер ворота, покрутил головой. Чересчур неистов мальчонка, не выживет душа взрослого мужа в таком крохотном тельце. Не жилец на этом свете. Не жилец.
У коновязи Владимир соскользнул по влажному боку, едва-едва одолевая слабость и головокружение. Неверные пальцы не сразу поймали уздечку. Он повел коня по двору вдоль забора. Нужно охладить, иначе запалится. Для скачки будет негоден, разве что отдать холопам для работ в поле или забить на мясо для псов…
Он сделал первый круг, успокаивая и охаживая коня, когда сверху раздался визгливый крик:
– Ах ты, змея шелудивая!.. Явилси!.. А на кухне котлы не чищены… А у котлов дров не напасено! А свиньи не кормлены!
Прогремел дробный перестук каблуков, ключница носила сапоги по новгородской моде. Владимир успел увидеть перед собой лишь необъятные телеса разгневанной бабищи. Тут же сильная рука швырнула его оземь, спину ожгла резкая боль. Он услышал свист рассекаемого воздуха, поспешно зажмурился, оберегая глаза, закрыл лицо ладонями.
Он слышал, как треснула под плетью ветхая рубашонка. Жгучая боль полосовала тело. Он попробовал подняться, но сильный удар по голове бросил на землю. Сверху гремел крик разъяренной огромной женщины, в голове мутилось, он чувствовал тошноту.
Убьет, мелькнула тоскливая мысль. В полубессознательном состоянии он встал на четвереньки, вскрикнул от страшной боли в боку: острый носок сапога ударил по ребрам. Его отшвырнуло, он перекатился трижды, всякий раз хватая в пригоршни пыль и грязь, во рту стало солоно, он выплюнул кровь.
Гаснущим сознанием слышал и звонкий детский смех – счастливый и беззаботный. Через перила свесились и с удовольствием наблюдали две белокурые головки. Один княжич крикнул со смехом:
– Прайда, попелюшник уползает!
– Как ящерица, – добавил другой.
– С перебитой спиной!
Он в самом деле пытался ползти, но свистящие удары плетью сбивали с ног. Лохмотья рубашки опустились на землю. Он наступал на них локтями и коленями, падал лицом в залитую его кровью грязь, вызывая неудержимый смех там наверху:
– Прайда, у запечника штанишки целы!
– Прайда, а ты сможешь…
Внезапно удары прекратились. Владимир лежал вниз лицом, распластавшись как раздавленная колесом лягушка. Изо рта текла тонкая струйка алой крови. Исхлестанное тело жгло, на спину со злым гудением падали большие мухи, оводы, слепни. Он чувствовал, как жадно лижут сукровицу, вонзают жало прямо в свежее мясо на спине…
Визгливый голос Прайданы иногда прерывался густым мужским баском. Постепенно Владимир услышал своего заступника:
– Негоже тебе, негоже… Малец еще! Да и кто тебе так котлы почистит, посуду уберет?
– Не лезь!.. Хоть ты и боярин, но здесь распоряжаюсь я, княжья ключница! Мне все хозяйское добро доверено!
– Дура ты, – отозвался мужской голос беззлобно. – Ты ж почти убила ребенка в злобе своей ненасытной!.. А другие челядины ленивы.
Владимир ощутил, как острый носок сапога снова пнул его в бок, но уже не с такой силой. Ключница прорычала, как зверь:
– Не издохнет. У него, как у кошки, девять жизней.
Однако в ее голосе не было уверенности. Холодная тень сошла с его окровавленной спины, шаги удалились. Краем глаза он увидел человека, который вступился. Боярин Блуд! Раньше лишь скользил по нему мутным взором, не замечал, как и другую челядь. «Спасибо тебе, боярин… Останусь жить, все для тебя сделаю!»
Он с трудом подобрал под себя руки, попробовал подняться, но суставы в локтях подломились, рухнул лицом в теплую грязь из горячей пыли и своей крови. Сверху на два голоса залились счастливые детские голоса. Вниз полетели огрызки яблок, недоеденные груши.
В другое время он бы ухватил такой огрызок, жадно вонзил бы зубы: голод терзает непрестанно, но сейчас сил хватило лишь на то, чтобы кое-как сесть. Голова кружилась, перед глазами плыло от сильного удара кулаком по темени.
– Эй, – крикнул чистым, как весенний ручеек, голосом старший из благородных сыновей князя, Ярополк, – а ползком до свинарни, где твое место, сможешь?
– А он только так и может, – ответил второй, Олег. Его милое, как у девочки, личико брезгливо кривилось. – Он сам свин, только еще не подрос… Но воняет уже как от взрослого свина!
Оба захохотали. Владимир пытался встать, ноги дрожали. С улицы во двор, сильно хромая, вошел Сувор, покачал головой. Владимир смотрел, как огромный воин приблизился, легко взял на руки, понес. Земля и небо колыхались, от воина шло надежное тепло. Владимир наконец позволил себе сомлеть.
В себя пришел от боли и тишины. Женщины ушли на ночные посиделки, в соседней челядной при свете лучин прядут и поют то веселые, то тоскливые песни. Холопы тоже ушли, челядная вдруг стала большой и страшной. Забившись на печи в дальний угол, он достал из-за пазухи заветный узелок из ветхой грязной тряпицы. Он всю жизнь прятал его, сколько помнит, то за сараем, то за досками в конюшне, но сейчас день был особенно горек, и эта тряпица грела пальцы.
Узелок поддался нехотя, на ладонь выкатился тяжелый перстень. На ободранной ладошке он казался особенно огромным, пугающим. В тяжелом кольце недобро поблескивал кроваво-красный камень. Вокруг него, как муравьи, темнели волшебные значки. Его мать, которую он почти не помнит, тайком передала ему и еще сказала, что перстень когда-то принесет счастье.
– Волшебный, – прошептал он разбитыми губами, – чародейский… Скорее бы твои чары проснулись!.. Неужто обязательно надо стать взрослым?
Борясь со сном, он завязал волшебный перстень в узелок, сунул за пазуху. Сны пришли счастливые. Его перестали дразнить запечником, попелюшником, золушником, зато увидели, какой он сильный, умный и красивый…
А он всех обижальщиков сажает на пали, чтобы умирали долго, а оттуда в муках видели, как он победно скачет на красивом коне!
Глава 2
На другой день, когда он, закончив таскать воду на задний двор свиньям, носил воду лошадям, во двор тяжелым галопом ворвался огромный воин на тяжелом коне. Воин был в коническом шлеме, широкие булатные пластины блестели поверх кольчужной рубашки из толстых колец, слева висел щит размером с дверь, справа торчал самый громадный меч, какой Владимир когда-либо видел.
Лицо воина было грозное, в шрамах. Синие глаза слегка навыкате смотрели холодно, предостерегающе. С ним словно ворвалась в спокойный мир грозовая туча с громами и молниями.
Он спрыгнул с неожиданной легкостью. Владимир едва успел поймать поводья: голос всадника был густой, мощный.
– Поводи по двору. Запалишь – уши оборву.
Он весь был похож на медведя, вставшего на дыбы, – огромного, нечеловечески сильного, которого рассердить легко.
Владимир проводил его уважительным взглядом. Тот взбежал на высокое крыльцо, прыгая через две ступеньки, как легкий отрок. Спина у него была могучая, кольчуга едва вмещала тяжелые, как валуны, плечи.
– Сам знаю, – пробурчал Владимир, когда его никто не мог услышать. – Ишь, ухи оборвет! Твои бы лешачьи ухи оборвать. Я лучше тебя знаю, как ходить за конем.
Он бежал рядом с жеребцом, удерживая повод и направляя по кругу, оглаживал по мокрой дрожащей коже. Полузагнанное животное постепенно замедляло бег, а когда перешел на шаг, еще сделал пару кругов и только тогда повел в конюшню.
Сувор по обыкновению сидел на крылечке. За Владимиром наблюдал из-под приспущенных век. Этот сын рабыни был самым быстрым среди сверстников, самым работоспособным, усердным. С зари и до зари таскает воду, кормит коней и свиней, чистит за ними, разжигает очаги на поварне, рубит дрова, до блеска отскребывает закопченные котлы, моет посуду, перетаскивает столы и лавки… Никогда не сидит без дела, и будь на то воля его, Сувора, то уже сейчас бы поменял с любым из высокородных княжичей. Хоть Ярополком, хоть Олегом, что и сейчас важно наблюдают сверху через перила за происходящим во дворе. Разряженные, ухоженные, розовые, не умеющие без помощи кормилиц даже одеться!
Но не суждено юному Владимиру не то что подняться до уровня княжичей, но даже приблизиться. Быть ему челядником, затеряться в отроках, быть холопом при дворе или гриднем!
– Иди сюда, сынок, – сказал он негромко, когда Владимир показался в воротах конюшни. – Вижу, накормил и напоил боевого коня… Начинаешь завоевывать не только коней, но и людей. Пусть кому-то не по нраву, но помню и тебе говорю: ты не только сын рабыни, но и сын грозного воителя Святослава! В твоих жилах течет кровь не только русича, но и настоящего руса, завоевателя земель. Тебе учиться не только скакать на коне, но и держать топор. А доверят, то и меч! Ты не должен остаться в челяди. Пробивайся в дружинники.
У Владимира остановилось дыхание.
– Но кто научит?
– Я. Ты упорен, а я когда-то был знатным бойцом. Служил у ромеев, знаю, как выстоять супротив дюжины, как нападать и защищаться.
Сердце Владимира едва не выскочило.
– Я… я буду послушным учеником!
– Верю. Потому и говорю тебе, а не другим. У нас считают, что если прицепил к поясу меч, а в другой руке у тебя щит, то уже и воин! Я таких дюжину сомну. Дурачье тупое и ленивое. Оружием владеть надобно. И дурак тот, кто скажет, что уже освоил бранное умение. Предела учебе нет. Выстругай сперва деревянный меч, вместо щита найди крышку от кадки. К железу перейдем много погодя…
Меч у Владимира уже был, из толстой березы, тяжелый, с острым краем. Бегом принес старому дружиннику, тот оглядел придирчиво, суровое лицо потеплело. Мальчишка уже не щадит себя! Мог бы выбрать прутик полегче. А с этим рука скоро устанет… Что ж, трудно в учении, легче в битве.
Он только успел показать Владимиру стойку воина, как хлопнула дверь. На крыльце появился тот самый гигант. Он окинул мальчишку внимательным взором, в котором тому почудилось пренебрежение, затем Сувора:
– Учишь? Хорошо. Как он?
– Старается, – ответил Сувор коротко.
Богатырь внимательно изучал мальчишку:
– Владимир? Что ж, я слышал, на заброшенном поле вырастают самые прочные стебли.
Владимир прошептал с мольбой:
– Я могу работать от зари до зари!
Богатырь сказал неспешным раскатистым голосом:
– Будем учить вместе. Это, как я понимаю, мой племянник.
Сувор кивнул:
– Ты Добрыня? Богатырь с застав пограничных?
– Просто с дальних, – бросил исполин.
– Вся Киевская Русь наслышана о тебе!
– Киевская? Другой Руси уже нет… пала под чужими мечами. Просто Русь… Так этот малец старается?
– Добрыня, из него вырастет хороший воин.
– Да, он крепок в кости. – Цепкие глаза Добрыни пробежали по тонкой фигурке мальчика. – А мясо нарастет.
– Что кости, – возразил Сувор. – Ты бы видел, как он занимается! Когда что с конем: заболеет или захромает, то кличут его! Где что лежит, спрашивают, у него память как у заморского слона, кому весть передать – мигом слетает и нигде не задержится. Его хотели услать в село к матери, сама княгиня возжелала, но вдруг узрели, что малец уже незаменим!..
В глазах мальчишки внезапно защипало. Губы дрожали, будто их трясли. Его никогда не хвалили, а сейчас сразу двое! Да еще кто! Сувор, который бывал и под Царьградом, служил в Риме, воевал в Болгарии, ходил в Испанию, и легендарный Добрыня, чьи воинские подвиги на дальних пределах Руси заставляют дрожмя дрожать врагов! И о котором такое рассказывают кощунники, что душа замирает от сладкого трепета…
А он, всеми прогоняемый запечник и золушник, оказывается, племяш этого героя-исполина! Который силен и с мечом, и в застолье, и в красной лжи, кого князья посылают в чужие страны!
Он стоял растерянный, жалко шмыгал носом. Глаза наполнились слезами. Он чувствовал, как на плечо опустилась огромная ладонь. От нее шло непривычное родительское тепло. Густой голос, привыкший повелевать дружинниками, проревел с высоты:
– Крепись. Теперь я буду чаще бывать в стольном граде Киеве… И тоже пригляну за тобой, малец. При случае, конечно. От меня еще наплачешься!
На заднем дворе в каморке доживал век странный старик по имени Горюн. Он был в молодости воином, так говорили, спас при таинственных обстоятельствах жизнь самому князю Олегу, потом долго был волхвом, но ушел и оттуда, занялся складыванием кощун. Его слушали охотно, он знал великое множество историй, как героических, волшебных, бытовых, так и про зверей, рыб и птиц.
Когда Владимир прибежал на другой день, Горюн оглядел его сочувствующе:
– Опять били? Что за радость бить ребенка? Даже для бабы это бесчестно… Очень больно?
– До свадьбы заживет, – ответил Владимир, как отвечали взрослые в таких случаях.
– Гм… Трудно тебе тут прижиться. Пожалуй, тебе надо сразу готовить себя в волхвы.
У Владимира загорелись глаза. Даже боль в избитом теле забыла про свои острые зубы, прислушалась.
– Я бы хотел… Но меня возьмут?
– Ты смышленый. У тебя цепкая память, я все примечаю. Ты трудолюбив, как муравей, для волхва это необходимо. И ты любишь учиться, от чего отворачиваются другие.
– Люблю! – сказал Владимир горячо. Он сел рядом, взял старика за руку, подлащиваясь, попросил: – Расскажи еще про Авариса, который ничего не ел, пока стрелу не обнес по всему белому свету!.. Или про Таргитая, нашего первого царя!..
Старый волхв усмехнулся, положил на голову мальчика худую ладонь, настолько высохшую, что казалась бы прозрачной, если бы ее не обтягивала потемневшая за годы дряблая кожа.
– Дите… Не был Таргитай первым царем, как не был и Аварис самым первым из наших героев… Память волхвов хранит дела времен столь дальних, столь далеких… И о временах диких и страшных… Вот была в старину такая прожорливая баба, что однажды в припадке голода съела и своих детей. Но не устыдилась, а только вошла во вкус, начала пожирать у соседей свиней, коз, а потом уже и коров. Наконец накинулась и на людей. У мужиков рука на нее не поднималась: все-таки баба! Да еще красивая, а красивым все можно, им все прощается, ибо красота дана от богов, они так отмечают себе равных… Так она поела всех в родном селе, затем пошла по другим, оставляя после себя пустые дома и сараи, конюшни и свинарни. Тут уж сам Перун не выдержал: закрыл глаза и метнул в нее молнию. Убил, а труп бросил в море. Так она и там, тварь ненасытная, от голода пробудилась, стала пожирать каждый утонувший корабль!.. А потом вовсе озверела, стала нападать и на целые корабли…
– А почему ее зовут Харибдой? – спросил Владимир, едва дыша от страха.
– Ее настоящее имя забыли, потому что она такую харю разъела, что не во всякую дверь пролезала, тогда ее и стали звать Харибдой. А убил ее не то Прометей, не то кто-то другой, уже не помню… Прометей – это такой велет, что не страшился даже богов. Он был огромен и силен, а главное – мог предвидеть, что будет в грядущем. Потому его и звали Прометеем, ибо он мог прометикувать[1]. Зевс, верховный бог богов, был в страхе, ибо ему однажды предрекли, что у одной богини родится сын, который будет намного сильнее отца. Но только Прометей знал эту богиню. Зевс же обычно не пропускал ни одной мало-мальски красивой богини, велетши или простолюдинки. Потому и страшился, что свергнут его…
– И Прометей сказал?
– Да, пожалел Зевса. И богиню Фетиду отдали за Палия, был такой князь чуть южнее наших земель. От того брака родился великий герой Скилл. Он еще водил тавро-скифских витязей на помощь ахейцам в их войне с троянцами… Правда, с годами имя меняется, а то и вовсе забывается. Наш неуязвимый Скилл у ахейцев, а затем эллинов стал Ахиллом, у ясов – он Сослан, Сосруко, Сасрыква, а то и вовсе Батарадз, у иранцев – Исфандияр, у германцев – Зигфрид… Скилл был неуязвим для других, потому что наши предки раньше других начали делать доспехи из железа, а их враги еще бились в медных латах, даже наконечники копий были медные… Конечно, таким оружием не пробить железные доспехи. Даже не железные, а харалужные, булатные! Разве что попасть стрелой точно в щелочку между пластинами… Ахейцы придумали оставить эту щель на пятке, ясы – на коленях, Зигфриду на спину прилип кленовый листок, потому то место было уязвимо… А его отец, Палий, жил в такой глубокой давнине, что от него остались только Палилии – праздник в самой середине весны, когда пастухи прыгают через костры… Да еще развалины палат Палатия…
В это время со двора раздались чистые, звенящие звуки струн. Владимир выглянул в подслеповатое окошко. В углу заднего двора собралась челядь, пришли гридни и конюхи, явились стражи от ворот. В середке на колоде сидел крепкий мужик с длинной бородой, в волосах и бороде проседь, на коленях разместил гусли. Кощунник мерно ударял пальцами по струнам, откашливался, крутил шеей, оглядывал собравшихся орлиным взором.
Владимир вскрикнул с загоревшимися глазами:
– Послушаем?
– Разве что с крылечка, – отозвался Горюн ревниво.
В неподвижном вечернем воздухе каждое слово певца-кощунника звучало отчетливо и значительно. Он медленно и торжественно пел про давние времена, когда солнце светило ярче, мужи были отважнее, женщины – красивее, а боги ходили среди смертных и от них рождались дети. И был род людской вровень великанам, горы тряслись от их шага, реки выходили из берегов!
Владимир зачарованно слушал про исполинские битвы, когда богатырь с братьями выходил против чуда-юда огромного Змея, который бежит – земля гудит, а хоботами машет, то огонь летит и брызжет… Богатырь встречал чудо-юдо под калиновым мостом, но когда ехал Змей, то калиновый мост проваливался…
Горюн скептически хмыкал, раздражал Владимира. Тот отодвигался, наконец совсем собрался было убежать, когда Горюн сказал внезапно:
– Мне казалось, ты смышленее.
Владимир насторожился:
– Я смышленый.
– Да? Тогда скажи, какой такой мост можно плести из калины, ежели она куст, а деревом быть не может? По такому мосту разве что таракан проползет!.. Но взрослый мужик дурь поет, а другие дурь слушают!
– Но красиво же, – сказал Владимир, защищаясь.
Глаза старца стали вдруг внимательными и понимающими.
– То-то и оно, что красивую дурь слушают охотнее, чем умные речи. Песни идут прямо к сердцу, а оно главнее головы. А песни не могут быть умными, иначе их воспримет голова, а не сердце.
– Как это сердце главнее? – удивился Владимир. – Я слыхивал, что хлеб – всему голова, что голова – над всеми царь!.. Потому она и голова, глава! Неужто кощунник наврал? А жаль, все так красиво…
– Красиво, да не так. Чуды-юды на самом деле жили на свете. Когда такое бежит, то земля дрожит! Все верно. И было оно такое огромное и сильное, что никакие богатыри лицом к лицу не могли одолеть. И даже сто богатырей, соберись вместе. Но все же этих чуд-юд перебили.
– Как?
– А так. Выкопают яму поглубже прямо на тропе, где чуды-юды ходят на водопой, вобьют в дно острый кол, а сверху закроют щитом из калиновых веток, а то еще и землицей сверху припорошат, чтобы совсем незаметно было. Бывает, чудо-юдо не хочет в яму идти, тогда в него горящие головни бросают. Шерсть загорится, вот и бежит, огнем пышет! И хоботами машет, у него их два: один спереди, другой – сзади. А провалится, там в яме и добивают, вылезти уже не может!.. Их много бродило по нашим землям… Вот и выходит, что на самом деле было еще страшнее. Ведь перебили и поели! Так что самые лютые на свете чуды-юды – это мы.
Владимир долго молчал потрясенно. От старого волхва узнавал всегда больше, чем от остальных взрослых, вместе взятых. Те только и знали, что пили, дрались, спали, бранились и мирились, а о таком чудесном даже и не слыхивали. А тут: и сердце, что главнее головы, и волхвы, что умнее князей… И кем быть ему, золушнику?
Глава 3
Ему было девять лет, когда в Киев пришел огромный обоз. В город часто прибывали вереницы телег и поболе числом, но этот был из таких диковинных повозок, что всякий останавливался на улице, вытаращив глаза и с отвисшею по шестую пуговку челюстью. А детвора и те, кто не щеголял родом и знатностью, вовсе не блюли себя в вежестве, бежали вслед, указывали пальцами, свистели, улюлюкали.
Он тогда впервые услышал часто повторяемое слово «латиняне». В передней открытой повозке ехал высокий мужчина в черном одеянии. Он был широк в плечах, худ, костист, с глубоко запавшими глазами. Когда его взгляд упал на замершего в изумлении Владимира, тот вздрогнул и отшатнулся. В глазах чужеземца была сила, жестокость, дикая уверенность в своей несокрушимой правоте.
Повозки одна за другой втянулись через западные ворота. Справа и слева каждой повозки ехали серые от пыли всадники. Тяжелые задастые кони всхрапывали, роняли густые клочья желтой пены. На понукания вскидывали гривами, делали вид, что несутся вскачь.
Народ дивился и огромным коням с такими толстыми ногами, и всадникам, закованным в жару с головы до ног в тяжелые доспехи, пышным перьям на богато украшенных кузнецами шлемах, и роскошным повозкам, диковинно сделанным.
На другой день видели, как из отведенного заморским гостям дома вышла целая процессия во главе с высоким мужчиной в черном. По тому, как держался и какие знаки внимания оказывали его спутники, все поняли, что это и есть главный, хотя одет проще других.
Они отправились в княжий терем, где их приняла великая княгиня Ольга. Владимир, как и прочая челядь, в терем не был допущен даже со скотного двора. При княгине были только внуки Ярополк и Олег, а также самые знатные да именитые из воевод и бояр. Разговоры велись за плотно закрытыми дверьми. Даже стража была удалена от дверей, дабы не было соблазна слушать чужие речи.
Слухи поползли самые разные. Одни говорили, что латиняне просят помощи против западных славянских племен бодричей и лютичей, другие – что латиняне уговаривают дать военную помощь против Оттона, который уже забирает себе всю Италию, третьи утверждали, что закордонные гости предлагают овдовевшей княгине пойти за римского папу…
Когда выяснилось, что Адальберт, высокий человек в черном, приехал по делам веры, кияне сразу потеряли к ним интерес. Христиан уже немало в Киеве, но и те не всегда понимают, в чем растущее различие между принявшими обряд крещения из Царьграда и принявшими обряд крещения из Рима. Другое дело, если бы и впрямь папа латинян засватал Ольгу. Это понятно всем, есть о чем почесать языки, прикинуть, как пойдет у них дальше и какие будут дети.
Владимир не понимал, как можно проповедовать такого бога, как Христос. Волхвы на каждом шагу объясняли, что боги русичей – это сама сила, отвага, мужество. Это вера героев, детей героев! А учение Христа, как и Бахмета, как и Яхве, велит покоряться силе, покорно сносить издевательства и плевки…
Он вспомнил подслушанные разговоры, брезгливо отплюнулся. Разве Перун или Ярило позволили бы распять себя на кресте? Да они бы… они бы всех врагов изничтожили, стерли с лица земли. Да Перун сам бы своих обидчиков распял, живьем прибил за уши к городской стене, а кишки выпустил бы и отдал таскать собакам!
Латиняне вскоре разошлись по стольному городу. Их видели в боярских теремах, среди гридней, в торговых рядах. Бродили по Подолу, завязывали разговоры с мастеровыми. Всюду затевали споры о вере, гневно называли киян грязными язычниками, славили Христа, пытались оскорблять солнечных богов русов и русичей.
Княгине пожаловались на бесчинства латинян, но она отмахнулась. Затем жаловались волхвы, что было серьезнее, но она и здесь отмолчалась, отшутилась. Наконец высказали недовольство бояре. Однако великая княгиня их тоже урезонила, мол, гости только языками треплют, а вреда никому не чинят. На Руси куда больше разбоя, татьбы, головничества, вот на что смотреть надобно.
И тогда, как пошел грозный ропот в народе, и знатные, и незнатные узрели, что княгиня уже сама христианка и потому держит сторону христиан!
– Мир меняется, – сказал Добрыня осторожно. – Уже многие короли Европы приняли веру Христа. А кто не принял, подумывает. Не выказала ли твоя матушка мудрость?
Святослав резко повернулся, даже пригнулся малость, будто изготовился к прыжку. Руки напряглись, лицо дернуло яростью.
– Моя мать? Она – женщина!
– Она княгиня…
– Она женщина, – возразил Святослав обвиняюще. – Всего лишь! Не понял? Женщина – это рабыня… или госпожа. Или – или. Женщина по натуре своей не может быть вровень, она может только подчиняться или… править. Была рабою мужа, моего отца, а когда он погиб, стала искать, чьею бы рабою стать, ибо женщина всегда ищет защиты, убежища, надежное плечо мужчины! Но после моего отца она могла стать женой только героя, равного Игорю по мощи и величию духа…
– Такого на земле нет, – сказал Добрыня убежденно.
Святослав зло оскалил зубы:
– На свою беду, сама убедилась! Вот и стала рабою… самого бога.
Добрыня в задумчивости поскреб бритую голову:
– Почему же не своего, а чужого?
– Потому, – рассвирепел Святослав, – что у нас рабов нет! Мы не рабы Сварога, а его дети! И Даждьбоговы внуки. Рабами же не будем никогда. Никогда!!!
Добрыня наклонил голову, пряча глаза. Молод княжич, горяч. Убежден, что всяк стремится к свободе. Не поверит, что иной раз свободные сами суют шею в ярмо. Ведь быть скотом, рабом – легче. Даже корм не надо искать, хозяин накормит. И все за тебя решит.
Владимир таскал мешки, сгибаясь и задыхаясь от тяжести. Он был в пыли, горячий пот стекал по лицу, на зубах скрипел песок. Он чувствовал личину грязи на лице. Но утереться некогда, надо цепко держать мешок за края.
Олег и Ярополк сидели на высоком крыльце, ели сладкое. Владимир слышал, как посмеивались, наперебой давали ему обидные клички, смеялись, придумывали одна другой злее. За их спинами как живая гора возвышалась Прайдана. За княжичами следила как наседка, молодые девки по движению ее бровей убирали недоеденное, ставили на маленький столик чашки с медом, ягодами, охлажденными сливками, свежей сметаной. Подошел Варяжко, сын знатного боярина, крепкий и широкий в плечах, друг княжичей по играм, и Владимир услышал дружный смех уже троих.
В глазах защипало сильнее. Раньше глаза выедал едкий пот, теперь ощутил и слезы. К счастью, пот и так бежит горячими струйками, никто не увидит его слез. Он сцепил зубы, его шатало, спина трещала под тяжестью мешка, а ноги подгибались. Он передвигался мелкими шажками, мешок пригибал к земле.
Кровь шумела в висках, а в ушах стоял грохот. Кроме хохота, услышал и мужские голоса. Когда сбросил мешок и с трудом распрямлял спину, заметил, как гридни выбрались на солнышко, стоят, лениво щелкая семечки.
Что-то ударило его в плечо. Он не понял от усталости, следом услышал веселый вопль:
– Раз он грязный, то пусть и наестся грязи!
Другой ком ударил в ухо. Владимир сжал кулаки, повернулся к обидчикам. Варяжко уже сошел с крыльца и бросал в него комья. Княжичи хохотали наверху, Прайдана улыбалась, уперев руки в бока.
– Ого, – вскричал Варяжко весело, – как он стискивает кулаки и сверкает глазами!
– И как свиреп! – добавил Ярополк со смехом.
– И как лют! – крикнул Олег.
А Варяжко в притворном ужасе выронил ком и вскинул руки:
– И как я боюсь!.. Он же меня разорвет в клочья!
Он подошел к Владимиру, вытянул голову. Сытое довольное лицо расплывалось в улыбке. Владимир не знал, как это получилось, он не хотел трогать боярского сына, но сжатый кулак будто сам метнулся вперед. Пальцы ожгло болью. Голова Варяжко откинулась назад, в глазах появилось безмерное удивление.
Он отступил, споткнулся, опрокинулся на спину. Во дворе сдержанно засмеялись. Варяжко вскочил рассвирепевший, заорал:
– Да я разорву его голыми руками!
Он бросился вперед, размахивая кулаками. «Он старше и сильнее, – мелькнула мысль, – этот боярский сын сломает меня, как стебель… Он сильнее и тяжелее. Надо, как учил Сувор, двигаться быстрее. Как можно быстрее!»
Его кулаки дважды ударили Варяжко в лицо, а кулаки Варяжко прорезали воздух. Тут же еще два удара сбоку, один разбил губу, и Варяжко ощутил привкус соли во рту. Он заорал и снова попытался ухватить Владимира. Тот увернулся, хотя чувствовал, как после мешков двигается медленнее, ударил снова, кулак Варяжко задел скулу, но только оцарапал. Он судорожно подставил ногу боярскому сыну. Варяжко рухнул как сноп, но еще в воздухе нога Владимира достала его в ребра. Он перевернулся, а когда поднимался с четверенек, Владимир вложил всю силу в удар ногой. Сам едва не закричал от боли, но зато Варяжко всхрюкнул и содрогнулся от ушей до пяток, как дерево от удара тяжелого валуна. Его лицо было разбито, кровь хлынула из расквашенного носа. Он завалился на спину, загребал обеими ладонями пыль, но подняться не пробовал.
Владимир в мертвой тишине слышал только свое сиплое дыхание. Потом воздух всколыхнул пронзительный визг:
– Убивец!.. Раб убил боярского сына! Хватайте его!
Прайдана орала, княжичи вскочили, опрокинув столик. Варяжко пробовал подняться, но падал на спину. Гридни озлобленно ухватили Владимира за плечи. Он вскрикнул, руки зверски завернули за спину.
Из людской вышел, хромая, Сувор. Волосы были всклокочены, под глазами висели тяжелые мешки. Он закричал сразу мощным голосом, который только и остался непокалеченным с Журавской битвы:
– Оставьте хлопца! Разве не Варяжко начал драку?
– Он боярский сын! – заверещала Прайдана. – Убейте гаденыша!
– Да дети сами разберутся…
– Убейте!
Владимир ощутил, что его тащат, едва давая касаться ногами земли. Потом кто-то вскрикнул, другой выругался. Владимир упал на землю. Над ним пронеслась длинная жердь. Вскакивая, увидел, как Сувор, сильно прихрамывая, размахивает над ним оглоблей, а челядины с проклятиями разбегаются. Один уполз на четвереньках.
– Не сметь! – прорычал Сувор. Он был страшен. – А это – сын Святослава!
Голоса умолкли. Даже Прайдана на миг затихла, затем вскрикнула с новой яростью:
– Этот робич? Он никто, челядин. А здесь я распоряжаюсь! Я велю взять и выпороть на конюшне! Ну?
Челядины нехотя, но дружно двинулись со всех сторон. Сувор размахивал оглоблей, но искалеченная нога не позволяла двигаться так же быстро, как учил Владимира. Сбил с ног еще двоих, но кто-то ударил колом в затылок, и Сувор упал, обливаясь кровью.
Сильные руки ухватили Владимира, потащили, сорвали одежду. Нагого бросили на широкую скамью. От нее шел недобрый запах, в щели забились коричневые комочки свернувшейся крови. Один мужик сел ему на ноги, другой цепко держал голову.
Пороли долго, с наслаждением. Он сцепил зубы и не проронил ни звука, что разъярило палачей еще больше. Он понимал, что нужно наконец вскрикнуть и заплакать, тогда взрослые получат свое и отпустят, но что-то не позволяло так поступить, и он терпел, пока в глазах не потемнело и он не перестал видеть, слышать и даже чувствовать удары.
Он уже не слышал, как гридень на ногах пробурчал:
– Листопад, погоди… Что-то ноги не дергаются.
– Забили насмерть? – спросил Листопад равнодушно. Он небрежно стряхнул капли крови с рубахи, а те, что упали на его толстые губы, слизнул с явным удовольствием.
– Пожалуй.
Гридни отпустили недвижимое тело, а Листопад пинком сбросил с лавки. Тело Владимира повалилось мягко, безвольно. Он лежал на спине, раскинув руки. Из-под него начала выплывать кровь, быстро впитываясь в сухую землю.
– Пошли, – сказал один хмуро, – вряд ли выживет.
– Да, перестарались.
– Что – перестарались, – возразил Листопад. – Сувор едва плечо мне не выбил!
– Так то Сувор! А ты запорол мальчонку.
– А мне какая разница? Я и тебя могу прибить со злости. Думаешь, плечо не болит?
Когда Владимир очнулся и сумел заставить себя шевелиться, он потащился в каморку Сувора. Старого воина как принесли и бросили на пол, так он и лежал, бессильно разбросав руки. Из разбитой головы все еще стекала кровь. Владимир смочил тряпку, вытер кровь и прикладывал к голове старого дружинника до тех пор, пока тот не очнулся и повел глазами вокруг:
– Ты… цел?
– Жив, – ответил Владимир.
– Значит, цел, – прохрипел Сувор. – Все заживет, Влад. Все заживет!.. Молодость свое возьмет.
Да, спина зажила, даже не гноилась, только остались рубцы на всю жизнь, но одновременно узнал, что свое берет и старость. Сувор начал чахнуть, и хуже того – в глазах появилось затравленное выражение, как у бродячего, никому не нужного пса. Он внезапно ощутил, что уже не воин и что его может побить простая грязная челядь. Он согнулся сильнее, из каморки почти не выходил.
Два дня, что прошли после порки, Владимир выбирал время. Он чувствовал, что если все останется так, как есть, то и его спина, несмотря на молодость, уже не выпрямится. Два дня он жил как натянутая тетива, а в полночь медленно выбрался из людской. Все спали, он перепроверил, так ли, потому и откладывал так долго. И еще потому, что самый крепкий сон, как поучал Сувор, под утро. Именно тогда лучше всего лазутчику пробираться в стан врага, а у сонного вартового можно с пояса снять меч.
В челядной спали семеро. Тот, который едва не изломал кнут о его спину, лежал на широкой лавке. На лавках похрапывали еще двое. Остальных, что скрючились на тряпках посреди комнаты, Владимир осторожно обошел, запоминая в темноте, куда ступить. В окно светила слабая луна, глаза привыкли, он видел каждого отчетливо.
– Если оставлю, – прошептал он, все еще убеждая себя, – то не быть мужчиной. И не быть человеком… Я останусь рабом!
Листопад спал, запрокинув голову. Белое горло хорошо видно, Владимир вытащил нож, острый как бритва, с дрожью скользнул взглядом по яремной жиле, где течет вся кровь. Если полоснуть, то кровь брызнет тугой горячей струей и человека уже не спасет никакая сила. Кровь бьет с такой мощью, что струя разбрызгивается на сажени… Он видел, как ежедневно режут коров, овец, коз, свиней, а у человека такое же мясо. И такая же кровь.
Но он знал и то, что даже с перерезанным горлом корова будет метаться, забрызгивая кровью, если сперва не оглушить молотом по голове. И этот здоровенный мужик вскочит и разбудит всех.
Он примерился, приставив узкое отточенное лезвие к глазу Листопада, задержал дыхание и с силой ударил другой рукой по рукояти.
Лезвие вошло в глазную впадину, как в теплое масло. Глаз лопнул, брызнув на пальцы липким. Листопад слабо дернулся и застыл. Он был еще жив, но в голове сходятся все жилы, и лезвие перехватило их разом. Владимир попятился, удерживая себя от дикого желания выбежать с криком. Едва не теряя сознание от ужаса и омерзения, он выбрался на цыпочках, проскользнул вдоль стен к людской, неслышно пробрался в свой угол.
Уже укладываясь на тряпки, ощутил, как все тело сотрясает дикая дрожь. Он закрыл глаза, но знал, что сон не придет. Он убил человека. И если даже удастся скрыть от людей, то боги все равно видели все!
Глава 4
Утром был крик, во дворе метались люди. В людской начали подниматься, спрашивали испуганно, что стряслось. Он встал в числе последних, вышел, сильно хромая, двигался с трудом, кривился болезненно, а спину держал полусогнутой.
Пронесли тело дюжего мужика. Рукоять украденного с поварни ножа уже не торчала в глазнице, лицо было покрыто коричневой коркой запекшейся крови. Народ сбегался посмотреть, их оттесняли. Потом двое из княжьего терема ходили и с пристрастием допрашивали всех. Больше всего поглядывали на Сувора, кое-кто потребовал потрясти и мальчишку, да лучше бы с каленым железом, но старший посмотрел на бледного и отощавшего после порки Владимира, отмахнулся с пренебрежением:
– Еле ноги волочит… Это дело рук мужчины.
– Тогда Сувор?
– Сувор еще не покидает ложа. Какой злыдень едва не убил старика? Нет, Сувор еще не скоро встанет, если вообще поднимется.
Гридни переглядывались. Владимир видел растущий страх на грубых, озлобленных лицах. Кто-то шепнул о гневе богов, о некормленом домовом, о злобе упырей. Прошлая жертва принята была как-то не совсем хорошо, хоть и принята…
Вечером он случайно столкнулся лицом к лицу с гриднем, который тогда сидел у него на ногах. Что прочел в глазах избитого мальчишки, неизвестно, но Владимир видел, как дрогнуло лицо взрослого мужика, как незримой тенью метнулся страх.
Когда разошлись, Владимир удивленно поглядел ему вслед. Оглянулся и гридень, будто ощутил взор, вздрогнул. Походка изменилась, он юркнул в ближайшую дверь кузни, хотя Владимир был уверен, что шел к подвалам с зерном.
Боги ли вмешались, ночной ли упырь задавил гридня, но с того дня спина его не знала кнута. Он получал оплеухи, по-прежнему орали и взваливали на его плечи столько, что и взрослый падал бы от изнеможения, но пороть… Даже Прайдана начала поглядывать с некоторой опаской.
«Я, – подумал он потрясенно. – Я что-то изменил! Сам. Волхвы глаголят, что боги помогают только сильному. Но, похоже, помогают и тем, кто страстно жаждет стать сильным».
В эту ночь он еще мечтал, как зло отомстит обидчикам, каким пыткам подвергнет Прайдану, но к утру впервые в жизни начал строить планы.
Недели через две после прибытия латинян Владимир мчался на коне к Горе. Он отвез наказ старшего дружинника ловчим, возвращался гордый своей полезностью. Он уже выполнял поручения взрослых, в то время как его сверстники, не только княжичи – братья по отцу, еще скакали на палочках и лихо рубили голову чертополоху.
Возле небольшой статуи Симаргла, вырезанной с любовью и умением из старого дуба, собралась большая группка горожан. Владимир придержал коня. Люди размахивали руками, орали, наскакивали друг на друга, спорили, тыкали в грудь один другому растопыренными пальцами. Каждый оглядывался, указывал на крылатого пса, что призван охранять посевы, снова наскакивал на супротивника в споре. Гвалт стоял больший, чем когда вороны отгоняют бродячую кошку от своих гнезд.
Потом чуть стихло, а к деревянному столбу протиснулся приземистый человек в черной одежде. Он вскинул руки, что-то закричал горестно и уныло. Кияне начали оборачиваться к нему, голоса стихли. Больше разглядывали его необычный наряд, похожий на черное платье вдовы, но кое-кто слушал, покачивал головой.
Латинянин ярился, изо рта шла пена, выкрикивал то ли заклятия, то ли молитвы, тыкал перстом в деревянный столб. Владимир остановил коня, с седла было видно через головы собравшихся, как лицо латинянина покраснело от натуги, а глаза стали круглыми, как у совы.
– Вы кланяетесь не богам, а идолам! – донесся яростный крик на ломаном языке полянского племени. – Из одного дерева делаете своих богов и свои лопаты. Так почему не кланяетесь и лопатам?
Владимир видел, как лица мужиков посерьезнели. Один сказал предостерегающе:
– Ну-ну, ты богов наших не тронь. Хвалишь своего, ну и хвали. А нашего не тронь. Мы ж твоего не трогаем?
– А я вам говорю, – надрывался латинянин, – что только наш бог – настоящий! А все остальные – демоны. Бог настолько велик, что его нельзя изобразить ни в камне, ни в глине, ни в дереве. А все, кого изображаете, – это демоны! А наш бог настолько всемогущ, что нет ничего на свете, чего он не мог бы сделать…
Из задних рядов протиснулся крепкий немолодой мужик. Он был в простой холщовой рубахе с открытым воротом. За пеньковым поясом торчал плотницкий топор. Лицо его было изуродовано шрамами, правое ухо срублено. Глаза смотрели со злым весельем.
– Все?
– Все! – ответил латинянин яростно.
– Даже невозможное?
– Для нашего бога нет ничего невозможного!
– Гм… А скажи, латинянин, раз уж он так всемогущ, то сможет ли сотворить такой камень, чтобы сам не мог поднять?
И смерды, и знатные одинаково морщили лбы, переваривали вопрос, ставили его так и эдак. Дошло не сразу, и то не до всех, наконец лица иных начали расплываться в неуверенных усмешках. На латинянина поглядывали с интересом, как-то вывернется? Подкузьмил Микула, ничего не скажешь, крепко засадил.
Латинянин задохнулся, как от удара под ложечку. Глаза на миг стали растерянными, но красное лицо побагровело, налилось тяжелой кровью. Он завопил, потрясая кулаками:
– Козни неверных! Магометанцы расплодились среди вас, подбивают против истинной веры! Сам диавол глаголет вашими устами!
Микула стоял, широко расставив ноги. В хитро прищуренных глазах была откровенная насмешка.
– Нет, ты не юли, как лиса хвостом. Ответь!
Его поддержали разноголосые крики:
– Да, ответь!
– Человек спросил ведь! Ответь, коли могешь…
Латинянин вскрикнул во весь голос, от натуги срываясь на поросячий визг:
– Что я могу ответить диаволу? Только бесстрашно плюнуть ему в обличье!.. А ежели ваш бог не только в дереве, то пусть он поразит меня своей мощью!
Латинянин повернулся к идолу и смачно плюнул прямо в деревянный лик Симаргла. Мужики ахнули. Владимир сжался на коне в предчувствии беды. Симаргл дает добро, охраняет посевы, но чтобы охранять, надо иметь злой нрав и крепкие зубы!
Толпа как-то сразу двинулась на бесстрашного монаха-проповедника. Микула с быстротой молнии выхватил топор.
– Ты глуп и невежественен, монах! – выкрикнул он срывающимся от ярости голосом. – Я слышал куда лучших проповедников. Дурак ваш папа римский, что прислал таких олухов! Ты плюнул не в Симаргла, ты плюнул в наши души… Наш бог не карает, он слишком велик – он бог! – но это поручил нам, людям. И пусть теперь твой сильномогучий бог защитит тебя, если сумеет!
Он коротко и страшно взмахнул топором. Латинянин бестрепетно смотрел в лицо обидчику, не делая попыток бежать или даже уклониться. Возможно, все-таки ждал спасительной руки своего бога.
Лезвие топора ударило в середину высокого лба. Звонко хрустнуло, словно перерубили толстую жердь. Монах сделал два шага вперед. Из расколотой головы торчала рукоять топора. Само лезвие ушло вглубь, разрубив голову до гортани.
Мужики сурово молчали. Конь под Владимиром задрожал и попятился, чуя кровь. Губы Владимира тряслись, по спине бегали мурашки. Смерть видывал часто, она была всюду: в поединке, на охоте, казнь головника, но то были понятные смерти. Всякий раз за что-то! Но сейчас ни с того ни с сего – горящие глаза, перекошенные лица, руки на рукоятях ножей… И страшная непонятная смерть человека на глазах толпы!
Вечером того же дня плотник Микула был скаран на горло. Его забили до смерти палками, карой головников и прочих извергов, недостойных даже смерти, как другие люди. Казнили его по приказу великой княгини Ольги, которой пожаловался голова посольства епископ Адальберт.
По Киеву пополз грозный ропот. Два монаха вышли утром и вскоре прибежали обратно. Оба в изодранной одежде, избитые. Один держал на весу сломанную руку. Княгиня Ольга распорядилась приставить к монахам по два гридня, чтобы охраняли гостей, не давали чинить обид. Боярин Блуд, который особо яро призывал держаться за веру отцов, явился к княжичу Святославу для тайной беседы.
Говорили долго, Блуд как никогда был настойчив. Святослав хмурился, хотел уйти от разговора, но Блуд, как стало известно погодя, не дал даже отложить трудное решение.
На другой день княжич Святослав, коротко и в сторонке переговорив еще раз с Блудом и двумя прискакавшими к нему воинами, тут же отослал всех обратно, а сам, оседлав своего Вихря, унесся за город. В тереме глухо и с оглядкой говорили, что княжич не попрощался с матерью, как делал всегда, уехал, даже не спросив ее разрешения, даже не сказал, куда ускакал.
Весь день к княгине приходили встревоженные бояре, воеводы, знатные люди. Рядом с княгиней по левую руку сидел епископ Адальберт: мрачный, с горящими глазами, встречающий каждого суровым испытующим взором. По правую сторону находился священник Григорий, прибывший из Царьграда.
Поговаривали, что Адальберт и Григорий – лютые враги, ибо верят в Христа по-разному, когда-нибудь схлестнутся насмерть, и одному из них не жить, но сейчас заключили перемирие. Мол, оба христиане, волею одного бога заброшенные к нечестивым гипербореям, все еще поклоняющимся своим солнечным богам…
Взрослые вокруг Владимира люто спорили, ругались, потрясали кулаками. Он никак не мог уловить смысл разногласий, извертелся среди гридней и челяди. Впервые им было не до него, никто не бил, не пинал, не заставлял чистить до блеска закопченные котлы.
Выскочил на улицу, там мелькали огни факелов. Часто слышался быстрый цокот подков. На улицах начали появляться вооруженные люди. В воротах боярских теремов теперь стояла вооруженная до зубов и многочисленная стража. А княжий терем охраняли особо строго, отборные гридни прохаживались по обе стороны ворот, не подпускали даже близко. Наверху ворот сидели лучники.
Этой ночью он долго не мог заснуть. Раздраженные голоса раздавались как со двора, так и из терема, звенело железо, скрипели сдвигаемые с мест тяжелые сундуки, комоды, столы. Сон пришел тоже неспокойный: с пожарами, криками, кто-то огромный хватал его и бросал в пропасть, так не раз, пока он не проснулся весь в липком поту и с бешено колотящимся детским сердечком.
Во дворе стоял крик. Он бросился к окну. В распахнутые ворота на полном скаку врывались тяжело вооруженные всадники. По обе стороны лежали темные трупы стражей. Они казались маленькими, скрюченными, но темные лужи под ними были огромными.
С крыльца сбежали трое гридней, рослые и крепкие. Мечи в их руках грозно блистали. Всадники на ходу метнули дротики, все трое защитников рухнули, пронзенные насквозь острыми жалами. Другие всадники кружили по двору, быстро и умело рубили сопротивляющихся, лучники прямо с коней так же быстро и прицельно били стрелами по окнам терема. Десятка два воинов, споро и без толкотни, заскочили с седел на крыльцо. В лунном свете блестели шлемы, латы на плечах, кольчуги. Это были самые матерые воины, прошедшие со Святославом сквозь огонь и пожары битв, разгромившие Хазарский каганат, усмирившие вятичей, ясов и касогов!
Впереди бежал с обнаженным мечом рослый и могучий витязь. Он сбил наземь двух встречных гридней, не стал добивать, понесся по лестнице вверх. За ним бежали его дружинники. Владимир узнал княжича Святослава.
В палатах гремело, слышались душераздирающие крики. Вспыхнул огонь, но со двора прогремел властный голос, трое из нападавших бросились гасить пламя. Распоряжался огромный толстый воин на коне. Когда пламя осветило его лицо, Владимир с трепетом узнал руса Сфенела, опытного воителя, наставника княжича Святослава.
Пожар затушили быстро. Крики вскоре затихли, несчастные захлебывались в своей крови. Сфенел быстро отдавал приказы. Огромный и толстый, он двигался очень быстро, распоряжался умело и жестоко. Из темноты выныривали воины, снова уносились в ночь, быстрые и бесшумные, как призраки.
Из зияющего пролома в дверном косяке на крыльцо вышел, переступив через сорванную дверь, рослый воин в полном воинском доспехе. В его руке тускло блестел меч, длинный и острый. С черного острия срывались темные капли. Когда воин откинул забрало, Владимир в свете факелов узнал княжича Святослава.
– Готово и с большой палатой.
– Гридни? – коротко спросил Сфенел.
– Кто сдался, того просто связали.
– Пойдем, сразу переговорим с княгиней.
Святослав заколебался, и у Владимира в его укрытии сжалось сердце. Святослав, великий воин и великий полководец, завоевавший соседние страны и мечом раздвинувший пределы Руси, сильный и решительный, сейчас колебался в мучительной растерянности, а Сфенел, давно уже не наставник юного княжича, сейчас словно снова вернул прежние времена.
Он с неожиданной легкостью прыгнул с седла прямо на крыльцо. Затрещали доски, воевода поскользнулся в темной луже, выругался. Он кивнул, сразу несколько воинов бросились к нему с обнаженными мечами. Святослав вздохнул, крепче сжал рукоять. Лицо его было бледным, а глазные впадины в слабом лунном свете казались темными пещерами.
– Надо… так надо, – сказал он хриплым голосом.
Он пошел впереди. За ним следовали Сфенел с дюжиной воинов, Владимир никогда не видел столько рослых и так хорошо вооруженных людей вместе. Как узнал позже, это были последние из русов.
Глава 5
Рано утром вестники собирали воевод, бояр и знатных людей в княжеский терем. Кияне были наслышаны о ночной схватке. У многих кто-то да служил при огромном великокняжеском тереме, иные так и не вернулись, а кто-то явился только под утро в порванной одежде, побитый, если не раненый.
Простой народ валом валил за боярами, долго стоял молчаливой толпой за оградой, ждали выход великой княгини. Это всегда бывал праздник: княгиня одевалась богато, пышно. Простой люд всякий раз ахал при виде нежнейших шелков из Царьграда, багдадских тканей, германских ожерелий, искусно сделанных сапожков из далекой Иберии.
Во дворе непривычно много было воинов из отборной дружины княжича Святослава. Суровые, огромные, как башни, закованные в булат, они молча возвышались на исполинских конях, хмуро посматривали на крыльцо. Такие же нелюдимые воины, среди них много русов, эти даже по-местному говорили плохо, стояли по двое-трое на улицах, подозрительно смотрели на киян, столпившихся у ограды. В их присутствии гасли разговоры, их обходили стороной, даже косые взгляды прятали. Они угнетали своим молчанием, неподвижностью, нежеланием общаться.
Когда великая княгиня вышла на высокое крыльцо, во дворе и за оградой пронесся общий вздох. Княгиня была бледная как смерть, одета проще простой боярыни. Только роскошная шуба, наброшенная на плечи, несмотря на жару, как знак великокняжеской власти, подчеркивала ее владение Русью. Ее поддерживали под руки двое седовласых, но, как поняли в толпе, уже не только из почтительности: великая княгиня в самом деле едва держалась на ногах.
– Люди земли нашей, – заговорила Ольга. Ее голос был смертельно усталым, в толпе зашикали друг на друга, стараясь не проронить ни слова. – Долгие годы я несла тяжесть власти над нашим полянским племенем, над племенами древлян, дряговичей… над другими, что были властью русов объединены за последние годы… Чувствую, что силы покидают меня… Не по мне эта земная тяжесть, да и хочу открыть душу небесам, хочу беседовать с богом… а когда с ним общаться, когда то разбой, то пожар, то Иваш Ивку побил? Все свои печали несете мне, перекладываете на мои плечи!
Сфенел и Святослав высились за ее спиной, тяжелые и неподвижные, но за каждым словом следили. Сфенел кашлянул, и Ольга, вздрогнув, торопливо заговорила снова:
– Силы мои ослабели. Больше не могу держать тяжесть власти княжеской… Но у меня есть сын Святослав, вы его знаете… Вы его хорошо знаете! Он всю жизнь проводит в воинских походах, но вчера… вчера я призвала его и просила принять на себя заботу о землях русских…
Полустон-полувздох пронесся над толпой. Сфенел подобрался, хищно оглядел народ. Несколько воинов тут же бросились в толпу.
– Святослав, – продолжила княгиня все тем же мертвым голосом, – согласился принять великое княжение. Так что я велела приготовить все для передачи княжеской власти. А Святослав пусть принесет присягу по старым обычаям отцов наших… По обычаям русов.
Ее глаза на бледном лице были огромные и страдальческие. Старцы бережно повели ее обратно. Роскошная шуба скрывала ее некогда стройную фигуру, но все видели, что великая княгиня горбится, как под неподъемной тяжестью.
За оградой народ задвигался, пошли стоны:
– Княгиня!
– Заступница наша!
– На кого покидаешь сирых и недужных?
Сфенел коротко взмахнул рукой, и, словно брошенные из его горсти, всадники тут же направили коней в толпу, оттесняя от ограды, загоняя в тесные улицы. В руках появились плети из сыромятной кожи с вплетенными кусочками свинца. Послышался треск лопающихся рубах под ударами плетей, крики.
Не дожидаясь полудня, волхвы привели к присяге на верность Русской земле и ее древним законам княжича Святослава, которого с этого момента стали называть князем.
Ольга по-прежнему именовалась великой княгиней, а Святослава называли просто князем, но никого это не обманывало. За спиной Святослава грозно маячили острые копья верной ему могучей дружины русов и русичей, разбогатевших на удачных походах в соседние земли. Его держались и наемные варяги, да и простой люд предпочитал понятную веру отцов сложной и чужой вере с чужими именами и названиями. Святославу, равнодушному к титулам, как и к пышной одежде, важнее была реальная власть, он в разговорах с хазарами называл себя каганом, с викингами – конунгом, с печенегами – ханом, а с дикой чудью – вождем. На главном капище рядом с богами русов и полян уже стояли боги древлян, дрягвы, вятичей, тиверцев, даже покоренных ясов, ибо в дружину Святослава влилась дюжина ясских воинов.
Часть знатных бояр бежала из города. Крутой нрав Святослава знали. Другие же, принявшие христианство, умудренные жизнью, просто ушли в тень. Князю-воину будет не до вопросов веры. Он весь в походах, спит на коне, ест конину, едва-едва зажарив ее на угольях… Рано или поздно отважные русы полягут в битвах! Ведь сами ищут кровавой брани, в их песнях слышен звон мечей и рев боевых труб, реками льется кровь, а они гибнут как герои… Вот и пусть гибнут и дальше. А здесь можно будет повернуть по-старому…
Адальберта с двумя уцелевшими в резне спутниками вывели за ворота Киева и велели убираться без оглядки. Дружине Сфенел велел наложить стрелы на луки.
– Ежели хоть один оглянется, – приказал он жестко, – бить как свиней! Без жалости.
Таким Владимир вспоминал этот переворот. Русь, принявшая католичество великой княгиней и всей княжеской верхушкой, была повернута могучей рукой воина Святослава к древней вере русов.
Княжеская оружейная занимала правое крыло терема – в три поверха, а еще был подвал в два поверха, стены из дикого камня. Владимир умел подружиться с самыми нелюдимыми, а оружейникам всегда старался что-то подать, принести, и его допускали поглазеть и даже потрогать почти все, что хранилось под их началом.
Здесь любил бывать Святослав, но, на счастье Владимира, он редко бывал в Киеве.
Самое древнее и удивительное оружие хранилось в подвалах. На вбитых между глыбами крюках висели киммерийские луки и бронзовые мечи. Тут же рядом хранилась и скифская зброя, как называли свое оружие степняки древности. Мечи-акинаки, секиры, ножи – все из первого железа, еще слабого, сырого, незакаленного. Правда, мечи и ножи с золотыми рукоятями. Не простые скифы пали от рук древних русичей!
В распяленном положении висели ассирийские доспехи, кольчуги. Там же были конические шлемы, поножи, луки. Уже не оружейники, а волхвы рассказывали, что столь дивные вещи привезли пращуры из дальнего похода на Восток. Тогда победно дошли до самого Египта, но фараоны откупились богатой данью.
Там же была зброя персов, гребнистые коринфские шлемы с забралами остались от эллинов, когда была разбита армия великого Лександра. Пошли стричь гипербореев, вернулись стрижеными, да и не всем повезло вернуться. От них осталось особенно красивое оружие, сплошь с диковинными личинами, богато украшенное, щиты с вырезами. Говорят, ничто на свете не могло выстоять против удара македонской фаланги! Но под стрелами скифов и двуручными мечами богатырей-сколотов полегли завоеватели, немногие успели унести ноги…