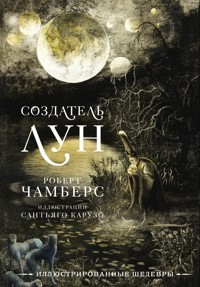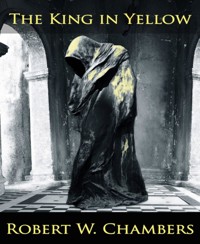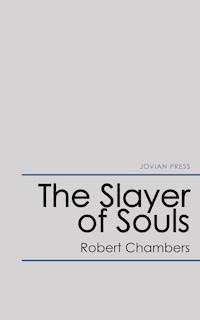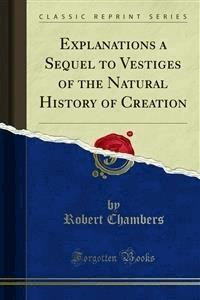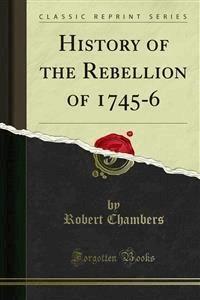Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Metamorphoses
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Russisch
Поговаривают, что есть пьеса, которая оставляет после прочтения только безумие и печаль. Она искушает тех, кто ее читает, навлекая странные видения и приводя к отчаянию. Это «Король в желтом». Тревожные истории этого сборника связаны между собой и пронизаны присутствием Короля в желтом. А герои, соприкоснувшиеся с запрещенной пьесой, познают все тайны сверхъестественного. Культовая классика викторианско-готического ужаса, вдохновившая многих авторов, от Г. Ф. Лавкрафта до создателей сериала «Настоящий детектив».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Роберт Чамберс Король в желтом
© Наталья Рогова, перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», АО «Т8 Издательские Технологии», 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Омега-Л», 2025
* * *
Посвящается моему брату
Как волны тучи вдаль плывут
Над озером, куда падут,
Два солнца-близнеца, что жгут
Мою Каркозу.
И странна ночь, когда звезда
Темна, как ночи темнота,
И странностям тем нет конца
В моей Каркозе.
Напев Гиад раздул лохмотья,
В которые король рядится,
Но не услышим мы его
В моей Каркозе.
О, песнь души, мой голос мертв,
И слез непролитый поток
Тебя объял,
Моя Каркоза.
Восстановитель репутаций
I
”Ne raillons pas les fous; leur folie dure plus longtemps que la notre. Voila toute la difference”[1].
К концу 1920 года правительство Соединенных Штатов практически завершило программу, принятую в последние месяцы президентства Уинтропа[2]. В стране царило спокойствие. Благодаря профсоюзам трудящиеся и работодатели достигли соглашения о заработной плате, ко всеобщему удовлетворению. Война с Германией, вторгнувшейся на остров Самоа, прошла без видимых последствий для Американской республики, а захват Норфолка и его временная оккупация были забыты благодаря славным победам на море и последовавшему за ними поражению войск генерала фон Гартенлаубе в штате Нью-Джерси. Капиталовложения в Кубу и Гавайские острова окупились сторицей, а затраты на возврат всей территории Самоа оказались вполне оправданными, так как теперь в портах острова американские суда могли беспрепятственно пополнять запасы угля. Оборона страны была крепка как никогда. Каждый город на побережье обзавелся собственными фортификационными сооружениями. Армия, реорганизованная Генеральным штабом по прусской системе, выросла до трехсот тысяч человек, не считая миллиона резервистов. Шесть эскадр крейсеров и мощных боевых кораблей следили за порядком в шести основных судоходных морских акваториях, и в резерве оставалось достаточно пароходов для патрулирования внутренних вод. Джентльмены с Запада наконец-то были вынуждены признать, что только люди достойные должны представлять нашу страну за границей взамен кучки патриотов-горлопанов и что дипломатическая академия необходима так же, как и юридические школы.
Страна процветала. Чикаго, ненадолго парализованный вторым Великим пожаром[3], восстал из руин и стал еще прекраснее, чем тот белый город, который был наспех возведен в 1893 году. Повсюду, где в свое время понастроили черт знает что, и даже в Нью-Йорке, большую часть архитектурных убожеств снесли. Улицы расширили, вымостили, осветили, высадили деревья, разбили скверы, часть железных дорог спрятали под землей в туннелях метро. Новые правительственные здания и казармы смотрелись великолепно, а одетые камнем берега всего острова Манхеттен были превращены в парки, ставшие любимым местом отдыха горожан. Государственное финансирование театров и оперы принесло свои плоды. Национальная художественно-промышленная академия США стала во многом напоминать европейские школы искусств. Забот у министра изящных искусств заметно прибавилось, а вот министру лесного хозяйства и охотничьих угодий теперь помогала Национальная конная полиция.
Последние договоры с Францией и Англией принесли нам немалую пользу. Выдворение евреев, родившихся за границей, в качестве превентивной меры, заселение нового независимого негритянского штата Суани, ограничение иммиграции, новые законы о натурализации и постепенная централизация исполнительной власти – все это способствовало национальному спокойствию и процветанию. Когда правительство решило проблему индейцев и эскадроны кавалерийских разведчиков в одеждах своих племен стали частью отлично отлаженной армейской машины, заменив малоэффективные подразделения в полках, созданные бывшим военным министром, нация вздохнула с облегчением. Когда Всеамериканский духовный конгресс успешно похоронил фанатизм и нетерпимость, а принципы добра и милосердия легли в основу объединения ранее враждовавших между собой религиозных направлений, было почти единодушно решено, что в той части планеты Земля, что именуется Новом Светом, наконец-то наступило благословенное тысячелетие благодати.
Но самосохранение всегда было для нас превыше всего, и потому Соединенные Штаты лишь наблюдали, не вмешиваясь, как Германия, Италия, Испания и Бельгия корчились в муках анархии, а Россия, подобно ястребу, нападала на них с высот Кавказа и когтила эти страны одну за другой.
В Нью-Йорке 1899 год ознаменовался демонтажем надземных железных дорог. А лето следующего, 1900 года, надолго осталось в памяти горожан, потому что в тот год убрали памятник Доджу[4]. Зимой следующего года началась кампания за отмену законов, запрещающих самоубийства, которая принесла свои плоды через много лет – в апреле 1920 года, – когда на территории парка Вашингтон-сквер был открыт первый государственный Зал прощания с жизнью, прозванный в народе усыпалкой.
В тот день я шел от доктора Арчера с Мэдисон-авеню. Врача я посетил скорее по привычке, а не по особой надобности. Признаю, что с тех пор, как я упал с лошади четыре года назад, у меня временами ломило затылок и шею, но вот уже несколько месяцев я чувствовал себя отменно. В тот день мой эскулап отпустил меня со словами, что в лечении я больше не нуждаюсь. Вряд ли стоило платить ему за этот последний визит, но о деньгах я не жалел. Меня беспокоила лишь та ошибка, которую досточтимый доктор допустил изначально. Когда меня подняли с тротуара, где я лежал без чувств, и кто-то милосердно послал пулю в голову моей лошади, меня отнесли к нему – к доктору Арчеру. А тот, решив, что мой мозг поврежден, поместил меня в свою частную клинику, где меня лечили как умалишенного. В конце концов доктор решил, что я здоров, и я, зная, что всегда был гораздо более нормален, чем он сам, «заплатил за науку», как он, смеясь, выразился. Уходя из клиники, я с нехорошей улыбкой сказал ему, что непременно с ним поквитаюсь, но он только расхохотался и попросил заходить время от времени. Я так и делал, надеясь когда-нибудь свести с ним счеты, но он не дал мне ни единого повода. Впрочем, я был терпелив и умел ждать, о чем не преминул в последний свой визит сообщить ему.
Падение с лошади, к счастью, не повлекло за собой никаких последствий; напротив, оно изменило мой характер в лучшую сторону. Из праздного молодого прожигателя жизни я превратился в человека активного, энергичного, умеренного в желаниях, но прежде всего… О, прежде всего весьма честолюбивого! Одно только меня беспокоило, и сколько бы я ни пытался бороться с наваждением, причина моей тревоги оставалась со мной.
Дело в том, что во время моего выздоровления я купил книгу – пьесу под названием «Король в желтом» – и, на свое несчастье, начал ее читать. Помню, что, разделавшись с первым актом, я подумал, что лучше бы мне остановиться. Еще помню, что внезапно пришел в такое страшное раздражение, что вскочил с дивана и со всей силы швырнул книгу в камин. Томик ударился о решетку, раскрылся и упал страницами вверх, а переплетом – на угли. Не попадись мне на глаза начальные слова второго акта, я бы бросил чтение в тот самый момент, и ничего бы не случилось. Но на мою беду, взгляд мой оказался прикован к тексту, освещенному пламенем, я выхватил книгу из огня и утащил ее к себе в спальню. Там я, весь дрожа, читал и перечитывал ее, плакал и смеялся, иногда вскрикивая от ужаса, который временами охватывает меня и сейчас. При этом я испытывал наслаждение столь острое, что чувствовал, будто каждый нерв в моем теле натянут и дрожит.
И с тех поря я не могу забыть Каркозу, где в небесах висят черные звезды и где тени людских мыслей удлиняются в полдень, когда солнца-близнецы погружаются в воды озера Хали. И еще в моей памяти навсегда сохранится образ Бледной маски. Вот это и тревожит меня, не дает мне покоя. Я молюсь, чтобы Бог проклял автора, выпустившего в наш мир это прекрасное, помрачающее разум творение, страшное в своей простоте, неотразимое в своей правде, – в мир, который теперь трепещет перед «Королем в желтом», и я трепещу вместе с ним.
Когда французское правительство конфисковало весь тираж перевода пьесы, только что доставленный в Париж, в Лондоне, разумеется, каждый загорелся желанием прочесть оригинал. Реплики персонажей витали в воздухе и, подобно моровой язве, распространялись из города в город, с континента на континент. То тут, то там пьесу запрещали, изымали экземпляры из продажи, клеймили в прессе и с амвонов церквей. Не пощадили ее даже литературные критики-авангардисты. И это при том, что на этих зловещих страницах не нарушались напрямую никакие принципы, не провозглашались никакие доктрины, не высмеивались ничьи убеждения. Ее нельзя было оценить ни по одному известному канону, и хотя в «Короле в желтом» была взята высшая нота искусства, все понимали, что человеческая природа не выдерживает того накала, который создавали слова, таившие в себе чистейший яд. Первый акт пьесы – на первый взгляд сама невинность и банальность – лишь усиливал последующий удар, который обрушивался на читателя.
Помнится, именно 13 апреля 1920 года на южной стороне Вашингтон-сквер, между Вустер-стрит и Южной Пятой авеню, был открыт первый государственный Зал прощания с жизнью. Еще зимой 1898 года власти приобрели множество старых, обшарпанных зданий в этом квартале. Раньше здесь располагались заведения, которые одни эмигранты пооткрывали для других. Теперь же кафе и рестораны французской и итальянской кухни были снесены, весь квартал обнесен позолоченной железной оградой и превращен в прекрасный сад с газонами, клумбами и фонтанами. В центре участка возвели небольшое белое здание строгих классических пропорций, которое благодаря зеленым насаждениям по трем сторонам теперь утопало в цветах. Шесть стройных ионических колонн поддерживали портик, а единственную входную дверь отделали бронзой. Перед входом стояла великолепная мраморная скульптурная группа «Судьбы», созданная молодым американцем Борисом Ивейном, умершим в Париже совсем молодым, в возрасте двадцати трех лет.
Когда я переходил Университетскую площадь, направляясь в парк, церемония открытия была в полном разгаре. Я пробирался сквозь молчаливую толпу зрителей, но на Четвертой авеню был остановлен кордоном полиции. Вокруг Зала прощания в каре выстроился драгунский полк. На высокой трибуне, обращенной к Вашингтон-сквер, стоял губернатор штата Нью-Йорк, а за ним – мэр Нью-Йорка и Бруклина, генеральный инспектор полиции, комендант войск штата, полковник Ливингстон, военный адъютант президента Соединенных Штатов, генерал Блаунт, командующий гарнизоном Губернаторского острова, генерал-майор Гамильтон, командующий гарнизоном Нью-Йорка и Бруклина, адмирал Бафби, командующий Гудзонской флотилией, начальник медицинской службы армии генерал Лэнсфорд, персонал Национального благотворительного госпиталя, сенаторы Уайз и Франклин от штата Нью-Йорк и, наконец, комиссар общественных работ. Трибуну окружал эскадрон гусар Национальной гвардии.
Губернатор заканчивал свой ответ на краткую речь начальника медицинской службы. Я услышал, как он сказал: «Законы, запрещающие самоубийство и предусматривающие наказание за любую попытку самоуничтожения, отменены. Правительство теперь признает право человека прекратить свое существование. Основаниями для этого могут стать невыносимые физические страдания или последняя степень душевного отчаяния. Мы считаем, что от этого наше общество только выиграет. Разрешение на добровольный уход из жизни не вызвало рост числа самоубийств в США, и теперь правительство решило открыть Залы прощания с жизнью в каждом городе, поселке и деревне. Посмотрим, примут ли эту помощь потерявшие надежду». Губернатор сделал паузу и повернулся к белому зданию Зала прощания. Вокруг воцарилась мертвая тишина. «Здесь безболезненная смерть ожидает того, кто больше не может выносить горести этой жизни. Если смерть желанна, пусть ищет ее за этими стенами», – заметно волнуясь, проговорил он. Затем, повернувшись к военному адъютанту президента, произнес: «Время настало!» А потом, обратившись к огромной толпе, отчеканил: «Граждане Нью-Йорка и Соединенных Штатов Америки, от лица правительства объявляю Зал прощания с жизнью открытым!»
Торжественная тишина была нарушена резкой командой, по которой гусарский эскадрон окружил экипаж губернатора, в который тот переместился, а драгуны развернулись и построились вдоль Пятой авеню, дожидаясь коменданта гарнизона. За ними последовала конная полиция. Я оставил толпу глазеть на беломраморный Зал прощания и, перейдя Южную Пятую авеню, пошел по ее западной стороне до Бликер-стрит. Затем я повернул направо и остановился перед неприметной мастерской под вывеской «Хоуберк, оружейник».
Я заглянул в дверь и увидел хозяина, занятого в комнатке в конце коридора какой-то работой. Он поднял голову и, заметив меня, сердечно меня приветствовал.
– Входите, мистер Кастанье! – донеслось до моего слуха.
Констанс, его дочь, поднялась навстречу мне, когда я переступил порог, и протянула изящную руку, но по румянцу разочарования на ее щеках я понял, что она ожидала увидеть совсем другого Кастанье – моего кузена Луиса. Я улыбнулся ее замешательству и похвалил ее вышивку, рисунок которой она копировала с цветной тарелки.
Старый Хоуберк клепал помятые поножи каких-то старинных доспехов, и мелодичный звон его молоточка наполнял эту необычную мастерскую приятными звуками. Потом он отложил молоток и взялся за крохотный гаечный ключ. Негромкое бряцание доспеха – динь-дон, динь-дон – вызывало во мне приятный трепет. Мне нравилась музыка удара стали о сталь, мягкий стук молоточка по фетровой подкладке поножей, звяканье кольчуги. То была единственная причина, по которой я любил навещать Хоуберка. Он никогда не интересовал меня лично, как и Констанс, если не считать того, что она была влюблена в Луиса. Чувства этой пары, кажется, были взаимными, и временами мысли об их романе лишали меня сна по ночам. Но в глубине души я знал, что все образуется и что я должен устроить их будущее так же, как рассчитывал устроить будущее доброго доктора Джона Арчера. Одним словом, я бы не задержался у оружейника и его дочери именно в тот день, если бы не был зачарован нежным звоном молоточка. Я готов был слушать эту музыку без перерыва, а когда шальной солнечный луч падал на инкрустированную сталь, то испытывал такое острое наслаждение, что едва мог его вынести. Я не мог отвести взгляд от солнечных бликов, зрачки расширялись, каждый нерв напрягался и дрожал от удовольствия, пока какое-нибудь движение старого оружейника не отсекало луч света. И тогда, все еще тайно трепеща, я откидывался назад и снова вслушивался в звук полировальной ткани, счищающей – шик-шик-шик – ржавчину с заклепок и чешуй доспехов.
Констанс держала свою вышивку на коленях и усердно трудилась над ней, прерываясь только для того, чтобы лучше рассмотреть узор на цветной тарелке из музея Метрополитен.
– Для кого это? – спросил я, указывая оружейнику на его работу.
Хоуберк объяснил, что помимо собрания ценнейших доспехов в музее Метрополитен, куратором которого его назначили, в его ведении находилось несколько частных коллекций, принадлежавших богатым любителям. Вот, к примеру, эти поножи были частью облачения латника, и его клиент отыскал их в крохотном парижском магазинчике на набережной Орсе. Он, Хоуберк, выторговал недостающую часть доспехов, и теперь коллекционер получил полный комплект. Старик отложил молоточек и прочел мне целую лекцию по истории этих лат – с далекого 1450 года, – подробно описывая, как они переходили от владельца к владельцу, пока их не приобрел Томас Стейнбридж. Когда великолепная коллекция последнего была распродана, клиент Хоуберка выкупил неполный доспех и с тех пор неустанно искал пропавшие поножи, пока почти случайно не обнаружил их в Париже.
– Неужели вы столько сил потратили на поиски, не имея никакой уверенности в том, что эта часть доспехов еще существует? – изумился я.
– Конечно, – холодно ответил мастер.
Вот тут-то я впервые взглянул на Хоуберка другими глазами.
– Наверное, вам хорошо заплатили? – предположил я.
– Нет, – усмехнувшись, ответил он. – Эта находка сама по себе стала моей наградой.
– Значит, вы не хотите разбогатеть?
– Моя единственная цель – стать лучшим оружейником в мире, – серьезно ответил он.
Констанс спросила меня, видел ли я торжественное открытие Зала прощания. Она заметила, как в то утро по Бродвею строем проскакала кавалерия, и хотела посмотреть на церемонию, но отец попросил ее остаться дома и закончить вышивку.
– Вы видели там вашего кузена, мистер Кастанье? – спросила она, и ее мягкие ресницы предательски дрогнули.
– Нет, – небрежным тоном проговорил я. – Полк Луиса на маневрах в округе Вестчестер.
Я поднялся, взял шляпу и трость.
– Снова идете наверх к этому полоумному? – насмешливо спросил старый Хоуберк.
Если бы только оружейник знал, как я ненавижу слово «полоумный», он бы никогда не употребил его в моем присутствии. Оно вызывает во мне определенные чувства, которые совсем не хочется объяснять. Однако я спокойно ответил ему:
– Пожалуй, действительно загляну к мистеру Уайльду на минутку-другую.
– Мне его жаль, – промолвила Констанс, покачав головой, – тяжело, наверное, много лет жить совсем одному, а ведь он – калека, да и страдает временными помрачениями рассудка. Похвально, что вы, мистер Кастанье, навещаете его так часто, как можете.
– А я думаю, он – плохой человек, – мрачно заметил Хоуберк, снова взявшись за свой молоточек. Я замер, прислушиваясь к нежному звону инструмента, и, когда он закончил, заметил:
– Не могу согласиться с вами обоими. Он не злодей и не безумец. Его разум – словно кунсткамера, откуда можно извлечь такие чудеса и редкости, на приобретение которых мы с вами отдали бы годы жизни.
В ответ Хоуберк только рассмеялся. Мне это не слишком понравилось, и я чуть раздраженно продолжил:
– Он знает историю так, как никто другой. От него не ускользают никакие, даже самые незначительные детали. А память у него просто поразительная! Если бы в нашем городе знали о существовании такого человека, ему бы определенно воздали по заслугам.
– Чепуха, – пробормотал Хоуберк, ища на полу упавшую заклепку.
– Чепуха? – саркастически переспросил я, стараясь не показывать свои чувства. – Значит, когда Уайльд утверждает, что щитки и набедренник уникальных доспехов, покрытых эмалью и известных как «Латы с княжеской эмблемой», валяются среди старого театрального реквизита, металлолома и тряпок в мансарде на Пелл-стрит, он говорит чепуху?
Хоуберк уронил молоток, поднял его и тихим голосом спросил, откуда я знаю, что у «Лат с княжеской эмблемой» не хватает щитков и левого набедренника.
– Я не имел об этом ни малейшего представления, пока мистер Уайльд не заговорил со мной об этом на днях. Он сказал, что недостающие доспехи находятся в мансарде дома 998 по Пелл-стрит.
– Чушь! – воскликнул он, но я заметил, как дрожит его рука под кожаным фартуком.
– Ага! – злорадно произнес я. – Значит, чушь и то, что мистер Уайльд называет вас маркизом Эйвонширским, а мисс Констанс…
Я не успел закончить, как Констанс вскочила на ноги с лицом, искаженным от ужаса. Хоуберк посмотрел на меня и медленно разгладил свой кожаный фартук.
– Это невозможно, – заявил он, – мистер Уайльд, конечно, может знать очень многое, но…
– Например, о «Латах с княжеской эмблемой», – перебил его я.
– Да, – веско произнес старый оружейник, – насчет доспехов он, возможно, кое-что и знает, но что касается маркиза Эйвонширского, он несет полную чушь. Разве вы не в курсе, что маркиз много лет назад убил любовника своей жены и сбежал в Австралию. Впрочем, свою жертву он пережил не намного.
– Мистер Уайльд ошибается, – пробормотала Констанс. Ее губы побелели, но голос звучал ровно и нежно.
– Ну что ж, как вам будет угодно. Предположим, что мистер Уайльд ошибся только в этом, – проговорил я.
II
Я поднялся по трем знакомым обветшалым лестничным пролетам и постучал в маленькую дверь в конце коридора. Мистер Уайльд отворил, и я вошел.
Заперев дверь на два замка и придвинув к ней тяжелый сундук, он подошел и сел рядом со мной, вглядываясь мне в лицо своими маленькими светлыми глазками. Полдюжины новых царапин покрывали его нос и щеки, а серебряные проволочки, с помощью которых крепились его искусственные уши, сместились. Выглядел мистер Уайльд очень и очень странно, и это еще мягко сказано. Ушей у него не было. Вместо них были протезы из воска с розоватым оттенком, торчавшие под углом из-под тонкой проволоки. Поскольку лицо у него было желтушным, искусственные уши с ним никак не сочетались, но тут уж ничего не поделаешь – мистер Уайльд ими страшно гордился. Лучше бы он, конечно, сделал протез для левой руки, на которой не было ни одного нормального пальца, а только культи, но это уродство не доставляло ему никаких видимых неудобств. Он был очень маленького роста, вряд ли выше десятилетнего ребенка, но с великолепно развитыми мышцами рук и мощными, как у атлета, бедрами. Но самым примечательным в мистере Уайльде была форма его головы: плоское лицо венчала заостренная макушка, что делало его, человека удивительного ума и обширных знаний, напоминающим тех несчастных, кого до конца жизни отправляют в сумасшедший дом. Многие называли его ненормальным, но я знал, что он пребывает в столь же здравом уме, что и я сам.
Не отрицаю, мистер Уайльд был эксцентричен. Особенно поражала одна из его маний: в доме у него жила кошка, которую он временами принимался дразнить до тех пор, пока она в ярости не бросалась ему в лицо. Я никак не мог понять, почему он держал это злобное существо и какое удовольствие он находил в том, чтобы закрываться в своей комнате с этой дьяволицей. Помню, однажды я поднял глаза от рукописи, которую изучал при неверном свете светильника, и увидел, что мистер Уайльд неподвижно сидит на своем высоком стуле, глаза его пылают от возбуждения, а кошка, поднявшись со своего места перед камином, крадется по полу прямо к нему. Прежде чем я успел пошевелиться, она изготовилась к прыжку, задрожала и бросилась своему хозяину прямо в лицо. С воем и шипением эта странная пара принялась кататься по полу, царапаясь и кусаясь, пока кошка не заорала от боли и не скрылась под шкафом. Мистер Уайльд перевернулся на спину и лежал с поджатыми и скрученными, как лапки умирающего паука, конечностями. Да, этот человек определенно был эксцентричен!
В этот мой визит мистер Уайльд забрался на свой высокий стул, испытующе глянул мне в лицо, взял в руки потрепанный гроссбух и открыл его.
– Генри Б. Мэтьюс, – прочитал он, – бухгалтер фирмы «Уайсот, Уайсот и компания», торгующей церковной утварью. Обратился третьего апреля. Репутация испорчена на бегах. Известен как ненадежный должник, пропустивший все сроки оплаты. Репутация должна быть восстановлена к первому августа. Гонорар – пять долларов.
Мистер Уайльд перевернул страницу и провел костяшками пальцев здоровой руки по мелко исписанным столбцам.
– П. Грин Дьюсенберри, священник евангелической церкви из Фэрбича, штат Нью-Джерси. Репутация пострадала в районе красных фонарей. Необходимо восстановить ее как можно скорее. Гонорар сто долларов. – Он откашлялся и добавил: – Обратился шестого апреля.
– Значит, вы не нуждаетесь в деньгах, мистер Уайльд? – поинтересовался я.
– Слушайте дальше. – Он снова закашлялся, а потом продолжил: – Миссис К. Гамильтон Честер, из Честер-парка, штат Нью-Йорк. Обратилась седьмого апреля. Репутация пострадала во Франции, в городе Дьепп. Необходимо восстановить репутацию к первому октября. Гонорар пятьсот долларов. Примечание. Гамильтон Честер, капитан корабля ВМС США «Шторм» возвращается в порт приписки первого октября с эскадрой Южных морей.
– Что ж, – повторил я, – профессия восстановителя репутаций оказалась весьма прибыльной, как я погляжу.
Его бесцветные глаза встретились с моими:
– Я лишь хотел доказать, что был прав. Помните, вы как-то обмолвились, что невозможно преуспеть на поприще восстановления репутаций, и даже если что-то получится, затраты в этом деле никогда не окупятся. Сегодня у меня в подчинении пятьсот человек; я плачу им немного, но трудятся они с огоньком. Вполне возможно, их энтузиазм порожден страхом. Эти люди вхожи во все слои общества, некоторых даже можно назвать его столпами. Кое-кто носит звание гения финансового мира, другие входят в категорию популярных и даровитых людей искусства. Я выбираю их по своему усмотрению из тех, кто отвечает на мои объявления. Критерий отбора у меня самый простой: они все трусы. При желании я мог бы удвоить их число за двадцать дней. Так что, как видите, те, кому дорога репутация их сограждан, у меня на содержании.
– Они могут ополчиться против вас, – предположил я.
Он потер большими пальцами изуродованные уши и поправил восковые накладки:
– Бунт на корабле?! Вряд ли… Мне редко приходилось применять кнут, кажется всего лишь однажды. К тому же им нравится их жалованье.
– И как же вы этот самый кнут применяли? – резким тоном спросил я.
Его лицо на мгновение посуровело, в прищуренных глазах заплясали недобрые зеленые искры.
– Я всего-то пригласил их прийти и немного побеседовать со мной, – вкрадчиво сказал он.
Стук в дверь прервал откровения мистера Уайльда, и его лицо вновь приняло приветливое выражение.
– Кто там? – спросил он.
– Это мистер Стайлетт, – раздалось за дверью.
– Приходите завтра, – ответил мистер Уайльд.
– Никак невозможно… – начал было посетитель, но мистер Уайльд отрывисто пролаял:
– Приходите завтра!
Мы услышали, как человек отошел от двери и свернул за угол к лестнице.
– Кто это? – спросил я.
– Арнольд Стайлетт, владелец и главный редактор великой «Нью-Йорк дейли».
Он провел по гроссбуху безобразной левой рукой и добавил:
– Я плачу ему сущую ерунду, но он доволен нашей сделкой.
– Арнольд Стайлетт! – повторил я, как громом пораженный.
– Да, – отозвался мистер Уайльд с самодовольным покашливанием.
Кошка, вошедшая в комнату в тот момент, когда он говорил, остановилась, посмотрела на него и ощерилась. Он слез с кресла, присел на корточки, взял злюку на руки и начал ее гладить. Кошка успокоилась и вскоре замурлыкала все громче и громче, отвечая на ласку.
– Где записи? – спросил я. Он указал на стол, и я в сотый раз принялся перелистывать пухлую рукопись, озаглавленную «Императорская династия Америки».
Одну за другой я переворачивал страницы, зачитанные почти до дыр одним только мною. Текст я знал наизусть, начиная со слов: «Когда из Каркозы, с Гиад, Хастура и Альдебарана…» – и заканчивая «Кастанье, Луис де Кальвадос, родился 19 декабря 1877 года». Но я все равно читал с жадным, восторженным вниманием, делая паузы, чтобы повторить вслух отдельные фрагменты, например: «Хилдред де Кальвадос, единственный сын Хилдреда Кастейна и Эдит Ландес Кастейн, наследник первой очереди…» и так далее и тому подобное.
Когда я закончил, мистер Уайльд кивнул и вновь откашлялся.
– Кстати, о ваших законных амбициях, – проговорил он. – Как дела у Констанс и Луиса?
– Она его любит, – только и мог ответить я.
Кошка у него на коленях внезапно вскинулась и ударила его лапой по лицу, метя в глаза, а он смахнул ее на пол и забрался на стул напротив меня.
– И еще доктор Арчер, так ведь? Но с ним вы можете разобраться в любое время, когда пожелаете.
– Да, – ответил я, – доктор Арчер вполне может подождать, а вот мне пора увидеться с моим кузеном Луисом.
– Пора, – повторил он и добавил: – Время пришло!
Мистер Уайльд взял со стола очередной потрепанный том и быстро пробежался по записям.
– Сейчас мы поддерживаем связь с десятью тысячами человек, – пробормотал он. – В первые двадцать восемь часов нас будет уже сто тысяч, а через сорок восемь часов – весь штат. А потом штат будет восставать за штатом, и скоро нашей станет вся страна. А если Калифорния или Северо-Запад откажутся, то им только хуже будет. Я даже не стану посылать им Желтый знак.
Кровь бросилась мне в голову, но я быстро ответил:
– Новая метла чисто метет!
– Честолюбие Цезаря и Наполеона меркнет перед тем, кто никогда не успокоится, пока не овладеет умами людей и даже их нерожденными мыслями, – наставительно произнес мистер Уайльд.
– Вы говорите о Короле в желтом, – простонал я, содрогнувшись.
– Он – король, которому служили императоры!
– Почту за честь служить ему, – заверил я.
– Возможно, Констанс все же не любит вашего кузена, – проговорил мистер Уайльд, потирая уши искалеченной рукой.
Я хотел ответить, но внезапный взрыв музыки военного оркестра с улицы заглушил мой голос. Двадцатый драгунский полк, ранее стоявший гарнизоном на горе Сент-Винсент[5], возвращался с маневров в округе Вестчестер в свои новые казармы к востоку от Вашингтон-сквер. То был полк моего кузена. Красавцы, все как на подбор! В своих бледно-голубых мундирах в обтяжку, высоких киверах и щегольских белых бриджах с двойной желтой полосой они сидели в седлах как влитые. Каждый второй кавалерист был вооружен пикой, на металлическом острие которой развевался желто-белый вымпел. Сначала продефилировал оркестр, играя полковой марш, за музыкантами проследовал полковник со своим штабом, а цокот копыт о мостовую не умолкал, головы коней покачивались в унисон, вымпелы трепетали на остриях пик. Драгуны красовались в прекрасных английских седлах, сверкая белозубыми улыбками на лицах, потемневших от загара во время бескровной военной кампании на фермах Вестчестера. Звон их сабель о стремена, звяканье шпор и карабинов восхищали меня. Я увидел Луиса, скакавшего со своим эскадроном. Прекраснее мужчины и офицера трудно было себе представить. Мистер Уайльд, устроившийся в кресле у окна, тоже обратил внимание на его статную фигуру, но ничего не сказал. Проезжая мимо мастерской Хоуберка, Луис повернулся и пристально посмотрел прямо на фасад дома, и я увидел, как его смуглые щеки окрасились румянцем. Наверное, Констанс стояла у окна. Когда последние всадники проехали мимо и последние штандарты исчезли с Южной Пятой авеню, мистер Уайльд поднялся со стула и оттащил сундук от двери.
– Что ж, – сказал он, – пора вам увидеться с кузеном Луисом.
Он отпер дверь, и я, подхватив шляпу и трость, вышел в коридор. На лестнице было темно, и я наткнулся на что-то мягкое. Оно зашипело и завыло, но когда я замахнулся тростью, чтобы как следует проучить кошку, деревянная часть разлетелась в щепки о балюстраду, а чертовка удрала в комнату мистера Уайльда.
Проходя мимо двери Хоуберка, я увидел, что он все еще трудится, склонившись над доспехами, но не остановился. Оказавшись вновь на Бликер-стрит, я пошел к Вустеру, обогнул Зал прощания и, пройдя сквозь Вашингтон-сквер, направился прямо в свои комнаты в апартаментах «Бенедик»[6]. Здесь я с удовольствием пообедал, почитал «Геральд» и «Метеор» и наконец ушел в спальню. Подойдя к стальному сейфу, я набрал заветную комбинацию цифр, которую помнил наизусть. Четыре минуты без одной четверти, которые приходится ждать, пока откроется замок, – для меня поистине драгоценные мгновения. С того момента, когда я выставляю цифры в прорезях механизма, и до того, как я берусь за ручки и отвожу в сторону массивные стальные двери, я пребываю в экстазе ожидания. Должно быть, такое блаженство испытывают обитатели рая. Я знаю, какой предмет скрывают глубины массивного сейфа, и от того, что он принадлежит мне и только мне, мое удовольствие только усиливается… И вот сейф наконец открыт, и я поднимаю с обитой бархатом подставки корону из чистейшего золота, сверкающую бриллиантами. Я делаю это каждый день, и все же радость ожидания и прикосновения к прекрасному символу власти, кажется, только возрастает. Этот убор достоин короля среди королей, императора среди императоров. Даже если Король в желтом пренебрежет драгоценной короной, ее будет носить его верный слуга.
В тот день я держал корону в руках до тех пор, пока сейф не издал резкий сигнал тревоги, и тогда я бережно и гордо водрузил ее на место и закрыл стальные дверцы. Потом не торопясь вернулся в свой кабинет, выходивший окнами на Вашингтон-сквер, и облокотился на подоконник. В окна лилось полуденное солнце, легкий ветерок шевелил в парке ветви вязов и кленов, покрытых почками и нежной листвой. Стая голубей кружила вокруг колокольни Мемориальной церкви[7], то садясь на красную черепичную крышу, то слетая к Фонтану лотоса перед Мраморной аркой[8]. Садовники возились на клумбах вокруг фонтана, и свежевскопанная земля пахла сладко и пряно. По зеленой траве со скрипом тащилась газонокосилка, запряженная толстой белой лошадью, а поливальные машины орошали асфальтовые дорожки струями воды. Вокруг статуи Питера Стёйвесанта[9], которая в 1897 году заменила кошмарный памятник Гарибальди[10], в лучах весеннего солнца играли дети, а молоденькие няньки катили затейливые детские коляски с безрассудным пренебрежением к вверенным их попечению толстощеким малышам, что, верно, объяснялось присутствием полудюжины молодцеватых драгун, захвативших парковые скамейки. Сквозь деревья серебрилась в лучах солнца арка Мемориала Вашингтона, а за ней, на восточной оконечности площади, серели каменные казармы драгун и виднелись облицованные светлым гранитом конюшни артиллеристов.
Я посмотрел в сторону Зала прощания на противоположном углу площади. Несколько зевак все еще слонялось у позолоченной ограды, но ведущие к зданию дорожки были пустынны. Вода в фонтанах журчала и переливалась на солнце; воробьи уже облюбовали это место для купания, и на водной поверхности плавали серые перья. Два или три белых павлина шествовали по лужайкам, а на руке одной из «Судеб» замер голубь такого цвета, что казался частью статуи.
Стоило мне отвести взгляд, как среди зевак у ворот случилась небольшая суматоха. Вдруг появился молодой человек, который неверными шагами двигался по гравийной дорожке, ведущей к бронзовым дверям Зала прощания. Он на мгновение остановился перед «Судьбами», и когда поднял голову, всматриваясь в их загадочные лица, голубь вспорхнул со своего скульптурного насеста, покружил над ним и полетел на восток. Молодой человек закрыл лицо руками, а затем вдруг одним движением взбежал по мраморным ступеням. Бронзовые двери захлопнулись за ним, и через полчаса праздные зеваки разошлись, а вспугнутый голубь вернулся на свой насест на руку Судьбы.
Я надел шляпу и вышел в парк, чтобы немного прогуляться перед ужином. Когда я пересекал центральную дорожку, мимо прошла группа офицеров. Один из них крикнул: «Привет, Хилдред!» – и вернулся, чтобы пожать мне руку. Это был мой кузен Луис. Он стоял передо мной, улыбаясь и постукивал хлыстом по форменным сапогам со шпорами.
– Только что из Вестчестера, – с энтузиазмом заговорил он. – Сплошная сельская идиллия! Молоко, творог и пейзанки в широкополых шляпах, которые восклицают «ой, да ла-а-адно, сударь мой!», если говоришь им, что они красивые. Прямо сейчас я жизнь готов отдать за хороший обед в «Дельмонико»[11]. А у тебя какие новости?
– Никаких, – приветливо улыбаясь, ответил я. – Видел, как ваш полк маршировал сегодня утром.
– Правда? А я тебя не разглядел. Ты где стоял?
– В окне комнаты мистера Уайльда.
– Черт возьми! – раздраженно воскликнул мой кузен. – Этот Уайльд просто псих ненормальный! Не понимаю, почему ты…
Тут он увидел, что я огорчен его словами, и попросил у меня прощения.
– В самом деле, старина, – проговорил он, – не хочу ругать того, кто тебе нравится, но, черт побери, не могу понять, что у тебя общего с этим типом. Воспитанным его не назовешь, выглядит он омерзительно: одна голова чего стоит… Таким уродцам место в сумасшедшем доме, куда его, кстати, не раз помещали.
– Вообще-то я тоже там побывал, – перебил я его, стараясь говорить тихим и ровным голосом.
Луис на мгновение растерялся, но потом оправился и дружески похлопал меня по плечу.
– Но ты ведь полностью излечился… – начал он, но я снова остановил его:
– Ты имеешь в виду, они признали, что я никогда не был сумасшедшим?
– Конечно, именно это я и хотел сказать, – рассмеялся Луис.
Мне не понравился его принужденный смех, но я только кивнул с беззаботным видом и спросил, куда он направляется. Луис посмотрел вслед своим однополчанам, которые уже почти дошли до Бродвея.
– Мы собирались попробовать коктейль «Брансвик»[12], но, по правде говоря, я искал предлог, чтобы вместо этого навестить Хоуберка. Пойдем со мной, так мне будет проще сбежать от друзей на этот вечер.
Мы застали старого Хоуберка у дверей его мастерской. Он переоделся в легкий отглаженный костюм и стоял, наслаждаясь свежим весенним воздухом.
– Мы с Констанс решили немного прогуляться перед ужином, – ответил он на поток вопросов Луиса. – Хотим пройтись по набережной Гудзона.
В этот момент появилась Констанс, которая сначала побледнела, а потом залилась краской, когда Луис склонился над ее крохотными пальчиками в перчатках. Я попытался отклонить приглашение, сославшись на дела в одном из пригородов, но Луис и Констанс не стали меня слушать и настояли, чтобы я пошел с ними. Я понял, что от меня ждут, чтобы я остался и отвлек на себя внимание старого Хоуберка. «Что ж, так тому и быть, хотя бы присмотрю за Луисом», – подумал я и, когда они остановили кэб на Спринг-стрит, сел с ними и занял место рядом с оружейником.
Великолепные парки и облицованные гранитом набережные вытянулись в линию вдоль Гудзона: их строительство началось в 1910 году и закончилось осенью 1917-го. Сейчас это место стало одним из самых популярных променадов в мегаполисе. Набережные начинались от старого Батарейного парка и простирались до 190-й стрит, с них открывался прекрасный вид через реку на берег штата Джерси с его горным массивом. В разбитых за набережными парками среди деревьев притаились кафе и рестораны, а на открытых сценах дважды в неделю играли военные оркестры.
Мы уселись на залитую солнцем скамейку у подножия конной статуи генерала Шеридана. Констанс раскрыла кружевной зонтик от солнца, и они с Луисом погрузились в тихий разговор, смысл которого невозможно было уловить. Старый Хоуберк, опираясь на трость с рукояткой из слоновой кости, закурил ароматную сигару. Вторую он предложил мне, но я вежливо отказался. Оружейник безмятежно улыбался, глядя прямо перед собой. Солнце низко висело над деревьями Статен-Айленда, а воды залива окрасились золотом. В них отражались нагретые солнцем паруса судов, стоящих в гавани.
Бриги, шхуны, яхты, неповоротливые паромы, на палубах которых толпился народ… Прямо к берегу подходили железнодорожные пути, по которым к воде подавали вереницы коричневых, синих и белых товарных вагонов. Большие пароходы гудками возвещали о своем прибытии под погрузку или разгрузку, окруженные целым сонмом малых каботажных судов, вдалеке работали драги и землечерпалки, углубляя фарватер, а по всему заливу носились, пронзительно свистя и плюясь дымом, наглые маленькие буксирчики, – весь этот водный транспорт бороздил поверхность реки, в которой отражалось солнце, насколько хватало глаз. А посередине залива замерла безмолвная флотилия белых военных кораблей, контрастируя своей неподвижностью с оживленным движением остальных судов.
Веселый смех Констанс вывел меня из задумчивости.
– На что это вы уставился? – спросила она.
– Да так, любуюсь нашей флотилией, – с улыбкой ответил я.
Тогда Луис принялся рассказывать нам, что это за корабли, указывая на местоположение каждого из них относительно старого краснокирпичного форта на Губернаторском острове[13].
– Вон та маленькая сигарообразная штука – это торпедный катер, – объяснял он, – рядом с ним стоят «Тарпон»[14], «Морской сокол», «Морская лисица» и «Осьминог». За ними канонерки «Принстон», «Шамплейн», «Штиль» и «Эри». Еще дальше крейсеры «Фарагут» и «Лос-Анджелес», потом – линкоры «Калифорния», «Дакота» и «Вашингтон», причем последний – флагман. Вот те два низкобортных корабля, похожих на баржи, что стоят на якоре у замка Уильямс, – это двухбашенные мониторы «Ужасный» и «Великолепный», а за ними – таран «Оцеола».
Констанс не сводила с Луиса своих прекрасных глаз.
– Как много вы знаете для солдата, – сказала она с восхищением в голосе, и мы все засмеялись.
Вскоре Луис поднялся со скамьи, кивнул нам, подал руку Констанс, и они пошли вдоль по набережной. Хоуберк некоторое время смотрел им вслед, а затем повернулся ко мне.
– Мистер Уайльд был прав, – сказал он. – Я нашел щитки и левый набедренник от «Лат с княжеской эмблемой» в богом забытом хранилище на Пелл-стрит.
– В доме девятьсот девяносто восемь? – спросил я с улыбкой.
– В нем самом.
– Мистер Уайльд очень умный человек, – не преминул заметить я.
– Я хочу отплатить ему за это важнейшее открытие, – продолжал Хоуберк. – Я должен рассказать о его участии в этом деле, потому что он имеет право на славу.
– Он не поблагодарит вас за это, – резко ответил я. – Пожалуйста, никому ничего не говорите.
– Да вы хоть представляете себе, сколько эти доспехи стоят? – спросил Хоуберк.
– Ну, долларов пятьдесят, наверное.
– Они оцениваются в пятьсот, и ни центом меньше, и вдобавок владелец «Лат с княжеской эмблемой» готов заплатить две тысячи тому, кто соберет все части. Это вознаграждение также по праву принадлежит мистеру Уайльду.
– Он не хочет! Он отказывается от денег! – воскликнул я в крайнем раздражении. – Что вы знаете о мистере Уайльде?! Ему не нужны ваши подачки. Он и так богат – или в самом скором времени разбогатеет… будет богаче всех на свете, кроме меня… Нам, ему и мне, будет вообще плевать на деньги, когда… когда…
– Когда что? – изумленно спросил Хоуберк.
– Скоро узнаете, – быстро ответил я, поняв, что чуть не проговорился.
Он уставился на меня, совсем как доктор Арчер, и я узнал этот взгляд. Он смотрел на меня как на полоумного… Возможно, ему повезло, что он ограничился взглядом и не проговорил это ненавистное мне слово вслух.
– Нет, – ответил я на невысказанную мысль моего собеседника, – я не сумасшедший, и разум мой так же здоров и крепок, как у мистера Уайльда. Не хочу пока объяснять, но у меня в руках оказалась одна вещь, которая принесет больше, чем вложения в золото, серебро или драгоценные камни. Она обеспечит счастье и процветание целого континента, да что там, целого полушария!
– Как скажете… – примирительно проговорил Хоуберк.
– И в конце концов, – продолжил я уже спокойнее, – моя находка обеспечит счастье всего человечества.
– И еще ваше собственное счастье и процветание, а также счастье мистера Уайльда?
– Именно так, – подтвердил я с улыбкой, хотя готов был ударить старого оружейника за его пренебрежительный тон.
Он некоторое время молча смотрел на меня, а потом очень мягко произнес:
– Почему бы вам не бросить ваши пыльные книги и ученые занятия, мистер Кастанье, и не отправиться куда-нибудь в горы? Вы прежде так любили рыбалку. Съездите в Ренджели, поймайте там пару форелей…
– Рыбалка меня больше не интересует, – ответил я без тени видимого раздражения в голосе.
– Раньше вы увлекались всем на свете, – продолжал он, – занимались спортом, ходили под парусом, охотились, ездили верхом…
– После моего падения я больше верхом не езжу, – сухо сказал я.
– Ах, да, вашего падения, – повторил он, отводя взгляд.
Я решил, что этот лишенный смысла разговор зашел слишком далеко, и вновь заговорил о мистере Уайльде; но Хоуберк уставился мне прямо в лицо, что меня крайне оскорбило.
– Вы толкуете о мистере Уайльде, – проговорил он, – а вы знаете, что он сегодня днем учудил? Спустился вниз и прибил табличку на дверь рядом с моей. Она гласит: «Мистер Уайльд, восстановитель репутаций. Звонить три раза». Вы не знаете, случайно, что это значит?
– Знаю, – ответил я, подавляя в себе ярость.
– Неужели? – пробормотал он.
Подошли Луис и Констанс и спросили, не присоединимся ли мы к ним. Хоуберк посмотрел на часы. В тот же миг из казематов замка Уильямса вырвались клубы дыма, по воде прокатился гул пушечного выстрела, эхом отразившись от высокого противоположного берега. Флаг на флагштоке пополз вниз, на белых палубах военных кораблей зазвучали горны, а на джерсийском берегу зажглись первые электрические фонари.
Когда мы все вместе возвращались в город, я услышал, как Констанс что-то сказала Луису, а он прошептал в ответ: «Моя дорогая…» Чуть позже, пока я шел с Хоуберком по площади, до меня донеслось: «милая» и «моя Констанс…». И я понял, что не ослышался и что время, когда я должен буду поговорить с моим кузеном Луисом об очень важных делах, почти пришло.
III
Однажды утром в начале мая я открыл стальной сейф в своей спальне и примерил золотую корону, украшенную драгоценными камнями. Бриллианты вспыхнули огнем, когда я повернулся к зеркалу, а тяжелое чеканное золото засияло, словно нимб, вокруг моей головы. Я вспомнил мучительный крик Камиллы и ужасные слова, эхом прокатившиеся по темным улицам Каркозы. То были последние строки первого акта, и я не смел думать о том, что последует за ними… Не осмеливался даже теперь, стоя под лучами ласкового весеннего солнцем в своей собственной комнате, в окружении знакомых предметов, куда доносились только приглушенные звуки уличной суеты, да голоса слуг в коридоре за дверью. Отравленные слова проклятой пьесы медленно капали в мое сердце, как смертный пот стекает на простыню, пятная ее. Дрожа, я стянул с головы корону и вытер лоб, потом подумал о Хастуре и о своих законных притязаниях… А затем вспомнил мистера Уайльда таким, каким оставил его в нашу последнюю встречу: все лицо в крови и изорвано когтями его дьявольской твари. И он тогда сказал… Что же он сказал?..