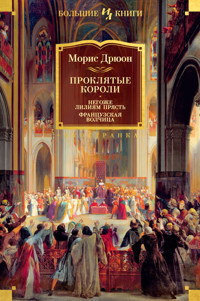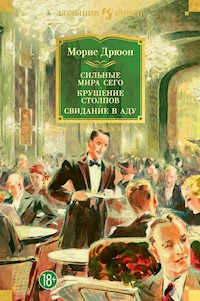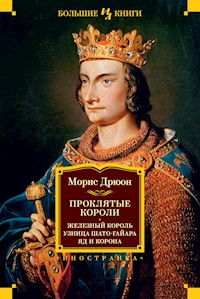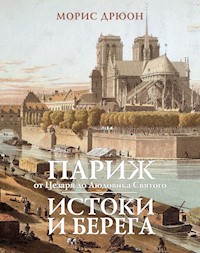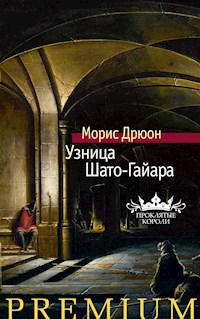Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Иностранная литература. Современная классика
- Sprache: Russisch
Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге "Проклятые короли", открывшей мрачные тайны Средневековья, и трилогии "Конец людей", рассказывающей о закулисье современного общества, о закате династии финансистов и промышленников. Второй роман цикла называется "Крушение столпов": могущественные политики, финансовые воротилы, аристократы и нувориши — все когда-то стареют. Героев романа Дрюона настигают болезни и физические недуги. Их дети, напротив, входят в силу, подрастают внуки, но старики с их поразительной волей к жизни, опытом и настойчивостью пытаются повлиять на новое поколение, доказывая, что их еще рано списывать со счета. Но кому удастся удержаться на плаву в море бурных событий, настигших Европу в тридцатые годы ХХ века?..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
Maurice Druon
LA CHUTE DES CORPS
Copyright©1963 by Maurice Druon
Перевод сфранцузского Нины Кудрявцевой-Лури
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Дрюон М.
Крушение столпов : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр.Н. Кудрявцевой-Лури.— М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014.(Иностранная литература. Современная классика).
ISBN978-5-389-09178-8
16+
Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья, и трилогии«Конец людей», рассказывающей о закулисье современного общества, о закате династии финансистов и промышленников.
Второй роман цикла называется «Крушение столпов»: могущественные политики, финансовые воротилы, аристократы и нувориши — все когда-то стареют. Героев романа Дрюона настигают болезни и физические недуги. Их дети, напротив, входят в силу, подрастают внуки, но старики с их поразительной волей к жизни, опытом и настойчивостью пытаются повлиять на новое поколение, доказывая, что их еще рано списывать со счета. Но кому удастся удержаться на плаву в море бурных событий, настигших Европу в тридцатые годы ХХ века?..
©Н. Кудрявцева-Лури,перевод,2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014 Издательство Иностранка®
Посвящается Ролану Доржелесу
Напоминание об усопших великих родов
ГРАФ ЖАН ДЕ ЛА МОННЕРИ
Выдающийся поэт, член Французской академии1, кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, умер в Париже в декабре 1920-го, в возрасте семидесяти четырех лет,в своем особняке на улице Любек. При его последних мгновениях присутствовали: два его брата, старший — Урбен, землевладелец, и младший — Робер, бригадный генерал; племянница со стороны жены Изабелла д’Юин — высокородных кровей, но лишенная состояния и какой-либо привлекательности, дожившая в девичестве до четвертого десятка; профессор Эмиль Лартуа, знаменитый врач, член Медицинской академии и кандидат в члены Французской академии; Симон Лашом, молодой выпускник университета, честолюбивый и бедный, сын беррийских крестьян, преподаватель четвертого класса в лицее Людовика Великого. Незадолго перед тем Лашом закончил диссертацию, посвященную творчеству Жана де Ла Моннери, и в тот день принес свежую корректуру умирающему поэту, перед глазами которого страница за страницей, вспыхивая и угасая, прошла вся его жизнь.
Правительство устроило Жану де Ла Моннери национальные похороны.
ОЛИВЬЕ МЕНЬЕРЕ
Слывший, хотя сам он и отрицал это, побочным сыномгерцога Шартрского и скромно хранивший на протяжениитридцати лет платоническую верность графине, супруге Жана де Ла Моннери. Ради нее, помогая избежать скандала, этот тихий, добрый холостяк шестидесяти восьми летот роду согласился через год после смерти поэта жениться наИзабелле, беременной от Симона Лашома. В Швейцарииу Изабеллы произошел выкидыш. Прожив полгода в браке,Оливье Меньере внезапно испытал подъем мужской активности, однако через несколько недель, изнуренный женой, которая была на тридцать пять лет его моложе, однажды ночью скончался на ней в приступе кровавой рвоты.
БАРОН ФРАНСУА ШУДЛЕР
Сын барона Ноэля, внук барона Зигфрида, законный наследник могущественной династии банкиров еврейскогопроисхождения, получивших дворянство в Австрии отФердинанда II, а во Франции — от Наполеона III. Самоубийство тридцатитрехлетнего молодого человека, вызывавшего у многих зависть, красивого и богатого, великолепного спортсмена, блестяще прошедшего военную службу, внушавшего симпатию с первого взгляда и проявлявшегоредкий предпринимательский дар, повергло Париж в изумление. На самом же деле Франсуа, наделенный повышеннымчувством ответственности, покончил с собой, в какой-то мигпотеряв от отчаяния голову; он стал жертвой биржевоймахинации, затеянной против него собственным отцом,грозным исполином бароном Ноэлем. Последний почувствовалревность к растущему влиянию молодого человека и решиллишить его престижа, который тот начинал приобретать.
Франсуа Шудлер оставил молодую жену, Жаклин, единственную дочь Жана де Ла Моннери; после длительной нервной болезни, вызванной происшедшей драмой, и обращения в новую веру стараниями доминиканца, отца Будре, она нашла прибежище в религии. Кроме того, у Франсуа осталось двое детей, Жан-Ноэль и Мари-Анж, в возрасте, к моменту его кончины, соответственно шести и семи с половиной лет.
Симон Лашом, став вскоре сотрудником «Эко дю матен», газеты, владельцем которой был Ноэль Шудлер, должен был поторопиться, чтобы занять возле магната место, на котором тот не захотел видеть своего сына.
МАЛЫШ ФЕРНАН
Умер в младенчестве, недалеко от Мальмезона, едва дожив до двух месяцев; один из близнецов, с помощью которых двадцатилетняя актриса Сильвена Дюаль, выдавая себя за их мать, выкачала из шестидесятилетнего Люсьена Моблана два миллиона.
БАРОН ЗИГФРИД ШУДЛЕР
В конце 1923 года, в возрасте девяноста шести лет, рухнул от апоплексического удара в зале для игр своих правнуков Жан-Ноэля и Мари-Анж. Основатель французскойветви, второй барон Шудлер, чьим долгожительством гордилась семья, видывал еще Талейрана, беседовавшего за ужином у князя Меттерниха с французским и австрийским императорами. Он на полтора года пережил внука, покончившего с собой, а в самое утро его смерти сбрил себе бакенбарды.
ГЕНЕРАЛ ГРАФ РОБЕР ДЕ ЛА МОННЕРИ
Холостяк, с трудом перенесший свою отставку; вскоре у него началось воспаление предстательной железы; онпротянул еще чуть более двух лет и в начале 1924 годаскончался от приступа уремии. Ему было шестьдесят семь лет.
ЛЮСЬЕН МОБЛАН
В семье прозванный Люлю, неудачный плод запоздалого брака маркизы де Ла Моннери-матери и банкира Бернара Моблана; соответственно, единоутробный брат Урбена, Жана, Жерара и Робера де Ла Моннери, во все времена считавшийся позором рода. Первый муж баронессы, супруги Ноэля Шудлера, но брак их был почти незамедлительно расторгнут Римской курией. Большой оригинал, игрок, дебошир, импотент, отказывавшийся, однако, признаться в этом, Люлю Моблан ненавидел Шудлеров и сыграл важную роль в биржевой афере, послужившей причиной самоубийства Франсуа. В последние годы жизни Моблан в свою очередь испытал гнет ненависти Ноэля, который сумел с помощью семейного совета лишить врага права на свободное распоряжение имуществом и заставил признать себя его опекуном.
В конце концов всеми покинутый, преследуемый Ноэлем Шудлером, узнавший правду о рождении близнецов, Люлю Моблан потерял рассудок, был подобран в буйном состоянии на шоссе и угас, связанный смирительной рубашкой, в обычном сумасшедшем доме весной 1924 года. Ему был всего шестьдесят один год, и он оставил после себя значительное состояние.
За его гробом шла лишь госпожа Полан, давняя секретарша и доверенное лицо сначала Ла Моннери, а затем Шудлеров; она неизменно присутствовала при всех кончинах и похоронах в обоих семействах.
1Французская академия — объединение видных представителей национальной культуры, науки и политических деятелей Франции; основана в1635 г. Имеет постоянный состав — «40 бессмертных». Ее членами были Ришелье, Расин, Корнель, Д’Аламбер, Вольтер, Гюго, Франс. Основная задача —совершенствование французского языка, издание словаря французского языка.
Глава I
Охота слепца
1
На старике был длинный светло-желтый кафтан с черными, обшитыми золотом обшлагами и короткие черныевелюровые штаны. Его все еще красивые руки, худые, в коричневых пятнах, с темными, коротко остриженными ногтями, лежали на коленях покойно, как на подушке. На безымянном пальце левой руки виднелась широкая сердоликовая печатка.
Тлеющие в камине угли отбрасывали красноватые блики на камень, украшающий перстень, на отделку куртки, на раструбы высоких кожаных сапог, сморщенных на щиколотке.
Голова у старика, глубоко сидевшего в вольтеровском кресле, чуть клонилась вбок; на его почти лысой голове сзади еще сохранился венчик жестких седых волос, отвислый подбородок складками опускался на двойной бант пикейного галстука, заколотого булавкой с оленьим зубом.
Часы в комнате пробили шесть, затем раздалось еще два удара, послабее, отзвонивших половину.
«Значит, уже темно, — не выходя из полудремы, подумал маркиз де Ла Моннери. — Взяли они его или нет?..»
Он услышал, как треснуло полено и посыпались угли. Но не шевельнулся, зная, что перед каждым камином есть медный экран.
«Кстати, где я? — подумал маркиз. — В малой гостиной. Тогда какой здесь должен быть камин? С грифонами или с музами?»
Он поднялся, осторожно вытянув вверх руку, чтобы не стукнуться о мощный каменный карниз в стиле ренессанс, опоясывавший колпак над камином. Пальцы старика чуть заметно, судорожно шевелились и, добравшись до скульптур, нащупали крылья, бороздки, изображающие перья на лапках, заканчивающихся острыми когтями. Да, это был камин с грифонами, украшенный в нескольких местах большой буквой «М» — своего рода гербом Моглева, составленным из двух перекрещивающихся шпаг и увенчанным короной. Другой камин — с музами — находился в большой гостиной.
«Ну вот, — подумал маркиз, — я уже и не знаю, что у меня в доме».
Он снова нащупал подлокотник кресла и, вздохнув, опустился на сиденье.
Маркизу де Ла Моннери было восемьдесят четыре года. Несколько лет назад ему удалили катаракту с обоих глаз, но и это не спасло его от слепоты. Лишь в яркий солнечный день он еще мог с трудом разглядеть серый проем окна — словно простыню, висящую в черноте ночи; в иные вечера едва различимое свечение указывало ему, что зажгли лампы. Он жил словно в глубине огромной мертвой жемчужины.
Временами, когда между ним и лампой кто-нибудь проходил, он различал тень и думал: «Смотри-ка! Я все-таки что-то увидел». Но и эти последние проблески зрения ослабевали с каждой неделей. Маркиз знал, что вскоре слуги и родственники, которых он изредка встречал в коридорах замка, утратят даже те неясные, похожие на призраки, очертания, какие он еще различает, и Моглев станет для него лишь громадным склепом, населенным голосами.
Дверь отворилась — вошла Жаклин Шудлер в сопровождении высокого офицера спаги2.
— Это я, дядя Урбен, — громко сказала она, — я, Жаклин.
Всякий раз, когда она входила в комнату и обнаруживала старика вот так глубоко сидящим в кресле, она боялась, что он умер.
Маркиз выпрямился.
— Ну что, взяли? — спросил он.
— Понятия не имею, дядюшка, — ответила Жаклин, бросая на мраморную консоль треуголку и хлыст. — Я отстала от собак в болотах Волчьей ямы, а тут стало темнеть... Я прямо сама не своя от злости! К счастью, я встретила капитана Де Вооса, который потерялся, как и я. Это меня все-таки немного утешило, и мы вернулись вместе. Я предложила ему заехать к нам и подкрепиться.
Маленькая, очень тоненькая, с хрупкими запястьями и щиколотками, худенькой шеей, высокими дугообразными бровями, Жаклин была во всем черном. Юбка для верховой езды, забрызганная глиной, присобиралась на бедре, чтобы не стеснять движения.
Молодая женщина села в кресло, стоявшее по другую сторону камина, попудрилась и быстро пригладила гребнем волосы. Костюм никак не соответствовал столь хрупкой внешности.
— Кто-кто? Де Воос?.. Какой капитан Де Воос? Не знаю такого, — пробурчал маркиз.
— Ну как же, дядюшка, это гость Жилона. Его представляли вам сегодня утром, перед охотой. И он сейчас здесь, со мной, — поспешила уточнить Жаклин.
— А-а!.. Прекрасно, — отозвался маркиз.
— Я злоупотребляю вашим гостеприимством, месье, — сказал Де Воос.
Невольно он заговорил слишком громко, будто обращался к глухому, и услышал, как его собственный голос отразился от высоких кессонных потолков.
Маркиз приподнял веки, его белесые, лишенные хрусталиков жуткие зрачки повернулись в том направлении, откуда донесся голос офицера.
— И как тебе этот капитан, Жаклин? — спросил он.
Молодая женщина, слегка улыбнувшись смущенно, поглядела на высокого спаги и не нашла ничего лучшего, чем принять иронически-веселый тон.
— Ну что же, дядюшка, он очень высокий, — отвечала она. — Метр восемьдесят...
— Восемьдесят четыре, — уточнил Де Воос, показывая тем самым, что с удовольствием принимает игру.
— Он — шатен... погодите-ка, темный шатен или светлый? — продолжала она, делая вид, будто придирчиво разглядывает его. — Нет, темный шатен. На нем восхитительный красный доломан. И... вообще, он красив! Вот так!
— Благодарю, — поклонившись, сказал Де Воос.
— Сколько лет? — опять задал вопрос старик.
— Тридцать семь, месье, — ответил Де Воос. И, обернувшись к Жаклин, добавил: — Теперь вы знаете обо мне все.
На несколько мгновений наступила тишина. Жаклин нагнулась поворошить угли, и над черным бархатным воротником, над белым галстуком приоткрылась полоска хрупкой шеи и стал заметен золотистый, легкий, почти детский пушок волос на затылке.
— Ты собираешься за него замуж? — внезапно произнес слепец.
Жаклин резко выпрямилась.
— Дядюшка, я же вам сказала, — воскликнула она, рассмеявшись, — что еще сегодня утром, до охоты, я не была знакома с господином Де Воосом! — И добавила, почувствовав на себе пристальный взгляд капитана: — Имейте в виду, дядюшка непременно хочет выдать меня замуж. Этоу него прямо мания. Но не волнуйтесь: вы никакой опасности не подвергаетесь.
Не зная, как себя вести, Де Воос просто развел руками, показывая, что во всем — воля Провидения.
— Но ведь онадолжнавыйти замуж! Я знаю, что говорю! — вскричал маркиз, хлопнув по подлокотнику кресла.
— Оставьте, прошу вас, дядя Урбен! — потеряв терпение, обрезала его Жаклин. И, стремясь переменить тему, добавила: — Больше всего меня возмущает то, что Лавердюр настигнет оленя один.
— Сколько же мы сегодня отмахали? Я плохо знаю местность и не могу подсчитать, — заметил Де Воос. — Пятьдесят километров, пятьдесят пять?
— Ну что вы! Не больше сорока, — ответила Жаклин.
— Вы наверняка получите более точное представление о наших дорогах, месье, если окажете нам честь посетить Моглев еще раз, — сказал маркиз.
2 Вид легкой кавалерии во французских колониальных войсках в XIX–XX веках, действовавших в Северной Африке.
2
Жаклин и Де Воос заканчивали поданный им сытный полдник, когда вошел первый доезжачий.
Небольшого роста, коренастый, мускулистый, с легкойпроседью, с задубевшей от капризов погоды кожей, на редкость правильными и горделивыми чертами лица, живыми черными блестящими глазами, первый доезжачий уже начинал бороться с возрастом. Не сняв облепленных грязью сапог, раструбы которых доходили ему до середины бедра и скрывались под фалдами желтого кафтана, с охотничьим хлыстом на шее, охотничьим рогом на поясе, ножом на боку и держа в руке шапку, он стоял, выпрямившись перед маркизом.
— Ну что, Лавердюр? — спросил тот.
— Да то, господин маркиз, что ничего тут не понятно, —ответил доезжачий. — До чего я зол, и сказать не могу. Чертбы его подрал!
— Но-но, не ругайтесь, Лавердюр!
— Прошу прощения, господин маркиз и госпожа баронесса, — продолжал доезжачий, — но господин маркиз меня поймет... Мы гнали оленя ну уж никак не меньше получаса. В последний раз, как я его видел, у него уже язык вываливался. И вдруг ни с того ни с сего этот олень исчез, точно дьявол его куда скрыл. Господин маркиз согласится, что тут без колдовства не обошлось!
И он, горестно сморщившись, потер красную полоску на лбу — след, оставшийся от шапки.
— Хотите глоток вина, Лавердюр? — спросила Жаклин.
Ее вполне устраивало то, что и первый доезжачий потерял оленя.
— О! Госпожа баронесса слишком добра, — ответил доезжачий, по привычке взглянув на слепца.
— Да-да, конечно, выпейте, Лавердюр, — отозвался маркиз, словно почувствовав его взгляд. И, взяв со столика, стоявшего рядом, бронзовый колокольчик с деревянной ручкой — совсем как те, какими в колледжах возвещают конец перемены, — громко зазвонил.
Появился старик в ливрее из толстого сукна бутылочного цвета. Он шел шаркающей походкой, склонившись вперед, в чуть провисших между ногами брюках; из впалой груди доносилось хриплое дыхание, обычное у больных эмфиземой легких; трясущиеся отвислые щеки придавали ему сходство со старым быком.
— Господин маркиз звонил? — спросил он.
— Подайте мне охотничий ящик, — ответил слепой.
— Господин Лавердюр, не могли бы вы мне помочь? — обратился к доезжачему старик в зеленой ливрее.
— Ну конечно, господин Флоран, — ответил тот, ставя пустой бокал.
Двое слуг, властвовавшие десятки лет — один над домом, другой над псарней и конюшней, — всегда обращались друг к другу на «ты», но в присутствии хозяев держались несколько церемонно.
Де Воос увидел, как они подошли к странному предмету красного дерева, напоминавшему старинные столы для триктрака, но раза в три больше, и поставили его перед слепцом. Маркиз откашлялся, прочищая горло. Встал, отыскал в кармане, запрятанном в фалдах, носовой платок, сплюнул, тщательно вытер рот и снова сел. В своем обтягивающем торс кафтане он напоминал тех маршалов из рода Моглев, от которых происходил и чьи портреты с голубой лентой наискось, испещренные трещинками, слабо поблескивали на стенах, — вылитый старый маршал времен Семилетней войны, забывший надеть парик и отпустивший усы.
Лавердюр произнес:
— Госпожа баронесса разрешает? — и придвинул большую керосиновую лампу, вставленную в фарфоровую вазу. В Моглеве не было электричества.
«В сущности, каждая эпоха образует свой тип людей, — подумал Де Воос. Он вдруг увидел, насколько идеально лицо Жаклин вписывается в эпоху Людовика XVI. — Это и есть связь поколений...» И глаза его невольно снова отыскали на хрупкой шее тонкую линию позвонков.
Он вдруг заметил, что все в этой комнате — и хозяева, и слуги — одеты в необычное по форме или цвету платье. Сам он, несмотря на красный доломан и золоченые шпоры, заставлявшие людей оборачиваться на улице, чувствовал себя здесь единственным, кто был одет по современной моде. И хотя Де Воос не обладал чрезмерным воображением и не был подвержен мистике, ему показалось, что он попал в такое место, где время не властно, где люди не умирают, где гильотинированные сохраняют голову, и он бы не слишком удивился, если бы вдруг из-за деревянной панели вышел мушкетер в серой шляпе или фрейлина Екатерины Медичи.
«Но я-то что здесь делаю?» — подумал он.
Флоран снял крышку с таинственного столика. Внутри был большой, превосходно выполненный макет, в точности воспроизводивший местность вокруг замка Моглев.
В тот год, когда маркиз почувствовал, что безвозвратно погружается в темноту, он заказал себе эту дорогую и уникальную вещь. И хотя ее владельцу суждено было ослепнуть, мастер работал так старательно, что даже окрасил кобальтом русла ручьев, расцветил красным крыши в деревнях, выделил светлой зеленью рощицы среди изумрудных полей. Макет этот походил одновременно и на игрушку наследного принца, и на «походный ящик», которым пользуются для разработки учебных маневров в военных школах.
Маркиз вытянул руки — сердоликовая печатка блеснула в лучах лампы. Старые жилы напряглись. Короткие ногти принялись постукивать по макету. Наконец указательный палец правой руки остановился на небольшом кубике, ощетинившемся башенками.
— Вот замок, — промолвил маркиз.
Палец его медленно пересек парк, скользнул вдоль полоски — шоссе на Париж, — переполз через лес и замер на полянке.
— Так, теперь мы у Сгоревшего дуба, — продолжал он. — Дальше что, Лавердюр?
— Ну вот, согласно приказаниям господина маркиза, — начал доезжачий, — я принялся стучать по моей отметине ровно в одиннадцать часов. Олень тут же выскочил. И махнул через Новую просеку...
Указательный палец чуть переместился вправо.
— Через Новую просеку, — повторил слепец для себя.
— ...потом он побежал по аллее Дам — господин капитан как раз там и дал мне совет, и это мне очень помогло, — сказал Лавердюр, поворачиваясь к Де Воосу. — Сразу видно, что господин капитан привык с собаками охотиться, — добавил он, стремясь польстить. — Большущий олень с черными рогами, и отростков у него, по-моему, больше двенадцати. Я трублю сигнал...
— Какой капитан? — прервал его маркиз.
— Капитан Де Воос, который тут у нас в гостях, — вмешалась Жаклин.
— Так это все тот же? Хорошо, продолжайте, Лавердюр.
Лицо старика оживилось, кровь приливала к щекам, пробираясь между морщинами, мешками, рытвинами, коричневыми пятнами, синеватыми и кроваво-красными жилками; ноздри его подрагивали от ароматов, которые чувствовал только он, — запахов грибов, плесени, глины и лошадиного пота.
Урбен де Ла Моннери переживал один из тех редких часов — между наступлением осени и концом апреля. В это время он еще ощущал прелесть жизни. А потом наступали пустые месяцы, которые «дураки называют лучшим временем года». Тогда он дремал в глубине своей мертвой жемчужины, с нетерпением ожидая приближения октябрьской охоты... Если только...
Руки его снова двинулись вперед по маршруту, описанному доезжачим. Слепец не упускал ничего. Он выжимал до конца последний зимний плод, который ему оставила жизнь.
Он желал знать, какая собака снова взяла след на лугу за Нефосским лесом, и на сколько минут олень обогнал стаю, и видел ли Лавердюр его в прыжке, и разошлись ли к этому времени от усталости копыта животного.
Маркиз и в самом деле преследовал убегающего или петляющего оленя. При помощи ладоней и фаланг он властвовал над тысячами гектаров земли. Беспрестанно подергиваясь, его пальцы опускались в долины и перемахивали через холмы, передавая ему ощущение бархатистой почвы на зеленой просеке, комьев земли, летящих из-под копыт скачущих галопом лошадей, водяных брызг во время переправы через ручей. Он прислушивался к лаю своих собак; чуть приподнявшись в стременах, он хватал рог, чтобы протрубить сигнал — поднять оленя или перебраться в другой лес, и звуки трепетали за ним на ветру, как золоченые вымпелы... Ему стало слишком жарко и захотелось достать носовой платок, чтобы промокнуть шею.
Старик Флоран придумал себе работу, чтобы остаться в комнате: подбросил дров в камин, собрал оставшиеся с полдника тарелки, стараясь двигаться как можно тише и сдерживать хриплое дыхание. Он слушал доезжачего почти с такой же страстью.
Лавердюр рассказывал долго, так как охота была нелегкой.
— И вот, господин маркиз, — закончил он, приглаживая волосы на затылке, — тут-то я, видно, и допустил промашку, теперь я и сам понимаю. Вышел я, значит, снова на след оленя за Волчьей ямой, там, где я в последний раз заметил госпожу баронессу, а потом и все остальные господа отстали от собак, прямо надо признать. «Этого оленя, — подумал я, — мучит жажда, тут уж не ошибешься». А вода в тех местах, господин маркиз знает, да и сейчас может в этом убедиться, есть только в пруду Фонрель или в ручье, который в него впадает. Вот я и подумал: собаки мои устали, день клонится к вечеру, да и Жолибуа моего, — (так звали второго доезжачего), — я уже полчаса как не слышу, — взбрело ему, видно, что-то в голову, так вот, надо срезать вправо и накрыть оленя у пруда. А он-то как раз туда и не пришел.
— Ну значит, он удрал от вас, Лавердюр, — подытожил слепец.
— Вот именно, господин маркиз!
— Вы закончили охоту, как старик — глубокий старик, Лавердюр: занимались расчетами, а про лошадь забыли.
— Да, да, точно так.
Лавердюр кусал губы и мотал головой с огорченным видом, едва сдерживая гнев. Он-то знал, что действительно стал бояться глубоких высоких зарослей кустарника, потому и принял такое решение. Никогда в былые годы он не думал об усталости — он едва ее чувствовал.
Де Воос, возвышаясь над всеми в своем красном доломане, наблюдал со все возрастающей симпатией за этим умным, воспитанным, почтительным без угодливости — что так редко бывает — человеком, чья профессия заставляла его по прихоти слепца преследовать оленей и который страдал теперь, чувствуя подступающую немощь.
Де Воос начинал понимать, почему Жаклин на обратномпути сказала ему: «Лавердюр — незаурядный человек».
Руки старика застыли.
— Ну и конечно, господин маркиз может быть уверен, я обошел весь пруд, стучал всюду, поднялся вверх по ручью. А собаки привели меня вот сюда... господин маркиз позволит?..
Лавердюр деликатно взял своими жесткими красными пальцами указательный палец слепца и провел им до берега ручья.
— С какой стороны ветер? — осведомился старик.
— Точно с запада, господин маркиз.
Указательный палец переместился к востоку, поднялся по течению ручья к его устью и, добравшись до излучины, замер. На лице маркиза появилось выражение, какое бывает у колдуна, почувствовавшего вдруг, как дрогнула палка в его руке.
— Ваш олень здесь, Лавердюр, — заключил старик. — Он идет по воде, чтобы скрыть следы и чтобы ветер, который дует ему в спину, уносил его запах вперед, подальшеот собак. И вы сами знаете, Лавердюр, если уж олень послепяти часов гона войдет в воду, на берег он больше не выйдет, поэтому он может быть только здесь — лежит в зарослях тростника.
— Нет, господин маркиз, это невозможно: ручей перегорожен запрудой, и оленю там никак не пройти. Или ему нужно выходить на берег. А на откосах мои собаки ничего не нашли — тут уж только о колдовстве и остается думать.
— Вы можете болтать что угодно, Лавердюр. А я вам говорю, ваш олень здесь, — повторил старик. — Я в этом уверен! Еще при жизни моего отца, когда я был совсем мальчишкой, — а в те времена олени гораздо чаще заходили в Волчью яму, — я видел много раз, как их настигали именно в этом месте.
Лавердюр задумался и глубоко вздохнул.
— Конечно, так оно и есть, — промолвил он. — Если господин маркиз позволит, я сейчас перекушу, возьму несколько собак, из тех, которые поменьше устали, да на грузовике туда и съезжу. А не то получится, будто мы что-то упустили — потому и не взяли его.
Слепец откинулся на спинку кресла. И махнул рукой, чтобы охотничий ящик унесли.
Он устал — лицо его внезапно осунулось, и у Жаклин сжалось сердце.
Когда доезжачий вместе с дворецким вышли, слепец, чьи черты немного разгладились, спросил:
— А где Жилон?
— Я думаю, месье, — ответил Де Воос, — что он направился прямо в Монпрели, куда, впрочем, и я собираюсь вернуться.
— Ах, какая досада, — бросил маркиз. — Я не люблю, чтобы слуги затевали что-либо одни, без хозяев. Если бы я хоть видел ясно...
— Но я же, естественно, поеду с Лавердюром, дядюшка, — воскликнула Жаклин.
— Оставь, оставь, не говори глупостей. Ты устала.
— Я уже отдохнула, дядюшка, уверяю вас, и вполне могу продолжить охоту.
Она говорила правду. Надежда взять оленя влила в нее новые силы, и Де Воос с удивлением посмотрел на нее.
— Если хотите, у меня есть машина, — продолжил он. —Мне и самому довольно любопытно, чем все это кончится.
Жаклин не стала колебаться или из вежливости отказываться.
— О, это очень любезно с вашей стороны, — сказала она.
А воображение уже несло ее к излучине ручья.
— Так неужели ты туда поедешь? — спросил маркиз.
— Конечно, дядюшка, я же вам сказала!
От счастья лицо слепца разгладилось.
— Ну вот! Все же не обрекают они меня на смерть в одиночестве, — прошептал он.
3
Сквозь решетки, заменявшие в старом грузовичке двери,можно было видеть несколько больших собак, растревоженных и удивленных этим ночным путешествием; большой бежевый «вуазен», который вел Де Воос, ехал следом, и его включенные на полмощности фары зажигали в глазах собак странные золотые блики — словно микенские божества вдруг задвигались в глубинах храма.
Жаклин наконец удалось расшифровать имя владельца машины на небольшой серебряной пластинке, вставленной в медальку с изображением святого Кристофа.
Мадемуазель Сильвена Дюаль,драматическая актриса.33. Неаполитанская улица.
Это имя не соотносилось у Жаклин с каким-либо определенным воспоминанием, однако оно было ей знакомо и вызывало скорее неприятное чувство.
Она испытывала к Де Воосу все возраставший интерес, смешанный с недоверием.
Решительно, он был очень хорош собой. Полоска света, исходившего от доски с приборами, лентой обрамляла его подбородок. Жаклин почти бессознательно рассматривала волевой, чеканный профиль, абрис массивной нижней челюсти, — превосходство, уверенность в себе сквозили в каждой черте его лица, в посадке головы, в складках век, даже в самой мышечной ткани.
— У вас чудесная машина, — произнесла она.
— Да... машина одной моей подруги... она одолжила мнеее... — отозвался Де Воос. — А ваш дядюшка, значит, — продолжал он, меняя тему, — всякий раз, как идет охота, надевает соответствующий костюм и садится у камина?
— Да, и он никогда не позволяет себя раздеть, пока команда не вернется и доезжачий не доложит ему обо всем, —ответила Жаклин.
Де Воос на несколько мгновений умолк.
— Великое это счастье — до старости сохранить к чему-то страсть, — сказал он.
— А у вас тоже есть пристрастие, которое вы надеетесь сберечь? — спросила она.
Он не ответил. Не бросая руля, он снял с правой руки толстую перчатку из верблюжьей шерсти — рука оказалась довольно большой, гладкой и длинной, с прямо срезанными, ухоженными ногтями, пожалуй, слишком ухоженными для военного, — и, достав золотой портсигар, протянул его Жаклин. На мгновение взгляды их встретились. Глаза у высокого офицера были большие, рыжеватые, не столько сверкающие, сколько блестящие. Он улыбнулся. И Жаклин почувствовала некоторое смущение.
Она сидела, запахнувшись в широкое, подбитое мехом пальто. Ей было удобно на кожаных подушках сиденья, а Де Воос к тому же галантно накинул ей на колени свой бурнус.
«Почему меня не оставляет это... feeling3 в отношении его, — подумала Жаклин. — Он любезен, он услужлив, не пользуется тем, что мы одни, и не затевает идиотские ухаживания, хотя многие другие сочли бы это для себя обязательным...»
Может быть, из-за того, как лежала его рука на руле, или из-за толстой золотой цепочки на запястье, или из-за кепи, дерзко надвинутого на лоб, или из-за парада орденов, вероятно, заслуженных, но уж слишком многочисленных, слишком выставленных напоказ (розетки кавалера Почетного легиона и четырех пальмовых ветвей Военного креста было бы вполне достаточно, зачем носить все остальные?), или, может быть, из-за этой слишком роскошной машины, принадлежавшей не ему, у Жаклин возникало впечатление, что он человек не «высокой пробы» — не «вполне порядочный», как говорили в кругу Ла Моннери.
— Вы постоянно живете в Моглеве? — спросил он.
— Нет. Часть времени приходится проводить в Париже — дети там ходят в коллеж, а часть времени — здесь, — ответила Жаклин. — И потом, только в этом году... Только в этом сезоне после смерти мужа я снова стала охотиться.
Как и всякий раз, когда в памяти ее всплывало воспоминание о Франсуа Шудлере, со времени самоубийства которого прошло уже почти шесть лет, или когда кто-то говорил о нем при ней, Жаклин на миг уходила в себя, и брови ее поднимались еще выше.
— Вы понравились бы друг другу, я уверена, — добавила она. И тотчас с неудовольствием подумала, зачем ей понадобилось прибавлять эту фразу, не соответствовавшую в полной мере ее ощущению.
— Жилон мне много говорил о нем как о человеке и в самом деле необыкновенном, — заметил Де Воос.
Жаклин промолчала. Машины выехали на проселочную дорогу, где желтая земля была вся в рытвинах. Глаза собак по-прежнему светились за решеткой грузовика.
— Впрочем, — продолжал он, — уж слишком безрадостным было бы для женщины сидеть в этой громадной казарме целый год одной.
Жаклин смущала и в то же время неудержимо притягивала к Де Воосу та властность и легкость, с какими, казалось, он вторгался в чужую жизнь, вид его словно говорил: «Вот увидите, раз я здесь, все будет хорошо».
Да и Моглев он, оказавшись здесь впервые, фамильярно назвал «громадной казармой», как будто был уже тут своим. Именно так говорил о замке когда-то и Франсуа.
Жаклин подумала, что надо следить за собой в присутствии этого человека и не произносить слов, которые могут быть истолкованы превратно.
«Да и потом, все они так страстно хотят, чтобы я вышла замуж, — размышляла она. — Мать, что ни месяц, устраивает так называемые вечеринки, представляя мне кого-нибудь; свекор хочет выдать меня за Симона Лашома; дядя Урбен вбил было себе в голову, что лучшая кандидатура — милейший Жилон, а теперь просто решил сватать меня за первого встречного!.. Даже слуги, я чувствую, этим озабочены... Неужели всем им мешает, что я остаюсь вдовой!»
— Мы, безусловно, настигнем оленя, — проговорил в эту минуту Де Воос. — Ваш дядя совершенно прав. Олень идет вверх по ручью.
И это он произнес своим уверенным, не терпящим возражения тоном.
Машины доехали до конца дороги, и Лавердюр выпустил собак.
3 Ощущение (англ.).
4
Январь в том году выдался на редкость мягкий. Земля раскисла во время недавней оттепели, и небо чернело, словно крыша из сажи.
Лавердюр, шагая в сапогах прямо по воде и высоко подняв в руке зажженный толстый факел из соломы, поднимался по течению ручья. Карл Великий, служивший на псарне подросток, приютский ребенок, которому придумали такое необычное имя, чтобы к нему не пристало какого-нибудь прозвища («Если заслужит, — говорил Лавердюр, — я сам потом назову его Срезанная Ветвь»), полусонный, шел следом, неся факел из соломы и связку запасных пучков. Две самые храбрые собаки пробирались по воде за ними. Четверо других, в том числе и старый Валянсей, бежали по откосу.
Лавердюр без устали, гортанным голосом, понукал собак, отчаянно заставляя их искать след.
— О, гой, о, гой!
«Если только мы возьмем оленя, это, я уверена, станет важным предзнаменованием», — думала Жаклин, сама не понимая, что за смысл она вкладывает в эти слова. Несмотря на мех, ей было зябко, и время от времени она вздрагивала.
Четверть часа старательных поисков не дали никаких результатов. Вот и старый шлюз, о котором Лавердюр говорил маркизу, вырос перед ними, перегораживая русло ручья покрытыми склизким мхом досками, собирая на воде желтую пену и пузыри.
— Но должен же он был все-таки где-то пройти. Голову прямо сломать можно, — ворчал доезжачий.
Внезапно его осенила какая-то мысль, и он крикнул:
— Карл Великий! На-ка, подержи!
Он снял охотничий нож, пояс, кафтан и бросил их псарю.
— Что вы делаете, Лавердюр? — воскликнула Жаклин.
— Пусть госпожа баронесса не беспокоится, — ответил он.
И, встав на колено, склонился почти до самой воды; уцепившись одной рукой за трухлявую балку, а другой по-прежнему сжимая факел, старый доезжачий просунул тело в узкое отверстие шлюза, под его заслон, точно под нож гильотины.
«Но это же невозможно, просто немыслимо», — подумала Жаклин. И почти в то же мгновение Лавердюр буркнул:
— Ах ты, черт тебя раздери! Ну и дела! Вот уж наука! —И, резко выпрямившись, рявкнул: — Валянсей! Давай, давай, мой милый! Улюлю, улюлюлю! Карл Великий! Нечего спать, погоди, я тебя разбужу! А ну, кинь-ка мне этого пса в воду! Вот оно, улюлю-то! Вперед, ребятки!
Коренастый, приземистый старик в черном жилете с золотом, мечущийся над водоворотом в своих вымокших до нитки штанах, с зажатым в кулаке факелом, был счастлив, почти страшен и красив.
Он заметил вдавленные в мох, покрывавший нижнюю часть шлюза, две свежие борозды, оставленные оленьими рогами.
— Ах! Госпожа баронесса! — воскликнул он. — Никогда и в голову не придет, что олень, да тем более такой громадный, пролезет здесь. До чего ж хитер! Я аж ругнулся, пусть мадам меня простит, но, право слово, было отчего! Ату его, ребятки! Давай, красавцы вы мои!
— Браво, Лавердюр! Мы возьмем его! — вскричала Жаклин.
— Все может быть, госпожа баронесса, все может быть! Ату его!
Запах преследуемого, измученного оленя остался в бороздах на доске, ибо Валянсей дважды коротко подал голос. И пять остальных собак полувброд-полувплавь ринулись вслед за ним под заслон.
Лавердюр отошел от воды на откос и надел кафтан. Он схватил длинный шест и принялся бить им по воде, создавая как можно больше шума.
Внезапно у самой излучины, на которую указывал маркиз, все шесть собак залились лаем, и темный силуэт, шумно «плюхнув», скакнул вдоль ручья и выпрыгнул на берег.
— О, гой! О, гой! — завопила Жаклин.
— Я же говорил вам! — воскликнул Де Воос.
Жаклин обратила на него благодарный, полный доверия взгляд, будто это была его заслуга.
И они бросились бежать, подворачивая ноги, спотыкаясь об ивовые пеньки и комья стылой глины.
— С головы заходи, с головы! — кричал Лавердюр, распаляя собак.
Олень, хоть и окоченевший в холодной воде, успел все же немного восстановить силы. Он ускользнул из-под носа у собак, и его легко было снова потерять в темноте.
«Да, то, что мы нашли его и подняли, — уже прекрасно», — подумала Жаклин.
А олень несся прямо вперед, и его силуэт словно парил над землей. Однако вместо того, чтобы нырнуть в подлесок, он со всего маху врезался в дерево.
Послышался глухой удар. На какое-то мгновение олень замер, оглушенный; затем вновь устремился вперед, но на сей раз по кругу, то и дело, точно в припадке безумия, задевая обо что-то рогами, будто атакуя целую армию великанов; наконец он прислонился к дереву, задыхаясь, выставив голову навстречу собакам...
Подбежали люди с факелами. Старый олень гордо стоял, как бы опершись на черноту ночи; его темная шкура слиплась от воды, широкая грудь вздымалась от учащенного дыхания; он поводил громадными, выставленными вперед рогами и временами гневно потряхивал головой.
Шестерка псов, задрав морды, окружала его кольцом; собаки заливались гортанным диким лаем, какой появляется у них только в минуты гона.
— Но почему он натыкается на все деревья, Лавердюр? — спросила Жаклин.
— Ослеп он, госпожа баронесса, — ответил доезжачий, сдергивая шапку. — Да погодите, сейчас сами увидите!
Приблизившись к животному на безопасное расстояние, Лавердюр поводил перед ним факелом. Олень втянул носом дым, но не шевельнулся; его неподвижные стеклянные глаза по-прежнему были широко раскрыты и сверкали красным от пламени огнем.
— Случается так, госпожа баронесса, — сказал Лавердюр, — случается с загнанными оленями. Что-то у них там лопается в голове, и они потом ничего не видят. Этот олень и сам подох бы завтра или послезавтра... Точно, понимаю, странный случай вышел, прямо-таки забавный, — добавил он, догадываясь, о чем подумали разом Жаклин и Де Воос.
Он раздавил ногой огарок факела, достал охотничий нож и почтительно произнес:
— Не думаю, чтобы госпожа баронесса пожелала сама его отколоть...
Жаклин отрицательно помотала головой и взглянула на Де Вооса.
— Если только госпожа баронесса не пожелает оказать честь господину капитану, — после минутного колебания добавил Лавердюр.
Однако с незапамятных времен обычай — никто притом не уважал его больше, чем Лавердюр, — повелевал, чтобы животное убивал хозяин замка или же — в его отсутствие — доезжачий, но никогда не гость.
И все же исключительные обстоятельства этой необыкновенной охоты позволяли нарушить правило, а главное, ясно было, что между Жаклин и Де Воосом протянулась некая нить, о чем сами они пока не догадывались, но что побудило старого доезжачего действовать так, как если бы он желал создать ситуацию, одинаково лестную для обоих.
— Вы не возражаете... — промолвила Жаклин.
— Весьма охотно, — ответил Де Воос, схватив большой, длинный, как штык, нож.
А старый олень, пока шел этот обмен любезностями, чуял приближение смерти.
Де Воос сбросил бурнус на землю, чтобы не сковывал движения. Животное с выставленными вперед рогами было одного с ним роста, но к воодушевлению, какое испытывал Де Воос, примешивалось сознание того, что олень стари слеп, и офицер вдруг почувствовал, что ему было бы легче убить человека.
— Осторожней, господин капитан! Хоть олень и слепой,у него еще для защиты сил хватает, — предупредил Лавердюр. — Надо зайти сбоку и приставить лезвие вот сюда, к ямке возле плеча. — Большим пальцем он указал нужное место на собственном кафтане. — А после найти мякоть и надавить...
— Да, да, — пробормотал Де Воос.
— А ты, Карл Великий, зажги-ка еще факел да возьми шест, чтобы ударить его по рогам, если понадобится.
Собаки перестали лаять; они тоже выжидали, вздыбив шерсть и сверкая клыками.
Жаклин вспомнила Франсуа — как он, под улюлюканье соскочив с лошади, шел к оленю, совсем как сейчас Де Воос, и ее охватила та же смешанная с гордостью тревога.
Олень, почуяв приближение человека, еще ниже опустил ветвистые рога, резко выдохнул и весь подобрался, будто перед прыжком.
— Сбоку заходите, сбоку, господин капитан! — крикнул Лавердюр, тоже приближаясь к животному.
Раздался страшный вой. Олень выпрямился, подцепив отростками рогов какую-то извивавшуюся массу, и швырнул ее на землю.
— Ах, черт побери, сволочь ты этакая! — вскричал Лавердюр. — Поторопитесь, господин капитан!
На земле, суча ногами, с распоротым животом валялась собака.
Де Воос, кинувшись на оленя, вначале почувствовал подножом сопротивление кости, переместил острие и, налегая всем корпусом, нанес такой сильный удар, что едва не потерял равновесие — до того легко вошло лезвие по самую рукоятку. Он не ожидал, что у столь могучего животного окажется такая нежная плоть. Старый олень упал на колени, потом, слабо вскрикнув, завалился на правый бок, и кровь хлынула у него изо рта, стекая по языку.
Жаклин жадно глотнула воздух — последние несколько секунд она вообще не дышала.
— Мне очень жаль собаку. Я недостаточно быстро шел, да? — спросил Де Воос, сохраняя полнейшее хладнокровие, и отдал нож доезжачему.
— О нет, господин капитан! Это с кем хочешь может случиться, — ответил как-то слишком поспешно Лавердюр. — Наоборот, решительности господина капитана можно позавидовать.
Он снова стащил с головы шапку. Делал он это бессознательно, лишь только к нему обращались, — будь он на лошади или пешком, была бы рука свободная.
Он вытер нож о шерсть собаки, которая, лежа со вспоротым животом в луже крови, время от времени еще мелко подрагивала, легонько провел ей по спине массивным, набухшим от воды сапогом и произнес:
— Бедняга Артабан, смотри, пришла твоя очередь. Самым храбрым всегда и достается. Но в конце-то концов, лучше он, чем господин капитан, верно ведь?
Только тут он почувствовал, как въедается в кожу ледяная сырость. «Вот так и ревматизм заработаешь, если не еще что похуже, — подумал он. — Ох и разорется сейчас Леонтина, если я вернусь в таком виде». Внезапно настроение у него испортилось, но придраться было не к кому. «Может, если б я сам его отколол или если бы Карл Великий бросил в него шест... Вот... Вот... что значит...»
Старый Валянсей, оскалившись, стал осторожно подбираться к вывалившимся кишкам своего сородича.
— Назад! — крикнул Лавердюр, яростно отбросив пса в сторону. — Не дам я тебе им лакомиться.
Он достал из кармана другой нож, меньшего размера, со стопорным вырезом и тонким лезвием, и, подойдя к туше оленя, вспорол ее одним ударом от ребер до паха. Теплый острый запах дичины заполнил рощу.
В столь поздний час не могло быть и речи о том, чтобы устраивать церемонии, — важно было поскорее вознаградить собак.
— Улюлю, ребятки, улюлю! — крикнул Лавердюр, сопровождая свои слова широким жестом.
Пять псов с взъерошенными загривками кинулись на массу кишок, погрузились в них по самую грудь, клацая зубами и рыча.
Заслышав, как лакомятся другие, Артабан грустно открыл глаза — в них было желание присоединиться к пиру: последним усилием воли он попробовал подползти и тоже полакомиться своей долей добычи, но голова его снова упала на землю, и больше он не шевелился.
Остальные продолжали разгрызать хрящи, оспаривая друг у друга внутренности оленя, полные пахучих трав и секреций, выдирая длинные шелковистые кишки, вгрызаясь клыками в их опаловую, зеленоватую и рубиновую ткань.
Жаклин наблюдала спектакль во всех подробностях со смешанным чувством отвращения и вожделения.
— Это первый олень, которого вы откололи? — спросила она.
— Первый, — ответил Де Воос, улыбаясь.
Ни одна охота не давала еще Жаклин такого ощущения власти, как этот ночной гон и дикарское лакомство при свете соломенных факелов, — ощущение власти не только над тем, что можно купить, — над собаками и людьми, — но и над всем остальным — над небом, над долиной, над лесом, над вольным зверьем, его населяющим.
— Что это я говорил госпоже баронессе? Да, олень-то с четырнадцатью отростками, — констатировал Лавердюр, выражая на свой манер похожее чувство гордости. — Такого в наших краях не часто встретишь. Господин маркиз будет доволен.
За несколько минут собаки растащили, сожрали, проглотили гигантскую массу внутренностей, и громадный олень остался полый, как старый фрегат, сидящий на мели.
В руках маленького псаря угас последний факел.
Наутро, перед отъездом из Монпрели, где он ночевал у майора Жилона, Габриэль Де Воос получил правую ногу оленя с еще свежей мягкой кожей, надрезанной полосками, — ее привез Лавердюр в обычной рабочей одежде. Посылку сопровождала тисненая карточка баронессы Франсуа Шудлер, на обороте которой было несколько слов, набросанных мелким торопливым почерком: «От моего дяди. Вы вполне это заслужили! Приезжайте охотиться, когда захотите».
5
Задвижка засова на воротах уже не входила в скобу; ее заменила цепочка с большим висячим замком, которым по вечерам и запирали ворота. Двор был усеян старыми колесами от тачек, вышедшими из употребления садовыми инструментами, сельской утварью. Конюшня была пуста. Тонкая струйка мочи сочилась из стойла, где еще оставалась одна корова. За провисшей сеткой бродили куры, утопая в собственном помете.
Симон Лашом не приезжал в Мюро, когда умер его отец.
Последний раз он был здесь больше десяти лет назад, да и то проездом, на несколько часов, получив увольнительную в конце войны. Вид родимого дома, который всегда представал в его памяти убогим и презренным, неожиданно вызвал в нем прилив нежности, мимолетной, необъяснимой и глупой.
Все было разъедено, все проржавело, все сгнило от старости и дождей. Ставни слетели с петель, штукатурка большими кусками отстала от стен, обнажив старую дранку; крыши осели, и Симон шагал по осыпавшейся черепице, хрустевшей, точно сахар, у него под ногами.
Мамаша Лашом работала в саду, пригнувшись к земле. Сначала Симон увидел только огромный черный зад старухи.
— Мама, — окликнул он.
Мамаша Лашом обернулась, медленно, с трудом, выпрямилась и посмотрела на сына, шедшего к ней между двумя рядами засохших яблонь.
— Смотри-ка, это ты, — произнесла она, никак иначе не выказывая своего удивления. — Если б ты не сказал «мама», я бы тебя небось и не узнала. Гляди, и облысел уж совсем, и растолстел, и одет как барин.
Симон машинально провел рукой по оголенному лбу, где лишь посередине остался пучок коротких каштановых волос.
Мать и сын не расцеловались. Еще несколько мгновений они изучали друг друга, высматривая, какие изменения произошли в каждом.
Мамаша Лашом двигалась мало. Она являла собой все ту же бесформенную колышущуюся массу. Только правое веко у нее закрылось, толстое, как скорлупа грецкого ореха, и на щеках появились седые волоски, а между волосами на голове, забранными в пучок, широкими розовыми проплешинами светилась кожа.
— Раз уж ты себя побеспокоил, знать, большая у тебя нужда поговорить со мной, — вытерев руки о бока, наконец произнесла она. — Давай зайдем в дом.
Даже в старости она не согнулась и по-прежнему на полголовы возвышалась над сыном. Они шли бок о бок по заросшей травой дорожке, чувствуя себя совсем чужими, и все же было между ними какое-то сходство: у обоих на голове осталось совсем мало волос, у обоих тяжелая походка враскачку, оба несли в себе свои болезни, она — фиброму и водянку, затаившуюся под грязным передником, он — уже заметный животик сорокалетнего, слишком хорошо питающегося человека.
Симон оглядывал землю по обе стороны дорожки, наполовину перекопанную в залежь: первое волнение уже угасло в нем. Старуха шла, все укрепляясь в своем подозрении, не обращая, казалось, внимания ни на что. Перед порогом кухни она сбросила сабо.
В просторной темной комнате на Симона тотчас дохнуло запахом перебродившего вина, прокисшего молока, дыма и грязной воды после мойки посуды — запахом, который сопровождал его в детстве: так пахло от матери, так пахло все — предметы, ткани, продукты, воспоминания. Исчез только едкий запах пота, добавлявшийся раньше, когда был жив отец.
И Симон тотчас перевел взгляд на нишу между очагом и ларем для хлеба, зная, что увидит сейчас самое тягостное из всего, что мог предложить ему отчий дом.
Скорее скорчившись, чем сидя на стареньком, продавленном стульчике, брат Симона дул на крылья примитивной мельницы из двух насаженных крест-накрест на веточку бузины кусков картона.
— Пойди сюда, Луи, пойди поздоровайся, — сказала мамаша Лашом. — Давай не бойся, это Симон.
Существо, которое неуклюже поднялось с места, опираясь на ларь, было в коротких штанах и черном фартуке. Он двигался, как разлаженный автомат, выбрасывая вперед тщедушные ноги и вывернутые руки. Он был выше Симона. Кожа на его лице, на скрюченных кистях рук, на торчащих коленях была всюду холодного цвета зеленоватой бронзы; на яйцевидном лице, обрамленном двумя прядями, выбившимися из-под берета, не было ни единой морщинки. Отвислая губа блестела от слюны. Черные, бархатистые глубокие глаза чудовищно косили.
Идиот пробормотал: «...звуй», втянул слюну и, вернувшись в свой угол, взгромоздился на ларь и свесил ноги.
— Вот видишь, он молодцом. Он сейчас очень смирный, — сказала мамаша Лашом.
Симон взял стул, который оказался до того грязным, что он, по прежней крестьянской привычке, садясь, задрал полы пальто.
— Сколько же ему теперь лет? — спросил он.
— Ох, это трудно сосчитать, — ответила старуха. — Он на три года старше тебя. Выходит, ему сорок четыре.
Идиот, бросив мельницу на пол, взял школьную грифельную доску и принялся, скрипя карандашом, чертить какие-то непонятные знаки.
— Вообще-то, — сказала мамаша Лашом, — он ведь вроде тебя: если бы мог, он бы тоже хорошо учился.
Наступила пауза.
— Выпьешь немного? — снова заговорила она, направляясь к буфету за бутылкой.
Она предлагала ему выпить, точно постороннему, и, точно посторонний, он решил не отказываться от стаканчика обжигающей водки, чтобы не обидеть ее.
— Хороша, — промолвил он.
— Эту как раз и отец твой любил, — подхватила она. — Э-э! За каждым водится грешок. Теперь-то, когда его уже нет, меня это больше не мучает.
Она тоже наконец села и умолкла, разглядывая Симона из-под века, похожего на половинку грецкого ореха.
— Ты в прошлом месяце деньги получила? — спросил он, пытаясь завязать беседу.
Симон регулярно посылал матери перевод на триста франков, в которых она, впрочем, совершенно не нуждалась. Она с жадностью прятала эти три ежемесячно получаемых банкноты в старую коробку из-под печенья, где они и копились.
— Да-да, — ответила она. — Спасибо тебе. Ох! В этом мне на тебя жаловаться не приходится. Не то что раньше. Я как раз давеча говорила мамаше Федешьен: «Есть у меня чем гордиться. Есть у меня сын, он в нищете мать не оставит. Он благодарен за все, что для него сделали».
Только тут мамаша Лашом, казалось, почувствовала некоторое волнение от встречи с сыном. Белесая влага показалась из-под тяжелого века — она задрала юбку и, отыскав в кармане фиолетовой, задубевшей от жира нижней юбки носовой платок, вытерла глаза.
— Ну вот... все ж таки приехал... все ж таки приехал, — несколько раз повторила она, судорожно вздыхая.
— Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты, — проговорил Симон.
— Это что же, выходит, ты будешь депутатом? — спросила мамаша Лашом, перестав вытирать глаза.
— Возможно... надеюсь.
— Ну, раз надо, чтоб были они, дармоеды-то эти, так лучше уж ты будь, а не кто другой, который этим воспользуется.
Симон попытался ей объяснить, почему он выдвигает свою кандидатуру в родном департаменте и какие у него шансы. Он нашел простые слова, чтобы выразить то, что явилось следствием многолетнего упорного притворства, сотен деловых обедов, стольких нужных контактов и умелой лести, наконец, стольких утренних часов, проведенных с карандашом в руке над сетью поперечных линий и пунктиров, сероватых пятен и заштрихованных мест, составлявших карту выборной кампании во Франции.
Теперь все решено, все поставлено на место: у Симона есть поддержка, есть деньги, есть агенты, есть газеты.
Мамаша Лашом, вновь подозрительно насторожившись и приспустив веко, слушала, казалось, ничего не понимая. То, что ее сын стал таким важным человеком, что он ужинает с министрами и разными президентами, нисколько ее не трогало. Все это происходило в мире, беспредельно для нее далеком, как, скажем, Индия, и никакой рассказ не мог ей дать о нем представление. Она думала, что президент Республики по-прежнему Эмиль Любе.
— А ему что ж, выходит, не сын будет наследовать? — Потом вдруг, глядя на лацкан пальто Симона, она спросила: — А Почетный легион-то твой деньги приносит?
— Нет, — ответил Симон.
— Надо же, странно. Потому что у нового-то учителя — ты его не знаешь, — так вот, у него медаль, и он за нее получает.
Симон почувствовал, что теряет время зря. Дурачок с противным, бьющим по нервам скрипом по-прежнему водил грифелем по грифельной доске.
— Я тут снял дом в Жемоне, ты знаешь, дом Кардиналов, — проговорил Симон.
— Раз снял, значит он тебе по вкусу.
— Нет, дело не в этом, а в том, что мне это нужно.
— Ну, коли думать о деньгах — сколько тебе это будет стоить, — так лучше бы уж в новом расположиться, чем в этой-то развалине.
«Развалина», о которой говорила мамаша Лашом, находилась в нескольких километрах от ее дома, в соседнем кантоне. Ансамбль зданий состоял из большого квадратного дома с черепичной крышей, бывшего когда-то домом приходского священника, к которому в XVIII веке был пристроен превосходный жилой корпус из белого камня.Десять комнат. Аллея двухсотлетних лип и большой, спускающийся к реке луг, который зимой наполовину затопляло. Словом, дом этот, будь он расположен не в городке и не принадлежи он обычному пенсионеру, мог бы именоваться «маленьким замком».
Он был достаточно просторен, чтобы внушить почтение избирателям, но все же не настолько, чтобы казаться чрезмерно роскошным. А главное, он позволит забыть дом в Мюро.
— Я думаю, бессмысленно нам иметь два дома, — заговорил Симон. — Так что лучше будет, если ты поселишься со мной, а этот дом мы бы продали.
Мамаша Лашом слегка выпрямилась на стуле и пристально посмотрела на сына своими глазами без ресниц —один глаз у нее был круглый, как глаз ночной птицы, а другой почти закрыт.
— А-а! Вот, значит, для чего ты явился... — прошептала она. Помолчала минуту и медленно произнесла: — Нет. К чужим я не пойду.
— Но, мама, я ведь не чужой!
— Я знаю, что говорю. Во-первых, там будет твоя жена.
— Да нет же, мама. Ты ведь знаешь, мы с Ивонной уже много лет живем врозь. Мы и в Париже не живем вместе. Даже не встречаемся.
— А зачем же ты тогда, скажи на милость, на ней женился? — осведомилась старуха.
Симон пожал плечами и подумал: «Ну вот, опять все сначала».
— И потом, тут все мое, — продолжала она. — А тот дом — чужой, не поеду я туда.
Симон объяснил ей, что заключил арендный договор, предусматривающий продажу дома. И если выборы пройдут удачно, он купит его.
— А если тебя не выберут?
— Ну, тогда мы будем снимать его до...
Он чуть не сказал «до твоей смерти», но осекся, однако старуха поняла.
— Тогда почему ты не хочешь, чтобы я подохла здесь? —сказала она. — И кладбище тут рядом. Тебе не так долго осталось ждать, пока я туда отправлюсь. Да и потом, не люблю я Жемон... Нет, сынок, нет, — продолжала она, — такие старухи, как я, с места на место уже не переезжают. Да и потом, в доме Кардиналов много лестниц. А мне с моими венами не под силу по ним ходить. Вот, взгляни!
Она снова подняла юбку, затем нижнюю юбку, обнажив огромные ноги, покрытые такими буграми, что можно было подумать, будто она умудрилась засунуть под грубый черный чулок никак не меньше дюжины яиц.
— Бывает даже, они гноятся, — не без гордости объявила она. — Нет, дружок, нет, не следует старикам жить вместе с молодыми. Ты должен с разными людьми встречаться, а я тебе много чести не прибавлю.
«Но еще больше ты позоришь меня, находясь здесь», — подумал Симон.
В его распоряжении оставалось совсем немного времени, чтобы вжиться в новую роль — сыграть «выходца из народа, из семьи простых тружеников, достигшего всего исключительно благодаря личным достоинствам и прославившего свой родной департамент».
А для этого нужно было стереть воспоминания об отце-пьянице, поместить мать в достойную полубуржуазную обстановку, избавиться от брата-идиота.
Симон знал, что настоящее благополучного человека в глазах толпы важнее его прошлого и что удача заставляет забыть даже преступление. Немного ловкости в сочетании с уверенностью в себе — на собрании избирателей никто не крикнет ему из зала: «Небось ты не был такой гордый, когда отец твой валялся в луже», а вместо этого старики-крестьяне полушутливо-полурастроганно скажут: «Ах!Господин Лашом, знатный он был человек, отец-то ваш, шутник был; помнится, в базарные дни мы с ним, бывало, вместе душу отводили», — и сочтут за честь вспомнить об их давней дружбе.
А о калеке скажут, понизив голос: «Что ж, такое горе в каждой семье может случиться...» — потом и вообще перестанут вспоминать.
— Да и вообще, твоему бедному брату хорошо тут у нас.