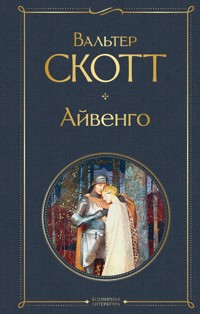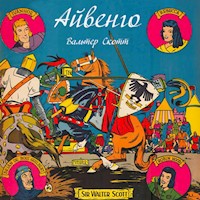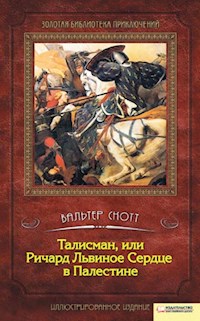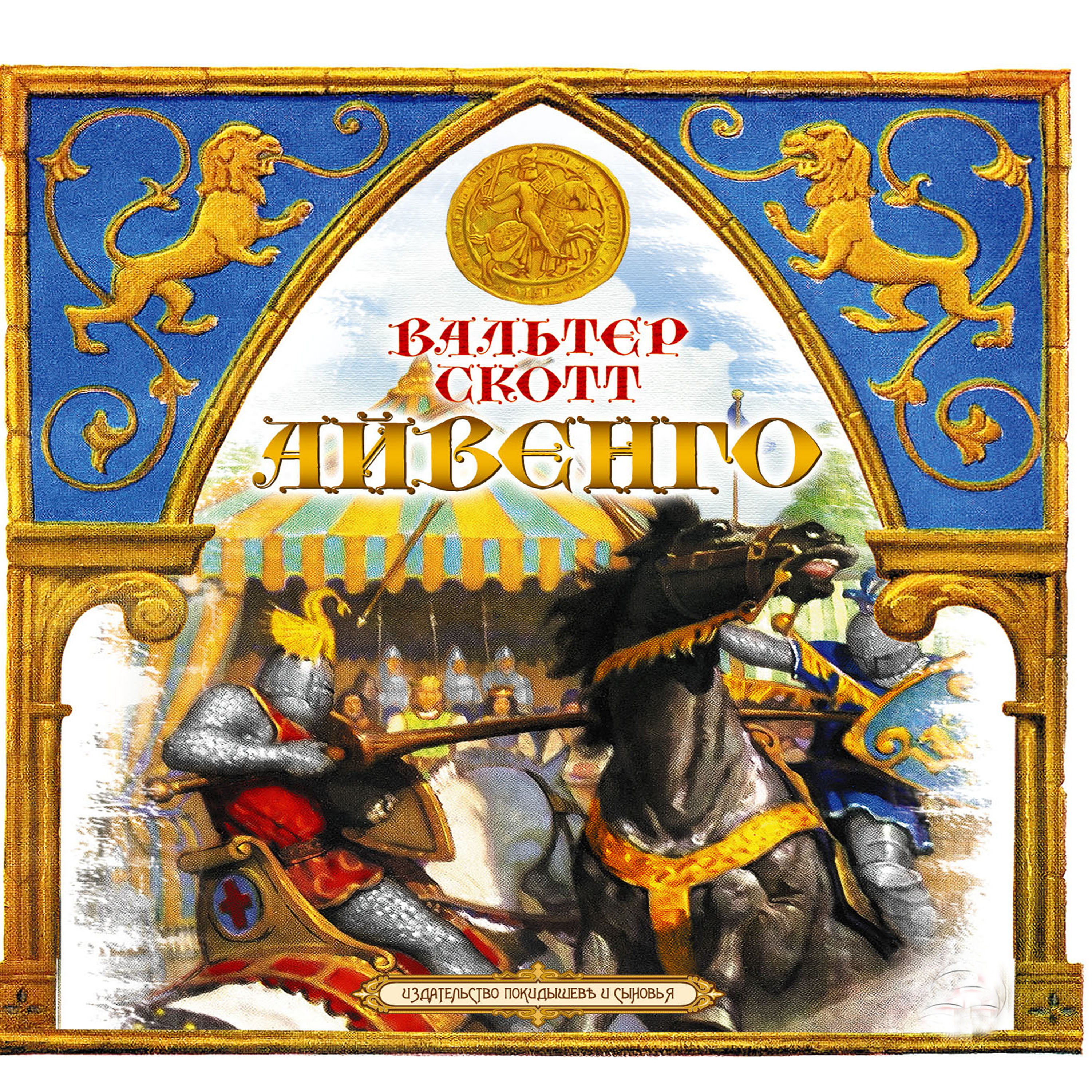0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771–1832) — британский писатель шотландского происхождения, историк, юрист, основоположник исторического романа в мировой литературе.*** «Ламмермурская невеста» — роман о девушке Люси Эштон, насильно выданной замуж за нелюбимого. Люси влюблена в представителя партии, враждебной убеждениям ее родителей. История основана на реальных событиях времен правления королевы Анны (1702–1714) и жестоких распрей в среде шотландской аристократии. Вальтер Скотт сумел возродить историческую память шотландского народа и явить ее миру. В числе самых известных романов и повестей — «Айвенго», «Роб Рой», «Карл Смелый», «Пертская красавица», «Разбойник».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Вальтер Скотт
Ламмермурская невеста
Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771–1832) — британский писатель шотландского происхождения, историк, юрист, основоположник исторического романа в мировой литературе.***
«Ламмермурская невеста» — роман о девушке Люси Эштон, насильно выданной замуж за нелюбимого. Люси влюблена в представителя партии, враждебной убеждениям ее родителей. История основана на реальных событиях времен правления королевы Анны (1702–1714) и жестоких распрей в среде шотландской аристократии.
Вальтер Скотт сумел возродить историческую память шотландского народа и явить ее миру. В числе самых известных романов и повестей — «Айвенго», «Роб Рой», «Карл Смелый», «Пертская красавица», «Разбойник».
Глава I
Тот бедняк, кто малеваньем
Добывает пропитанье,
Всем капризам и желаньям
Должен угождать
Старинная песня[1]
Мало кого посвятил я в свою тайну: мало кто знал о том, что я сочиняю повести, и, надо полагать, повести эти едва ли увидят свет при жизни их автора. Но если бы даже их напечатали, я не стал бы стремиться к известности, digito monstrari[2]. А если бы я все же лелеял такую опасную надежду, то, признаться, предпочел бы, подобно искусному кукольнику, разыгрывающему перед зрителями веселую историю Панча и супруги его Джоан[3], оставаться за ширмами и, невидимый, наслаждаться изумлением и сметливостью моей публики. Тогда, быть может, я услышал бы, как знатоки с похвалою отзываются о сочинениях никому неведомого Питера Петтисона[4], а люди чувствительные приходят от них в восторг; я узнал бы, что молодежь зачитывается моими повестями и что даже старики не обходят их своим вниманием; что критики спешат приписать их какому-нибудь прославленному имени, а в литературных кружках и салонах только и разговору, кто и когда сочинил эти повести. Но вряд ли мне суждено такое счастье при жизни, на большее же мне, безусловно, нечего рассчитывать.
Я слишком закоснел в своих привычках, слишком мало знаком со светским обхождением, чтобы притязать или надеяться на почести, воздаваемые моим знаменитым собратьям по перу. К тому же вряд ли я возвысился бы в собственном мнении, когда б меня сочли достойным занять на один сезон место среди знаменитых «львов» нашей великой столицы. Я не сумел бы вскакивать, поворачиваться к публике, выставляя напоказ все свои прелести, от косматой гривы до украшенного кисточкой хвоста, «рычать, что твой соловушка»[5], и снова опускаться на брюхо, как то подобает благовоспитанному питомцу балагана, — и все это за несчастную чашку кофе и жалкий ломтик хлеба с маслом, не толще облатки. Я не смог бы переварить грубую лесть, которую в таких случаях хозяйка дома расточает своему зверинцу, что она делает с таким же усердием, с каким пичкает леденцами попугаев, чтобы заставить их болтать при гостях. Я не смог бы ради подобного признания заставить себя ходить на задних лапах и, не будь у меня иного выбора, предпочел бы, как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова, нежели развлекать филистимлянских дам и вельмож[6], и не из-за какой-то там неприязни — подлинной или напускной — к нашей аристократии: они занимают в свете свое место, а я свое, и доведись нам столкнуться, как это случилось в старинной басне о чугунном и глиняном горшках, то худо пришлось бы мне. Иное дело эти страницы. Читая их с удовольствием, великие мира сего не возбудят в душе их автора пустых надежд, а выказав к ним пренебрежение или хулу, не причинят ему страданий, а между тем при личном общении с теми, кто трудится для его развлечения, вельможе редко удается избежать того или другого.
Лучше и мудрее меня эти чувства выражены в словах Овидия[7], которые я охотно предпослал бы этим страницам:
Parve, nес invideo, sine me, liber, ibis in urbern.[8]
Правда, прославленный изгнанник тут же опровергает эту мысль, но я не могу с ним согласиться и не разделяю его печали о том, что он не может собственной персоной сопровождать свою книгу на ярмарку, где торгуют литературой, роскошью и наслаждениями. И если бы даже не было известно множества подобных примеров, достаточно одной истории моего бедного друга и школьного товарища Дика Тинто, чтобы удержать меня от желания искать счастья в славе, выпадающей на долю тех, кто успешно трудится на ниве искусства.
Называя себя художником, Дик Тинто обычно не забывал упомянуть, что происходит от древнего рода Тинто из Ланаркшира, а при случае намекал, что в известной степени роняет свое достоинство, добывая средства к жизни карандашом и кистью. Но если только Дик ничего не напутал в своей родословной, то кой-кому из его предков доводилось падать еще ниже, ибо добрый его родитель был портным в селении Лангдирдуме, в западной части Англии, — занятие полезное и, несомненно, честное, но, уж конечно, не аристократическое. Дик родился под скромной кровлей портного и, вопреки собственному желанию, с детства был определен учиться этому скромному ремеслу. Однако старому Тинто не пришлось радоваться победе, одержанной над врожденными склонностями сына. Старик поступил как школьник, который пытается заткнуть пальцем фонтан: разъяренная воздвигнутой преградой, струя вырывается наружу и обдает беднягу с головы до ног тысячами брызг. То же произошло и с Тинто-старшим. Мало того, что его многообещающий сынок извел весь мел, упражняясь в рисовании на портняжном столе, он к тому же принялся малевать карикатуры на самых достойных заказчиков отца. Те возроптали и заявили, что не станут терпеть, чтобы отец превращал их в уродов, а сын делал из них посмешище. Видя, что ему грозят позор и разорение, старик портной покорился судьбе и, вняв мольбам Дика, разрешил ему попытать счастья на ином поприще, более соответствовавшем его наклонностям.
Как раз в ту пору проживал в Лангдирдуме некий странствующий служитель муз, занимавшийся своим искусством sub Jove frigido[9] и покоривший сердца всех местных мальчишек, в особенности же Дика Тинто. В те времена еще не вошло в обычай наводить на все экономию и, в числе прочих недостойных ограничений, заменять сухой надписью символическое изображение ремесла, преграждая тем самым художникам дорогу к доселе всегда открытому и доступному источнику совершенствования и доходов. Тогда еще не разрешалось писать на оштукатуренной притолоке у входа в трактир или на вывеске над дверью гостиницы: «Старая сорока» или «Голова сарацина», заменяя бесстрастными словами живой образ пернатой болтуньи или кривой оскал страшного турка в тюрбане. В те далекие и простые времена умели уважать нужды всех сословий и писали трактирные вывески — эти эмблемы веселья — с таким расчетом, чтобы они были понятны каждому, без различия положения и звания, не забывая, что иной бедняк, не умеющий сложить и двух слогов, может любить кружку доброго эля не меньше, чем его грамотеи соседи или даже сам пастор. Руководствуясь столь либеральными правилами, трактирщики заявляли о своем промысле красочными символами, и художники если и не жили в роскоши, то по крайней мере не умирали с голоду.
Итак, Дик Тинто поступил в учение к достойному представителю этой, как мы говорили, пришедшей в упадок профессии и, как это нередко случается со многими гениями в этой области, начал писать красками, еще не имея понятия о том, что такое рисунок.
Врожденная наблюдательность вскоре помогла ему избавиться от ошибок своего учителя и обходиться без его наставлений. Особенно хорошо Дик рисовал лошадей, которых так любили изображать на вывесках в шотландских деревнях; прослеживая путь молодого художника, отрадно видеть, как мало-помалу он научился укорачивать спины и удлинять ноги этим благородным животным, отчего они становились меньше похожими на крокодилов и больше — на самих себя. Клеветники, всегда готовые преследовать талант с рвением, пропорциональным его успехам, распустили слухи, что Дик однажды изобразил лошадь о пяти ногах вместо четырех. В его оправдание я мог бы сослаться на то, что художники пользуются свободой создавать любые, даже необычные и не правильные, сочетания, а поэтому нет ничего недозволенного в том, чтобы пририсовать излюбленному предмету изображения одну конечность сверх положенных. Но я свято чту память моего покойного друга, и мне не по душе столь малообоснованная защита.
Я видел вышеупомянутую вывеску, еще и поныне красующуюся в Лангдирдуме, и готов поклясться, что предмет, который по ошибке или по недоразумению был принят за пятую ногу, на самом деле есть не что иное, как хвост, и эта деталь, принимая во внимание позу, в которой изображено благородное парнокопытное, введена и выполнена с величайшим искусством и смелостью. Конь поднят на дыбы, и хвост, доходя до земли, словно образует point d'appui[10], придавая всей фигуре устойчивость треножника; не будь этого, осталось бы непонятным, каким образом всаднику удается удерживать лошадь в таком положении и при этом не перекувырнуться.
По счастью, дерзновенное творение попало в руки человека, сумевшего оценить его по достоинству, и, когда Дик, поднявшись на новую ступень совершенства, усомнился, прилично ли ему столь дерзко отступать от принятых в искусстве правил, и пожелал изъять это юношеское произведение, предложив взамен владельцу написать его портрет, рассудительный трактирщик отклонил это любезное предложение, заявив, что всякий раз, когда его эль не способен развеселить посетителей, им стоит взглянуть на вывеску, чтобы тотчас прийти в хорошее расположение духа.
Я не ставлю себе здесь целью проследить шаг за шагом, как Дик совершенствовал свое мастерство и с помощью правил умерял излишнюю пылкость воображения. Когда он увидел картины своего современника, шотландского Тенирса[11], как тогда заслуженно называли Уилки[12], с его глаз спала пелена. Он бросил кисть, взялся за мелки и, невзирая на голод и тяжкий труд, безвестность и неуверенность в завтрашнем дне, продолжал идти по избранному пути, постигая искусство живописи под руководством учителей, лучших, чем его первый наставник. Тем не менее первые неумелые опыты гениального художника (подобно детским стихам Попа[13], если бы их можно было разыскать) навсегда останутся дороги друзьям его юности. Так, над дверью маленькой харчевни, расположенной в глухом переулке в Гэндерклю, сохранились чан и рашпер, нарисованные Диком Тинто… Но я чувствую, что пора расстаться с этой темой, ибо я могу говорить о моем друге бесконечно.
Живя в нужде и ведя постоянную борьбу за существование, художник прибегнул к средству, обычному среди его собратьев по кисти: не будучи в силах обложить данью вкус и щедрость, он принялся взимать ее с людского тщеславия — одним словом, пустился писать портреты. И вот после того как многие годы мы ничего не знали друг о друге, в ту пору, когда Дик достиг уже значительных успехов и, высоко поднявшись над первоначальными своими опытами — трактирными вывесками, — не выносил даже намека на них, мы снова встретились в селении Гэндерклю, где я занимал нынешнюю свою должность, а Дик изготовлял копии с человеческих лиц, созданных всевышним по собственному образу и подобию, и брал по гинее за штуку. Это было, конечно, жалкое вознаграждение, но на первых порах его с избытком хватало, чтобы удовлетворить скромные потребности моего друга: Дик занял номер в гостинице «Уоллес» и, отпуская дерзкие шутки на счет ее обитателей, а порою не щадя даже самого хозяина, мирно жил, пользуясь уважением, равно как и услугами горничной, конюха и трактирного слуги.
Эти безмятежные дни были слишком хороши, чтобы длиться долго. Как только его милость лэрд Гэндерклю с супругою и тремя дочерьми, пастор, акцизный, мой достойный покровитель мистер Джедедия Клейшботэм[14] и несколько богатых арендаторов и фермеров обеспечили себе бессмертие с помощью кисти Тинто, заказы почти совсем прекратились; что же до крестьян, которых тщеславие изредка приводило в мастерскую художника, то из их мозолистых рук обычно не удавалось вырвать больше кроны.
И все же, хотя горизонт заволокло тучами, буря пока еще не разразилась. Владелец гостиницы обходился по-христиански с постояльцем, исправно вносившим плату, покуда водились деньги. Внезапное же появление в парадной зале семейного портрета во вкусе Рубенса, на котором сам хозяин красовался рядом с женой и дочерьми, свидетельствовало о том, что Дик нашел все же способ обменивать плоды искусства на необходимые средства к жизни.
Нет, однако, ничего ненадежнее источников такого рода. Теперь уже Дик, в свою очередь, сделался мишенью для насмешек хозяина, не смея при этом защищаться или платить ему тем же: мольберт был снесен на чердак, где его даже невозможно было поставить как следует, а сам Тинто перестал посещать еженедельные собрания в трактире, на которых прежде бывал душою общества.
В конце концов друзья Дика Тинто стали опасаться, как бы он не уподобился животному, известному под названием ленивец, которое, истребив начисто все листья на приютившем его дереве, сваливается на землю и подыхает от голода. Я даже взял на себя смелость намекнуть Дику на грозящую ему опасность, советуя покинуть гостеприимные пределы, истощенные им дотла, чтобы использовать бесценный свой талант в каком-нибудь другом месте.
— Существует одно обстоятельство, мешающее мне уехать отсюда, — печально сказал мой друг, пожимая мне руку.
— Неоплаченный счет? — спросил я с искренним участием. — Если мои скромные средства смогут выручить тебя из беды…
— Нет, нет, — поспешил прервать меня благородный юноша, — клянусь душою сэра Джошуа[15], я не стану перекладывать на плечи друга бремя собственных неудач. У меня есть средство возвратить себе свободу; лучше уж выбраться через сточную трубу, чем оставаться в тюрьме.
Я так и не понял, что имел в виду мой приятель.
Муза живописи, по-видимому, обманула его ожидания. Какую же другую богиню собирался он призвать себе на помощь? Это оставалось для меня тайной.
Мы расстались, так и не объяснившись друг с другом, и увиделись только три дня спустя на прощальной трапезе, которую хозяин устроил для Дика по случаю его отъезда в Эдинбург.
Я застал Тинто в превосходном расположении духа: он насвистывал, укладывая в котомку краски, кисти, палитру и чистую рубашку. Внизу, в зале, нас ожидали холодная говядина и две кружки отличного портера, из чего я заключил, что Дик уезжает, не нарушив доброго согласия с хозяином. Признаться, любопытство мое было сильно возбуждено, и мне не терпелось узнать, каким образом дела моего друга так внезапно поправились. Я не мог заподозрить Дика в сообщничестве с дьяволом и терялся в догадках.
Он заметил мое нетерпение и, взяв за руку, сказал:
— Друг мой, я охотно скрыл бы даже от тебя унижение, через которое мне пришлось пройти, чтобы иметь возможность пристойно распрощаться с Гэндерклю. Но к чему пытаться скрыть то, что все равно обнаружится само собой! Все селение, весь приход, весь свет скоро увидят, на что толкнула бедность Ричарда Тинто.
Внезапная догадка вдруг осенила меня — я заметил, что в это памятное утро хозяин разгуливал по гостинице в совершенно новых бархатных панталонах, сменивших старые, заношенные штаны.
— Как! Ты снизошел до отцовского ремесла! — воскликнул я и, сложив щепотью пальцы правой руки, быстро провел ею от бедра к плечу, словно делая наметку. — Ты взялся за иглу? Эх, Дик!
В ответ на это нелепое предположение Дик только нахмурился и фыркнул, что означало у него крайнее возмущение, а пройдя со мной в другую комнату, указал на прислоненное к стене изображение величественной головы сэра Уильяма Уоллеса[16], столь же страшной, как в тот момент, когда ее сняли с плеч по приказу вероломного Эдуарда. Картина была написана на толстой доске, увенчанной железной скобой, и, по-видимому, предназначалась в качестве вывески.
— Вот, друг мой, — сказал Тинто. — Вот слава Шотландии и мой позор. Или, вернее, позор тех, кто вместо того, чтобы поощрять художников, помогая им служить искусству, толкает их на подобные недостойные и низкие поделки.
Я старался успокоить моего обиженного и возмущенного друга. Я напомнил ему, что не следует уподобляться оленю из известной басни, презирая талант, который вывел его из затруднения, тогда как другие его высокие качества портретиста и пейзажиста оказались бессильны ему помочь Я особенно хвалил исполнение, равно как и замысел картины, уверяя, что он не только не покроет себя позором, представив на всеобщее обозрение столь совершенный образец таланта, но, напротив, приумножит свою славу.
— Ты прав, друг мой, ты бесконечно прав, — ответил Дик, обращая на меня восторженно горящий взгляд. — Зачем мне стыдиться звания… звания… (он искал нужное слово) уличного живописца. Разве Хогарт[17] не изобразил себя в таком виде на одной из лучших своих гравюр? Доменикино[18] или, возможно, кто-то другой — в былые времена, Морленд[19] — в наши дни не гнушались работать в этом жанре. Где это сказано, что только богатые и знатные должны наслаждаться произведениями искусства, тогда как они рассчитаны на все классы без изъятия. Статуи выставляют под открытым небом, так почему же, показывая свои шедевры, Живопись должна быть скареднее своей сестры Скульптуры? Однако, дорогой мой, нам пора прощаться! Сейчас придет плотник, чтобы повесить эту… эту эмблему, а, право, несмотря на все мои рассуждения и твои утешающие речи, я предпочел бы расстаться с Гэндерклю до того, как произойдет это событие.
Мы отведали угощения, предложенного нам добросердечным хозяином, и я пошел проводить Дика по дороге в Эдинбург. Мы простились в миле от селения в ту самую минуту, когда раздалось радостное «ура», — это мальчишки приветствовали водружение новой вывески с изображением головы Уоллеса. Дик Тинто прибавил шагу, чтобы скорее уйти подальше от веселых криков, — ни прежнее ремесло, ни недавние рассуждения не могли примирить его с ролью живописца, малюющего вывески.
В Эдинбурге талант Дика был замечен и оценен по заслугам. Несколько прославленных знатоков искусства удостоили его своими советами и приглашением на обед. Но господа эти оказались более щедрыми на советы, чем на деньги; по мнению же Дика, последние принесли бы ему больше пользы, нежели первые. Поэтому он избрал путь на Лондон, эту всемирную ярмарку талантов, где, однако же, всегда больше товару, чем покупателей.
Дик, за которым всерьез признавали недюжинные способности к живописи и чье самолюбие и сангвинический характер не позволяли ему усомниться в конечном успехе, ринулся в толпу тех, кто толкается и дерется из-за славы и чинов. Одних ему удавалось отпихнуть, другие отталкивали его. Наконец благодаря своему упорству он добился некоторой известности: писал картины на приз Общества[20], выставлялся в Соммерсет-хаузе[21] и осыпал проклятиями учредительный комитет, но так и не одержал победы на избранном поприще, на котором сражался с таким бесстрашием. В изящных искусствах не существует середины между блистательным успехом и полным провалом, а так как рвение и усердие не помогли Дику обеспечить себе славу, он подвергся всем тем несчастьям, кои выпадают на долю безвестности. Некоторое время ему покровительствовали два-три знатока, почитавшие за доблесть слыть оригиналами и во всем идти наперекор мнению света, но вскоре художник наскучил им, и они бросили его, как балованное дитя бросает игрушку. Тогда злосчастье привязалось к нему и уже не отпускало его, сведя преждевременно в могилу. Смерть избавила Тинто от мрачной конуры, где он жил на Суоллоу-стрит, преследуемый дома за долги хозяйкой и подстерегаемый на улице судебными приставами. «Морнинг пост» уделила его памяти четверть столбца, великодушно заявив, что в манере живописца угадывался немалый талант, хотя в картинах его не было законченности. Тут же сообщалось, что известный торговец гравюрами мистер Варниш, располагая несколькими рисунками и эскизами Ричарда Тинто, эсквайра, приглашает знатных господ и других джентльменов, желающих пополнить свои собрания современной живописи, незамедлительно ознакомиться с ними. Так кончил свою жизнь Дик Тинто: прискорбное доказательство той непреложной истины, что искусство не терпит посредственности и что тому, кто не может вскарабкаться на вершину лестницы, уж лучше не ставить ногу даже на первую ступеньку.
Мне дороги воспоминания о Тинто, особенно же о наших беседах, в которых мы чаще всего обращались к предметам моих настоящих занятий. Дик радовался моим успехам и предлагал выпустить роскошное иллюстрированное издание с заставками, виньетками и culs de lampe[22], выполненными его рукой, движимой дружескими чувствами к автору и любовью к родному краю. Он даже уговорил одного старого калеку, сержанта, позировать ему для Босуэла[23], сержанта лейб-гвардии Карла II[24], и стал писать гэндерклюского звонаря для портрета Дэвида Динса[25]. Однако, предлагая объединить наши усилия, Дик высказал мне множество замечаний, примешивая немалую дозу здравой критики к тем похвалам, которые мои сочинения нередко имели счастье снискать у читателя.
— Твои герои, любезный Петтисон, — говорил он, — слишком пустозвонят. Они слишком много трещат. (Изящные выражения, заимствованные Диком из лексикона странствующей труппы, для которой он писал декорации.) У тебя целые страницы заполнены болтовней и всякими диалогами.
— Один древний философ любил повторять: «Говори, дабы я мог познать тебя», — возразил я, — и, мне кажется, нет более верного и сильного средства представить действующих лиц читателю, чем диалог, в котором каждый герой раскрывает присущие ему черты.
— Совершенно несправедливая мысль! — воскликнул Тинто. — Она столь же ненавистна мне, как пустая фляга. Я допускаю, что разговоры имеют какую-то ценность при общении людей между собой, и вовсе не придерживаюсь теории пифагорейского пьяницы, утверждавшего, что болтать за бутылкой — только портить добрую беседу. Но я не могу согласиться с тем, что писатель, желая убедить публику в правдивости изображаемого им события, передает его с помощью диалога. Напротив, я убежден, что большинство твоих читателей — если повести эти когда-нибудь увидят свет — признает вместе со мной, что ты нередко заполняешь целую страницу разговорами в тех случаях, где хватило бы и двух слов; а между тем, изобразив точно и в должных красках позы, манеры и само событие, ты сохранил бы все ценное и избежал бы при этом бесконечных «он сказал», «она сказала», которыми пестрят твои произведения.
— Ты забываешь о различии, существующем между пером и кистью, — сказал я. — Живопись, это безмятежное и безмолвное искусство, как назвал ее один из лучших современных поэтов, по необходимости обращается к зрению, не располагая средствами взывать к слуху; поэзия же и все прочие родственные ей виды словесности вынуждены взывать к слуху, дабы вызвать интерес, который не могут пробудить с помощью зрения.
Мне не удалось поколебать мнение Тинто этими доводами, построенными, как он заявил, на ложной посылке.
— Для сочинителя романов, — заявил он, — описание — все равно что рисунок и колорит для живописца. Слова — те же краски, и если писатель употребляет их со знанием дела, то нет такой сцены, которой он не мог бы вызвать перед мысленным взором читателя с той же яркостью, с какой живописец представляет ее глазам зрителя на гравировальной доске или холсте. И тут и там одни и те же законы; чрезмерное же увлечение диалогом, этой многословной и утомительной формой, привело к смешению художественного повествования с драмой — совершенно иным видом литературного сочинения, в котором диалог действительно является основой, ибо, за исключением реплик, решительно все — костюмы, лица, движения актеров — обращено здесь к зрению. Нет ничего скучнее, чем длинный роман, написанный в форме драмы, — продолжал Дик, — и всякий раз, когда ты прерываешь повествование длинными разговорами, приближая его к этому жанру, оно становится холодным и неестественным; ты же утрачиваешь способность привлекать внимание читателя и возбуждать его воображение, что во всех иных случаях, мне кажется, тебе вполне удается.
Я поклонился в благодарность за комплимент, сказанный, очевидно, с единственной целью — позолотить пилюлю, и тотчас изъявил готовность написать — во всяком случае, попытаться — роман в стиле, более согласном с вышеозначенными правилами, где герои будут действовать больше, а говорить меньше, чем во всех предыдущих моих произведениях. Дик одобрительно кивнул и прибавил покровительственным тоном, что в награду за послушание подарит моей музе сюжет, которым в свое время заинтересовался, имея в виду собственное искусство.
— Если верить преданию, — сказал он, — эта история действительно имела место; однако с тех пор прошло уже более ста лет, и разумно усомниться в точности всех подробностей.
С этими словами Тинто полистал кипу набросков и извлек оттуда рисунок; это был эскиз, как он пояснил, к будущей картине, размером четырнадцать футов на восемь. Этот эскиз, выражаясь языком художников, весьма искусно выполненный, изображал старинный зал, отделанный и обставленный, как бы мы сказали нынче, во вкусе елизаветинской эпохи[26]. Свет, проникавший в комнату через верхнюю половину высокого окна, падал на молодую девушку необычайной красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, ожидая исхода спора между двумя другими лицами — молодым человеком в ван-дейковском костюме[27] времен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту и сходству черт, была ее матерью. Молодой человек с видом уязвленной гордости — о ней говорили его откинутая голова и вытянутая вперед рука — не столько просил, сколько требовал чего-то принадлежащего ему по праву у старшей женщины, которая слушала его с явным неудовольствием и нетерпением.
Тинто показал мне этот эскиз с видом тайного торжества: он смотрел на него с таким наслаждением, с каким любящий родитель взирает на многообещающего сына, предвкушая, какое высокое место займет его чадо в свете и как прославит оно имя отца. Сначала он подержал рисунок в вытянутой руке, затем поднес его ближе, поставил на ларец, закрыл нижние ставни, так как верхний свет казался ему более выгодным, отступил на несколько шагов (при этом он заставил меня отойти вместе с ним), заслонил ладонью глаза, словно желая сосредоточиться на любимом предмете и, наконец, испортив детскую тетрадку, скрутил из нее трубку на манер тех, какими пользуются любители живописи. Как видно, степень моего восторга не соответствовала его ожиданиям.
— Мистер Петтисон, — с живостью воскликнул он, — я всегда думал, что у тебя есть глаза!
На это я заявил, что природа не обошла меня, наделив зрением достаточно острым.
— Не нахожу, — сказал Дик. — Клянусь честью, ты, должно быть, родился слепым, если не сумел с первого взгляда понять сюжет и смысл этого эскиза.
Я не собираюсь хвалить свою работу, предоставляя это другим. Я вижу свои недостатки; рисунок и колорит, я сознаю это, еще далеки от совершенства, хотя надеюсь, что они станут лучше с годами, которые я намерен провести в занятиях живописью. Но композиция, позы, выражение лиц — разве они не рассказывают целую историю каждому, кто только глянет на этот эскиз. Если мне удастся написать мою картину, не обеднив первоначального замысла, имя Тинто уже не будет скрыто за туманом зависти и клеветы.
— Мне очень нравится твой эскиз, — заметил я, — но, не зная сюжета, я не могу оценить его в полной мере: я должен знать, о чем здесь идет речь.
— Вот это-то и сердит меня, — сказал Дик. — Ты так привык к этим медленно наслаивающимся, серым деталям, что утратил способность мгновенного и яркого восприятия; а только оно, словно молния озаряя разум, помогает нам при виде картины, выразительно и точно запечатлевшей какое-то мгновение из жизни героев, догадаться по их позам и лицам не только об их прошлом и настоящем, но и, приподняв завесу будущего, об уготованной им судьбе.
— В таком случае, — ответил я, — живопись превзошла обезьянку знаменитого Хинеса де Пасамонта: его зверек не пробовал совать свой нос дальше прошлого и настоящего…[28] Более того — живопись превосходит саму Природу, из которой черпает сюжеты, ибо смею тебя уверить, любезный Дик, что, получи я возможность заглянуть в этот елизаветинский зал и узреть воочию представленных тобою людей, я бы ни на йоту не продвинулся в понимании их истории и уразумел бы ее не больше, чем теперь, когда смотрю на твой эскиз. Правда, судя по томному взгляду юной особы и той тщательности, с какой ты выписал стройную ногу молодого человека, я могу предположить, что дело идет о любви.
— И ты воистину решаешься пойти на такое смелое предположение? — усмехнулся Дик. — А страстность, с какою этот пылающий гневом юноша отстаивает свои права, покорное, безмолвное отчаяние молодой женщины, мрачный вид старшей особы, чей взгляд хотя и говорит, что она чувствует себя не правой, вместе с тем выражает непоколебимую решимость не отступать от раз принятого пути…
— Если лицо этой леди выражает все эти чувства, любезный Тинто, — прервал я художника, — то твоя кисть перещеголяла драматический талант мистера Пуфа из «Критика»[29], который кратко передал сложнейшую фразу выразительным покачиванием головы лорда Берли.
— Любезный друг Питер, — ответил мне на это Тинто, — ты, как видно, неисправим; тем не менее я снисходительно отнесусь к твоей тупости и не стану лишать тебя удовольствия понять мою картину, а заодно и приобрести тему для твоего пера. Да будет тебе известно, что прошлым летом, когда я писал этюды в Восточном Лотиане и Берикшире, я не удержался от соблазна посетить Ламмермурские горы, где, по рассказам, сохранились некоторые памятники старины. Особенно большое впечатление произвели на меня развалины древнего замка, где некогда находился этот, как ты назвал его, елизаветинский зал.
Я остановился на несколько дней в соседнем селении, у женщины, превосходно знавшей историю замка и все происходившие там события. Одно из них показалось мне настолько интересным и необычайным, что мною овладело сразу два желания: написать древние развалины на фоне гор и запечатлеть поразившее меня событие, о котором поведала мне старая крестьянка, на большом историческом полотне. Вот мои записи. — И с этими словами Дик протянул мне сложенные в пачку листы, на которых среди карикатур и эскизов башен, мельниц, старинных фронтонов и голубятен виднелись строчки, набросанные то карандашом, то пером.
Я принялся, как умел, разбирать рукопись, стараясь добраться до сути, и, почерпнув из нее историю, которую нынче предлагаю моим читателям, попытался, следуя, хотя и не вполне, совету моего друга Тинто, облечь ее в повествовательную, а не в драматическую форму. Все же моя любовь к диалогу иногда брала верх, и тогда мои герои, как и множество им подобных в нашем болтливом мире, больше говорят, нежели действуют.
Глава II
Все ж, лорды, мы не завершили дела,
И недостаточно, что враг бежал.
Оправиться такой способен недруг.
«Генрих VI», ч. II[30]
В узком горном ущелье, что начинается от плодородной равнины Восточного Лотиана, возвышался некогда замок Рэвенсвуд, от которого ныне остались одни лишь развалины. Исконными его владельцами были могущественные и воинственные бароны, носившие то же имя, имя Рэвенсвудов. Они вели свою родословную с древнейших времен и находились в родственных связях с Дугласами, Юмами, Суинтонами, Геями и другими влиятельными и знатными родами Шотландии. История Рэвенсвудов тесно переплеталась с историей самой Шотландии — об их славных подвигах рассказано в ее летописях. Господствуя над горным проходом, соединявшем Лотиан с графством Берик или Мере, как называют юго-восточную провинцию Шотландии, замок Рэвенсвуд играл важную роль во время иноземных войн или междоусобных распрей; он не раз подвергался яростным атакам и с упорством выдерживал жестокие осады; естественно, что те, кому он принадлежал, занимали видное место в истории Шотландии. Но ничто не вечно в этом мире, и знаменитый род Рэвенсвудов испытал на себе превратности судьбы: во второй половине XVII века он пришел в упадок. Незадолго до революции[31] последний из владельцев Рэвенсвудского замка был вынужден расстаться с древней цитаделью своих предков и поселиться в уединенной башне на пустынном берегу бурного Северного моря, между мысом Сент-Эбс Хед и деревней Эймут. Вокруг его нового жилища простирались заброшенные пастбища, составлявшие ныне все его достояние.
Лорд Рэвенсвуд, наследник этого обнищавшего рода, не желал примириться со своим новым положением. В междоусобной войне 1689 года[32] он примкнул к побежденной стороне; его обвинили в государственной измене и хотя ему оставили жизнь и имущество, но лишили титула, так что лордом называли его теперь только из любезности.
Однако, утратив титул и состояние предков, Аллан Рэвенсвуд унаследовал их гордость и буйный нрав, а так как он считал виновником падения своего рода некоего сэра Уильяма Эштона, купившего замок Рэвенсвуд со всеми принадлежавшими к нему угодьями, которые теперь отошли от прежнего владельца, то и питал к нему лютую ненависть. Сэр Эштон происходил из рода менее древнего, чем лорд Рэвенсвуд, и приобрел богатство, равно как и политическое значение, во время междоусобной войны. Получив юридическое образование, он достиг высоких государственных должностей и слыл за человека, умеющего ловить рыбу в мутных водах государства, раздираемого борьбой партий и управляемого наместниками; действительно, в этой разоренной стране он необычайно искусно нажил огромное состояние и, зная цену богатству, а также различные способы приумножения его, ловко пользовался ими для увеличения своего могущества и влияния.
Одаренный подобными качествами и способностями, этот человек был опасным противником для неистового и безрассудного Рэвенсвуда. Имел ли Рэвенсвуд действительные основания для той ненависти, которую питал к новому хозяину своего родового замка, — это никому доподлинно не было известно.
Одни говорили, что эта вражда не имела другой причины, кроме мстительного и злобного характера лорда Рэвенсвуда, который не мог спокойно видеть земли и замок своих предков в чужих руках, хотя они и попали в них в результате честной и законной продажи; но большая часть соседей, всегда склонных льстить сильным мира сего в глаза и осуждать их за глаза, придерживалась иного мнения. Они говорили, что лорд-хранитель печати (ибо сэр Уильям Эштон достиг уже этой высокой должности) перед тем, как приобрести замок Рэвенсвуд, имел с его бывшим владельцем какие-то денежные дела; и тут же, как бы невзначай и отнюдь ничего не утверждая, спрашивали, которая же из двух тяжущихся сторон обладала большим преимуществом, чтобы решить в свою пользу денежные споры, возникшие в результате этих сложных дел: сэр Эштон, хладнокровный адвокат и искусный политик, или горячий, необузданный, опрометчивый Рэвенсвуд, которого тот вовлек во все эти тяжбы и ловко расставленные силки?
Положение общественных дел в Шотландии давало пищу для таких подозрений. «В те дни не было царя у Израиля»[33]. С той поры как Иаков VI покинул Шотландию, чтобы принять более богатую и более могущественную корону Англии[34], шотландская аристократия разделилась на враждебные партии, сменявшие друг друга у власти в зависимости от того, как им удавались их происки при Сент-Джеймском дворе[35].
Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян, арендующих земли в поместьях, владельцы которых не живут в Ирландии[36]. В стране не было верховной власти, общие интересы которой совпадали бы с интересами народа и к которой те, кого притесняли местные тираны, могли бы обращаться за милостью или правосудием. Каким бы бездеятельным или эгоистичным ни был монарх, как бы ни стремился он к самовластию, все же в свободной стране его собственные интересы так тесно переплетаются с интересами его подданных, а вредные последствия от злоупотреблений столь очевидны для него же самого, что здравый смысл побуждает его заботиться о равном для всех правосудии и упрочении престола на основах справедливости. Поэтому даже государи, прослывшие узурпаторами и тиранами, оказывались ревностными защитниками правосудия во всех случаях, не ущемлявших их собственных интересов и могущества.
Совсем иначе обстоит дело, когда верховная власть оказывается в руках предводителя одной из аристократических партий, состязающегося с вождем враждебной клики в погоне за славой. Он должен употребить свое непродолжительное и весьма шаткое правление на то, чтобы наградить приверженцев, упрочить свое влияние и расправиться с врагами. Даже Абу-Хасан[37], самый бескорыстный из всех наместников, во время своего однодневного халифатства не забыл послать домой тысячу золотых; шотландские же правители каждый раз, когда благодаря могуществу той или иной партии они захватывали власть, охотно прибегали к тому же средству, дабы вознаградить самих себя.
Особенно позорным пристрастием отличались суды.
Едва ли существовало хотя бы одно мало-мальски значительное дело, в котором судьи не проявляли бы самого откровенного лицеприятия. Они так мало способны были устоять перед искушением, что в те времена даже сложилась поговорка, столь же распространенная, сколь и постыдная: «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу соответствующий закон». Один вид подкупа вел к другому, еще более непристойному и гнусному. Судья, употреблявший свои священные обязанности сегодня для того, чтобы помочь приятелю, а завтра — чтобы погубить врага, руководствовавшийся при вынесении приговора родственными отношениями и политическими симпатиями, не мог не возбуждать подозрения в пристрастии, и потому естественно было предполагать, что кошелек богатого не раз перетягивал на свою сторону чащу весов правосудия. Мелкие слуги Фемиды брали взятки без зазрения совести. С целью повлиять на приговор судьям посылали серебряную утварь и мешки с деньгами; по словам одного современника, «пол судебной камеры был выложен взятками», и никто даже не думал это скрывать.
В подобных обстоятельствах имелись все основания считать, что сэр Уильям Эштон, государственный деятель, весьма опытный в вопросах судопроизводства, да к тому же еще влиятельный член победившей партии, сумел употребить свое положение, чтобы возобладать над менее искусным и удачливым противником. Но если даже предположить, что щепетильная совесть лорда-хранителя не позволила ему воспользоваться этими преимуществами, то можно не сомневаться, что леди Эштон всячески разжигала его честолюбие и стремление приумножить свои богатства, точно так же как некогда властолюбивая супруга поддерживала Макбета в его преступных замыслах.
Леди Эштон принадлежала к семейству более знатному, чем ее повелитель, — обстоятельство, которое она не преминула использовать как могла лучше, стремясь поддержать и увеличить влияние мужа на других и, как уверяли, хотя, возможно, и несправедливо, собственное влияние на него. В молодости она была красавицей, и ее осанка все еще поражала горделивым достоинством и величием. Природа одарила ее большими способностями и сильными страстями, а опыт научил пользоваться первыми и скрывать, если не сдерживать, последние. Она строго и непреклонно соблюдала все требования набожности, по крайней мере внешне, и радушно, даже с чрезмерной пышностью, принимала гостей; ее манеры, согласно обычаям того времени, были изысканны и величественны, как того требовали правила этикета; ее репутация была безупречна. Тем не менее, несмотря на все эти достоинства, способные внушить уважение, редко кто отзывался о леди Эштон с любовью или симпатией. Все ее поступки слишком явно диктовались соображениями выгоды — интересами ее семьи или личными ее интересами, — а показной добротой трудно обмануть проницательное, к тому же враждебно настроенное общество. А так как за всеми любезностями и комплиментами леди Эштон, словно ястреб, который, высоко кружась в воздухе, не теряет из виду намеченной жертвы, никогда не забывала о поставленной цели, то люди, равные ей по положению, относились к ее ласкам настороженно и подозрительно, а те, кто был ниже ее, кроме того испытывали перед нею еще и страх; это было ей на руку в том отношении, что заставляло всех незамедлительно исполнять ее желания и беспрекословно повиноваться ее приказаниям; но в то же время вредило ей, ибо подобные чувства не уживаются с любовью или уважением.
Поговаривали даже, что муж леди Эштон, столь многим обязанный талантам и ловкости своей супруги, смотрел на нее скорее с почтительным благоговением, нежели с нежной привязанностью; по мнению многих, у него не раз являлась мысль, что домашнее рабство, которым он заплатил за успех в свете, несоразмерно дорогая цена. Впрочем, все это были лишь пустые подозрения, с уверенностью же никто ничего не мог бы сказать, ибо леди Эштон дорожила честью мужа не менее, чем своей собственной, и, отлично понимая, как много он потеряет в глазах общества, если будет казаться, что он находится в подчинении у жены, при каждом удобном случае приводила его мнения как непогрешимые, постоянно ссылалась на его вкус и слушала его речи с тем уважением, с каким почтительная жена обязана внимать мужу, обладающему столь несравненными достоинствами и занимающему столь высокое положение в свете. Но во всем этом было что-то показное и фальшивое; и от тех, кто внимательно и, быть может, не без злорадства наблюдал за этой четой, не могло укрыться, что леди Эштон, отличаясь более твердым характером, более высоким происхождением и более неутолимой жаждой славы, относилась к мужу с некоторым презрением, тогда как он питал к ней скорее зависть и страх, нежели любовь и уважение.
Впрочем, в главном цели и желания сэра Уильяма Эштона и его супруги обычно совпадали, а потому они всегда действовали согласованно; внешне они всегда оказывали друг другу глубокое почтение, прекрасно зная, что без этого нельзя рассчитывать на уважение других.
Небо благословило их союз несколькими детьми, из которых в живых осталось только трое. Старший сын в то время путешествовал по континенту; дочь, которой недавно минуло семнадцать лет, и младший сын, тремя годами моложе сестры, жили с родителями в Эдинбурге во время сессии шотландского парламента и Тайного совета, остальные же месяцы семья проводила в готическом замке Рэвенсвуд, который сэр Уильям значительно расширил и изменил в стиле XVII столетия.
Аллан лорд Рэвенсвуд, прежний владелец этого древнего замка и прилежащих к нему обширных угодий, в течение нескольких лет тщетно пытался продолжить борьбу со своим преемником, цепляясь за различные спорные вопросы, возникшие в результате прежних запутанных тяжб; но все они один за другим были решены в пользу богатого и влиятельного лорда-хранителя печати. Смерть прекратила наконец их нескончаемые распри, призвав лорда Рэвенсвуда на высший суд. Нить его тревожной жизни внезапно прервалась во время припадка страшного, но бессильного гнева, вызванного известием о том, что еще один процесс, затеянный скорее ради отвлеченной справедливости, нежели ради дела, — последний процесс против могущественного врага — был им проигран. Молодой Рэвенсвуд присутствовал при последних минутах отца и слышал проклятия, которыми умирающий осыпал своего противника, как бы завещая сыну отплатить злом за зло. К несчастью, последующие события еще усилили в юноше жажду мести — чувство, которое в течение долгого времени оставалось одним из худших пороков шотландцев.
В раннее ноябрьское утро, когда скалы, нависшие над морем, были окутаны густым туманом, ворота в древней, полуразвалившейся башне, где лорд Рэвенсвуд провел последние тяжкие годы своей жизни, отворились и пропустили его бренные останки, направлявшиеся к жилищу еще более мрачному и уединенному. Пышность, которую в продолжение многих лет уже не знавал покойный, вновь окружила его перед тем, как он был предан забвению.
Многочисленные флаги с гербами и девизами старинного рода Рэвенсвудов и близких ему родов развевались над погребальным шествием, выходившим из-под низких сводов башенных ворот. Знатнейшие дворяне страны, облаченные в глубокий траур, ехали длинной кавалькадой, сдерживая поступь резвых коней. Трубы, украшенные черным крепом, издавали протяжные печальные звуки, и под эту грустную музыку провожавшие медленно двигались вперед. Многочисленная толпа менее знатных соседей и слуг замыкала шествие, и в то время как голова процессии достигла часовни, где предстояло покоиться телу Аллана Рэвенсвуда, последние ряды ее еще не вышли из ворот.
Вопреки обычаям и даже законам того времени, процессию ожидал священник шотландской епископальной церкви[38] в полном облачении, чтобы совершить отпевание по своим обрядам. Таково было желание покойного, высказанное им в последний год его жизни, и партия тори, или кавалеров[39], как им нравилось называть себя, к которой принадлежала большая часть родственников и друзей лорда Рэвенсвуда, сочла своим долгом непременно исполнить его волю.
Однако пресвитерианское духовенство, полагавшее, что исполнение этого желания явится дерзким вызовом могуществу их церкви, обратилось к лорду-хранителю с просьбой запретить предстоящую церемонию.
Поэтому не успел священник открыть молитвенник, как судебный пристав, в сопровождении нескольких вооруженных людей, приказал ему замолчать.
Это дерзкое оскорбление возбудило негодование всех присутствовавших и встретило немедленный отпор со стороны сына покойного, Эдгара, молодого человека лет двадцати, которого называли мастером Рэвенсвудом[40]. Эдгар схватился за шпагу и, угрожая приставу немедленной расправой, велел пастору продолжать. Пристав хотел было настоять на исполнении приказа, но несколько десятков мечей сверкнуло в воздухе, и ему ничего не оставалось, как, высказав свое возмущение примененным к нему, представителю закона, насилием, отойти в сторону и молча наблюдать за происходящей церемонией; однако мрачное лицо его ясно говорило: «Вы еще будете проклинать тот день, в который так обошлись со мной».
Эта сцена была достойна кисти художника. Под сводами чертога смерти перепуганный священник, дрожа за свою жизнь, торопливо и невнятно бормотал слова заупокойной молитвы над бездыханными останками разбитой гордости и поблекшего богатства, над перстью земной, обратившейся в земную персть. Кругом стояли родственники покойного; их лица были омрачены скорее гневом, нежели горем, и обнаженные их мечи странно противоречили их траурной одежде. Только в лице Эдгара негодование, казалось, уступало место глубокой скорби, — он смотрел на мертвые черты своего лучшего и, пожалуй, единственного друга, прах которого ожидала могила предков. По окончании погребального обряда он, как сын и наследник, должен был перенести останки в склеп. При виде гниющих гробов, покрытых лохмотьями бархата и почерневшей позолотой, среди которых отныне предстояло тлеть телу его отца, юноша побледнел как смерть. Один из родственников подошел к нему, предлагая свою помощь, но Эдгар знаком отказался от нее. Твердой рукой и без единой слезы он выполнил последний сыновний долг. На могилу водрузили камень, дверь усыпальницы заперли, и молодому человеку вручили массивный ключ.
Выйдя из часовни, Эдгар остановился на ступенях и, обращаясь к друзьям и родственникам, сказал:
— Джентльмены и друзья, вы отдали сегодня последний долг покойному не совсем обычным образом.
Если бы вы мужественно не встали на его защиту, вашему родственнику, принадлежавшему не к последним родам Шотландии, было бы отказано в обрядах, которыми в любой другой стране пользуются самые бедные крестьяне. Другие хоронят своих усопших в слезах и скорби, в почтительном молчании; но наши молитвы были прерваны приставами и насильниками; и наша скорбь — скорбь о почившем друге — уступает место чувству справедливого негодования. Но мне известен лук, из которого пущена эта стрела. Только тот, чья рука вырыла эту могилу, только он с подлой жестокостью мог нарушить обряд погребения. Будь я проклят, если не отомщу этому человеку и его семейству за наше разорение и за бесчестье, нанесенное нашему роду!
Большинство присутствовавших одобрило эту речь как красноречивое выражение справедливого гнева; но более осторожные и благоразумные пожалели, что молодой Рэвенсвуд высказался так резко. Положение Эдгара было слишком тяжким, чтобы возобновлять давнюю вражду, а столь открытое выражение негодования, казалось, неминуемо распалит ее вновь. События, однако ж, не оправдали этих опасений, по крайней мере в ближайшее время.
С похорон гости возвратились в башню, где, по обычаю, лишь недавно упраздненному в Шотландии, принялись пить и поминать покойного, оглашая дом скорби громкими криками и смехом. Они пировали, уничтожая обильное и богатое угощение, на которое были истрачены скудные доходы наследника того, чье погребение отмечалось столь странным образом.
Но таков был обычай, и его надлежало свято блюсти.
В залах, где угощалась знать, вино лилось рекой, в кухне и буфетной бражничали фермеры, простой народ гулял во дворе, и двухгодового оброка с небольшого поместья Рэвенсвуда едва хватило, чтобы покрыть расходы на погребальное пиршество. Вскоре все опьянели, кроме мастера Рэвенсвуда (как продолжали называть юношу, хотя отец его лишился принадлежавшего ему титула), и, пуская по кругу кубок, к которому сам он почти не прикасался, Эдгар выслушал тысячи проклятий лорду-хранителю печати и тысячи уверений в преданности себе и своему знатному роду. Мрачный и задумчивый, слушал он все эти излияния, справедливо считая их столь же преходящими, как пена в бокале вина или винные пары, туманившие головы пировавших вокруг него гостей.
Осушив последнюю флягу, гости распростились с новым владельцем башни, расточая пламенные уверения в дружбе — уверения, которые на следующий же день спешат забыть, если, более того, не считают нужным отречься от них для пущей безопасности.
Рэвенсвуд проводил гостей, с трудом сдерживая презрительную улыбку. Дождавшись наконец минуты, когда его старый дом избавился от множества шумных посетителей, он возвратился в зал, показавшийся ему особенно мрачным и безмолвным после недавнего шума и крика. Впрочем, зал этот вскоре наполнился видениями, вызванными его собственным воображением, — тут были попранная честь и развеянное достояние его рода, крушение его собственных надежд и торжество того, кто разорил его семью. Меланхолическому уму молодого Рэвенсвуда открылась обширная область для глубоких и печальных размышлений.
Местные жители, показывая ныне развалины башни на вершине утеса, омываемого морскими волнами и населенного лишь чайками да бакланами, уверяют, что именно в эту роковую ночь молодой Рэвенсвуд своими отчаянными сетованиями вызвал нечистого духа, пагубное влияние которого впоследствии сказалось на всей его жизни. Увы! Ни один адский дух не способен побудить нас к таким гибельным поступкам, как наши собственные неистовые, необузданные страсти.
Глава III
«Помилуй бог, — сказал король, —
Чтоб ты стрелял в меня».
«Уильям Белл, Клайм из Клю и др.»[41]
На следующее утро после похорон судебный пристав, власть которого оказалась недостаточной, чтобы запретить совершение погребальных обрядов над останками лорда Рэвенсвуда, поспешил доложить лорду-хранителю о сопротивлении, оказанном ему при исполнении служебных обязанностей.
Сэр Эштон принял его в библиотеке — просторной комнате, во времена Рэвенсвудов служившей банкетным залом; гербы этого древнего рода все еще украшали цветные стекла окон и резной потолок из испанского каштана. Проникавшие в комнату лучи освещали длинные ряды полок, гнувшихся под тяжестью огромных томов — монастырских хроник и сочинений ученых судей, составлявших в те времена основную и важнейшую часть библиотеки шотландского историка. На большом дубовом столе и на пюпитре разбросаны были письма, прошения, документы — главная отрада, равно как и мучение жизни сэра Уильяма Эштона. У него была внушительная, даже благородная осанка, вполне под стать человеку, занимавшему столь высокую должность в государстве; и лишь после долгого, обстоятельного разговора, касающегося срочного и неотложного дела, проситель мало-помалу начинал замечать, что лорд-хранитель избегает высказывать свое мнение решительно и определенно. Это происходило от присущей ему чрезмерной осторожности и нерешительности — черты характера, которые он тщательно скрывал, отчасти из гордости, отчасти по расчету.
Лорд-хранитель, казалось, очень спокойно выслушал сильно приукрашенный рассказ о беспорядках, происшедших на похоронах лорда Рэвенсвуда, и о том, с каким неуважением отнеслись к его приказаниям, отданным от имени церкви и государства; он, по-видимому, остался совершенно равнодушен, когда пристав довольно точно пересказал все гневные и бранные слова, произнесенные в его адрес молодым Рэвенсвудом и его приятелями; наконец, он с тем же невозмутимым спокойствием выслушал собранные приставом сведения — весьма искаженные и преувеличенные — о тостах, предложенных на погребальном пиршестве, и прозвучавших там угрозах. Однако он тщательно записал все подробности и имена тех, кого в случае надобности можно будет привлечь к делу в качестве свидетелей, и отпустил доносчика, убежденный в том, что теперь остатки достояния и даже личная свобода молодого Рэвенсвуда в его руках.
После того как пристав ушел, лорд-хранитель несколько минут сидел неподвижно, погрузившись в глубокое раздумье. Затем, поднявшись со стула, он принялся шагать по комнате с видом человека, обдумывающего важное решение.
— Ну, теперь уж молодой Рэвенсвуд попался! — рассуждал он сам с собой. — Да, попался! Он сам отдался мне в руки. Теперь ему остается или смириться, или погибнуть. Я не забыл, с каким неотступным и злобным упорством его отец боролся со мной во всех инстанциях шотландских судов, как он отказывался от всех миролюбивых предложений, навязывая мне новые тяжбы, и как пытался опорочить мое доброе имя, когда увидел, что права мои неоспоримы.
Этот мальчишка, его сын, этот Эдгар, этот вспыльчивый, безмозглый идиот, посадил свой корабль на мель, еще не выйдя в море. Что ж, остается позаботиться только о том, чтобы новая волна не помогла ему выплыть. Если полученное мною донесение представить Тайному совету в надлежащем виде, речи молодого Рэвенсвуда будут поняты там не иначе, как призыв к бунту против гражданских и духовных властей. Дело кончится большим штрафом, а то и приказом о заключении в Эдинбургскую или Блэкнесскую крепость; пожалуй, кой-какие слова и выражения этого молодчика пахнут государственной изменой. Но я не хочу заходить так далеко!.. Нет, этого я не сделаю. Я не стал бы лишать его жизни, будь это даже в моей власти. А впрочем, если этот Рэвенсвуд доживет до новых перемен, чего только нельзя от него ожидать: он постарается вернуть себе права и имение, возможно будет даже мстить мне. Насколько мне известно, Этон обещал поддержку старику Рэвенсвуду, и вот его сынок уже произносит крамольные речи и сколачивает вокруг себя сторонников. Каким удобным орудием он может оказаться в руках наших врагов, которые только и ждут нашего падения!
Поразмыслив над всеми этими обстоятельствами и убедив себя в том, что не только его собственные интересы и безопасность, но также интересы и безопасность его партии и приверженцев требуют от него дать ход попавшим к нему в руки уликам против Рэвенсвуда, хитрый политик сел за стол и принялся строчить докладную записку Тайному совету, подробно описывая беспорядки, имевшие место на похоронах лорда Рэвенсвуда. Лорд-хранитель превосходно знал, что даже имена участников этого происшествия, не говоря уже о самом факте, вызовут негодование его коллег, и они, по всей вероятности, пожелают примерно наказать молодого Рэвенсвуда, хотя бы in terrorem[42].
При всем том лорду-хранителю предстояло дело весьма щекотливое — ему нужно было составить свой доклад в таких выражениях, которые, не оставляя сомнения в виновности молодого человека, не звучали бы слишком определенно — в устах сэра Эштона, исконного врага отца Рэвенсвуда, это могло бы показаться проявлением личной злобы и ненависти. И вот как раз когда сэр Уильям трудился, подыскивая слова, достаточно веские, чтобы представить Рэвенсвуда зачинщиком происшедших волнений, и достаточно уклончивые, чтобы не выдвигать против него прямого обвинения, он на мгновение оторвался от бумаг и взгляд его упал на родовой герб семейства, против наследника которого он точил свои стрелы и расставлял тенета закона. Этот герб, вырезанный на одной из капителей, расположенных под сводом, представлял голову черного быка с девизом: «Я выжидаю свой час!», и мысли лорда-хранителя невольно обратились к событию, побудившему Рэвенсвудов принять этот странный девиз.
Существовало предание, что в тринадцатом веке могущественный враг лишил Мэлизиуса де Рэвенсвуда его владений и в течение некоторого времени безнаказанно наслаждался плодами одержанной победы. Однажды, когда в доме готовился праздник, не перестававший подстерегать удобный случай Мэлизиус проник в замок вместе с несколькими преданными друзьями. Гости с нетерпением ожидали начала пира, но, когда хозяин кичливо приказал внести блюда, Рэвенсвуд, переодетый лакеем, ответил грозным голосом: «Я выжидаю свой час!» — и в тот же миг на столе появилась бычья голова — древний символ смерти. По этому сигналу заговорщики набросились на узурпатора и его приверженцев и перебили всех до единого.
Вероятно, воспоминание об этой истории, охотно и часто передаваемой из уст в уста, неприятно поразило чувства и задело совесть лорда-хранителя, ибо, отстранив от себя бумагу с начатым докладом, он встал, собрал исписанные листы, тщательно уложил их в ящик бюро и, заперев его, вышел из комнаты, очевидно желая собраться с мыслями и взвесить все возможные последствия предпринимаемого им шага, прежде чем они станут неизбежными.
Проходя через большой готический зал, сэр Уильям Эштон услышал звуки лютни, на которой играла его дочь. Музыка, особенно когда не видно исполнителя, вызывает у нас удовольствие, смешанное с удивлением, и напоминает пение птиц, скрытых от взора пышной листвой. Хотя наш государственный муж не привык предаваться столь простым и естественным чувствам, он все же был человек и к тому же отец. Он остановился и стал слушать серебряный голосок Люси, исполнявшей под аккомпанемент лютни неизвестный ему романс, написанный на старинный народный мотив:
Не обращай к красотке взоров,
Держись вдали от бранных споров,
Не пей из чаши круговой,
Молчи пред внемлющей толпой,
Не слушай сладостного пенья,
Не ведай к золоту влеченья
И сердце наглухо запри —
Легко живи, легко умри.
Лорд-хранитель дослушал песню и вошел в комнату дочери.
Слова романса, казалось, как нельзя лучше подходили к Люси Эштон. Она была необычайно хороша собой, и ее по-детски милые черты выражали глубокое душевное спокойствие, безмятежность и полное равнодушие к суете светских удовольствий. Разделенные прямым пробором темно-золотистые волосы обрамляли чистый белый лоб, словно солнечные лучи, озаряющие снежную вершину; прелестное лицо отличалось удивительной нежностью, кротостью и чарующей женственностью; казалось, она скорее готова пугливо прятаться от посторонних взглядов, чем искать восторженного поклонения. Люси чем-то напоминала мадонну; возможно, это сходство объяснялось тем, что она была хрупкого сложения и окружена людьми, превосходившими ее твердостью характера, энергией и силой воли.
Недостаток живости, присущий Люси, происходил отнюдь не от безразличия или тем паче от бесчувственности. Она была предоставлена самой себе, а вкусы и склонности влекли ее ко всему романическому. Она любила старинные легенды, повествующие о пылкой преданности и вечной любви, о необычайных приключениях и сверхъестественных ужасах.
Она жила в этом сказочном мире, воздвигая воздушные замки и храня в глубокой тайне ключ от милого сердцу царства грез. Уединившись в своей комнате или в беседке — излюбленное место Люси, которое даже стали называть ее именем, — она предавалась мечтам: то она воображала себя королевой турнира, раздающей награды победителям, то дарила рыцарей воодушевляющим взглядом, то под защитой доброго льва блуждала вместе с Уной[43] по нехоженым тропам, то, представив себя на месте благородной Миранды[44], скиталась по острову чудесных превращений и колдовских чар.
Но в обыденной жизни Люси легко поддавалась влиянию окружающих. Чаще всего ей было совершенно безразлично, как поступить, и она, не противясь, охотно склонялась к решениям, подсказанным ей родней, возможно потому, что не имела собственных. Вероятно, каждому из наших читателей приходилось встречать в знакомых семьях подобное слабое, податливое существо, которое, находясь среди людей более твердых и энергичных, послушно следует чужой воле, словно уносимый бурным течением цветок.
Обычно такие кроткие, смиренные создания, безропотно ступающие по указанной им стезе, становятся любимцами тех, кому приносят в жертву собственные наклонности.
Так было и с Люси Эштон. Ее отец, осторожный политик и светский человек, питал к ней такую глубокую привязанность, что иногда даже сам удивлялся силе этого чувства. Старший брат Люси, отличавшийся еще большим честолюбием, чем отец, любил сестру всей душой. Забияка и кутила, капитан Шолто предпочитал общество сестры всем удовольствиям и воинским почестям. Младший брат, находившийся в том возрасте, когда ум занят еще пустяками, поверял сестре все свои детские радости и опасения, рассказывал ей об охотничьих успехах, о неприятностях и спорах с наставниками и учителями. Люси терпеливо и даже сочувственно выслушивала его болтовню, как бы она ни была незначительна. Добрая сестра, она знала, что все эти мелочи волнуют и занимают мальчика, и этого было для нее достаточно, чтобы дарить его своим вниманием.
Из всей семьи только мать не разделяла общей любви к Люси. По мнению леди Эштон, недостаток твердости характера у дочери доказывал преобладание в ее жилах плебейской крови отца, и в насмешку она называла ее ламмермурской пастушкой. Хотя невозможно было относиться недоброжелательно к столь нежному и кроткому созданию, леди Эштон предпочитала Люси старшего сына, унаследовавшего всю надменность и честолюбие матери; чрезмерная мягкость дочери казалась ей признаком недостатка ума.
Пристрастие леди Эштон к старшему сыну имело еще и другую причину: вопреки обычаю знатных шотландских семейств, старшего сына нарекли именем деда по матери.
— Мой Шолто, — говорила она, — сохранит незапятнанной честь материнского рода, возвысит и прославит имя отца. Бедная Люси не рождена для двора или большого света. Надо выдать ее замуж за какого-нибудь лэрда, достаточно богатого, чтобы она могла жить с ним в довольстве, ни в чем не нуждаясь и ни о чем не тревожась, разве что о том, как бы муж не сломал себе шею, охотясь за лисицами. Но не деревенскими забавами возвысился наш дом и не ими можно укрепить и приумножить его славу. Сэр Эштон только недавно вступил в должность лорда-хранителя печати: мы должны занимать наше высокое положение так, словно привыкли к его величию; нам надлежит доказать, что мы достойны оказанной нам чести и способны поддержать и оправдать ее. Перед теми, кто веками стоит у кормила власти, люди склоняются из привычного и наследственного почтения; но нам они не станут кланяться, если мы сами не повергнем их ниц. Молодая девушка, которая годится разве что для пастушеской идиллии или монастыря, едва ли сумеет добиться почтения там, где надо его приобрести силой; и раз уж судьба не послала нам трех сыновей, она могла бы по крайней мере наделить Люси сильным характером и сделать ее достойной занять место сына. Право, я буду очень счастлива, когда мне удастся выдать ее замуж за такого человека, у которого энергии хватит на них двоих, или за такого же мямлю, как она сама.
Так рассуждала мать, для которой нравственные качества детей и будущее их счастье ничего не значили в сравнении с почестями и преходящей славой.
Но ее суждения о дочери, как это нередко случается с родителями, в особенности если они не в меру надменны и нетерпеливы, были совершенно ошибочны.
Под видимостью крайнего равнодушия в характере Люси таилось семя пламенных страстей, которое, подобно тыкве пророка, способно взрасти за одну ночь, поражая окружающих неистовой силой[45]. Если Люси казалась безразличной, то лишь потому, что пока еще ничто не пробудило чувств, дремавших в ее груди. Ее жизнь до этих пор текла спокойно и однообразно и, возможно, прошла бы счастливо, если бы это спокойное течение не напоминало собой поток, несущий свои воды к водопаду.
— Что же, Люси, — обратился к ней отец, входя в комнату, когда девушка кончила петь, — сочинитель этого романса учит тебя презирать свет, прежде чем ты узнала его. Не слишком ли это поспешно?
Впрочем, ты, быть может, говоришь так по примеру многих девушек, которые стараются выказывать равнодушие к удовольствиям жизни, пока какой-нибудь прекрасный рыцарь не убедит их в противном?
Люси вспыхнула и стала уверять, что пела романс, ничего не имея в виду; по желанию отца она немедленно положила лютню и встала, чтобы пойти с ним гулять.
Большой тенистый парк (мало чем отличавшийся от настоящего леса) расстилался по склонам горы, подымавшейся позади замка, который, как мы уже говорили, стоял в горном проходе, начинавшемся от равнины, и, казалось, затем и был воздвигнут в этом ущелье, чтобы охранять густые дубравы, видневшиеся вдали во всем великолепии своего пышного убора. К этим романтическим местам по широкой аллее, осененной раскидистыми вязами, сплетавшими ветви над их головами, теперь рука об руку направились отец и дочь. Сквозь деревья тут и там виднелись группы пасущихся ланей. Гуляя по парку и любуясь природой — сэр Уильям Эштон, несмотря на характер своих обычных занятий, умел ценить и понимать прекрасное, — они повстречали лесничего, иначе называвшегося хранителем парка. С арбалетом на плече, он направлялся в чащу леса на охоту; мальчик вел за ним собаку на сворке. — А! Норман, — сказал сэр Уильям в ответ на приветствие лесничего, — собираетесь попотчевать нас олениной?
— Точно так, ваша милость. Не угодно ли присутствовать при травле?
— Нет, нет, — ответил сэр Уильям, взглянув на дочь, побледневшую при одной мысли об истекающем кровью олене, хотя, если бы отец выразил желание сопровождать Нормана, она безропотно последовала бы за ним.
— Как жаль, — сказал лесничий, пожимая плечами, — что никто из господ не хочет даже взглянуть на охоту. Одна надежда, что капитан Шолто скоро возвратится, иначе хоть бросай все это дело. Конечно, мистер Генри рад бы оставаться в лесу с утра до ночи но его столько заставляют просиживать за этой дурацкой латынью, что он теперь совсем пропащий человек, и не выйдет из него настоящего мужчины.
Не так, говорят, было во времена покойного лорда Рэвенсвуда: тогда на травлю оленя сбегались и стар и мал, а когда нужно было прикончить зверя, охотничий нож подавали самому лорду, и уж меньше золотого он никогда не давал в награду. А Эдгар Рэвенсвуд — мастер Рэвенсвуд — так о нем прямо можно сказать, что со времени Тристрама[46] не было лучше охотника. Уж если он бьет, так без промаха. А у нас здесь совсем забросили охоту.
Болтовня лесничего пришлась лорду-хранителю не по вкусу. Он не мог не заметить, что его слуга почти открыто презирал его за равнодушие к охоте, любовь к которой в ту эпоху считалась врожденным и неотъемлемым свойством настоящего джентльмена. Но главный лесничий считается весьма важным человеком в замке и имеет право говорить, не стесняясь в выражениях, а потому сэр Уильям только улыбнулся в ответ, сказав, что сегодня ему предстоит дело поважнее охоты, и тут же, в виде поощрения, вынул кошелек и дал лесничему золотой. Норман принял деньги с таким видом, с каким прислуга в модной гостинице получает двойные чаевые от какого-нибудь деревенского простака, — он усмехнулся, и в его улыбке выразилось не столько удовольствие, сколько презрение к невежеству щедрого господина.
— Ваша милость не знает дела, — сказал он, — разве можно платить до того, как зверь убит? А ну как, получив награду, я промахнусь и не убью оленя?
— Пожалуй, вы едва ли поймете меня, — улыбнулся лорд-хранитель, — если я скажу вам о conditio indebiti[47].
— Нет, клянусь честью! Это, наверно, какое-нибудь судейское изречение. Только я скажу: с бедняком судиться… Вашей милости, конечно, известна эта пословица. Впрочем, я поступлю по справедливости, и если кремень не даст осечки, а порох не подведет, у вас будет славное жаркое! На грудине жиру не меньше чем в два пальца толщиной.
Норман хотел было удалиться, но сэр Уильям окликнул его и как бы невзначай спросил, действительно ли молодой Рэвенсвуд так храбр и такой хороший стрелок, как о нем говорят.
— Храбр ли он? — повторил Норман. — Уж за это я ручаюсь. Я был однажды на охоте со старым лордом в Тайнингеймском лесу. Туда съехалось тогда много господ. Мы травили оленя и, клянусь честью, сами оторопели, когда его увидели. Огромный матерый самец с новыми рогами в десять ветвей, а лбище — широкий, словно у быка. Он кинулся на старого лорда, и, пожалуй, пришлось бы королю назначать нового пэра, если бы Эдгар, — а ему тогда было всего шестнадцать лет, благослови его бог, — не бросился на зверя и не распорол ему брюхо охотничьим ножом.
— А что, он и стрелок такой же ловкий?
— Видите эту монету, которую я держу двумя пальцами? Так вот, он попадет в нее с восьмидесяти шагов, и я не побоюсь подержать ее для него. Чего же лучше? Глаз, рука, свинец и порох неспособны на большее.
— Конечно, этого совершенно достаточно. Но мы отвлекаем вас от дела, любезнейший Норман. Доброго пути, Норман, доброго пути!
Лесничий пошел своей дорогой, напевая вполголоса народную песенку, звуки которой мало-помалу замерли вдали:
К заутрене должен подняться монах,
Аббат же спит до утра,
Но иомен — чуть рог прозвучит, на ногах,
Пора, друзья, пора.
Немало косуль в Шервудском лесу,
В Билоне стада оленьи,
Но белая лань в рассветную рань
Бродит от них в отдаленьи.
— Мда, сказал лорд-хранитель, когда ветер перестал доносить до них звуки песенки. — Вероятно, этот Норман служил раньше Рэвенсвудам, что он их так расхваливает? Ты, должно быть, что-нибудь знаешь о нем, Люси? Ведь ты считаешь своим долгом интересоваться каждым, кто живет в замке и его окрестностях.
— О нет, отец, я совсем не такой уж хороший летописец, как вы полагаете. Но если я не ошибаюсь, Норман мальчиком служил в замке Рэвенсвуд, а потом уехал в Ледингтон, где вы его наняли. Если же вам нужны какие-либо сведения о Рэвенсвудах, то никто не знает о них больше, чем старая Элис.
— Помилуй, дитя мое! Что мне до них? Какое мне дело до их истории и доблестей?
— Право, не знаю, отец, но вы только что расспрашивали Нормана о молодом Рэвенсвуде.
— Пустое, дитя мое, пустое, — произнес лорд-хранитель, однако через минуту добавил: