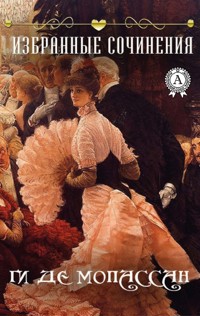Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
«Милый друг» — один из самых известных романов выдающегося французского писателя Ги де Мопассана (франц. Guy de Maupassant, 1850–1893). *** Красавец Жорж Дюруа едва сводит концы с концами в городе развлечений — Париже. Внезапно, однако, он замечает, что пользуется чрезвычайной популярностью у жен высокопоставленных чиновников. Не обладающий иными талантами, кроме искусства очаровывать сердца, Дюруа начинает восхождение по карьерной лестнице, обнаруживая удивительную беспринципность… Завершающие главы романа рисуют Жоржа Дюруа на ступенях церкви Магдалины, где он, наследник огромного состояния, созерцает расстилающийся внизу Париж. В число других произведений Ги де Мопассана входят романы «Жизнь», «Монт-Ориоль», «Пьер и Жан», «Наше сердце», «Огонь желания» и «Чуждая душа». Ги де Мопассан — король скрытого психологизма и безоценочного реализма. Его чистый, краткий и строгий стиль являет разительный контраст с творчеством Бальзака и Золя.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ги Де Мопассан
МИЛЫЙ ДРУГ
роман
«Милый друг» — один из самых известных романов выдающегося французского писателя Ги де Мопассана (франц. Guy de Maupassant, 1850–1893). ***
Красавец Жорж Дюруа едва сводит концы с концами в городе развлечений — Париже. Внезапно, однако, он замечает, что пользуется чрезвычайной популярностью у жен высокопоставленных чиновников. Не обладающий иными талантами, кроме искусства очаровывать сердца, Дюруа начинает восхождение по карьерной лестнице, обнаруживая удивительную беспринципность…
Завершающие главы романа рисуют Жоржа Дюруа на ступенях церкви Магдалины, где он, наследник огромного состояния, созерцает расстилающийся внизу Париж.
В число других произведений Ги де Мопассана входят романы «Жизнь», «Монт-Ориоль», «Пьер и Жан», «Наше сердце», «Огонь желания» и «Чуждая душа».
Ги де Мопассан — король скрытого психологизма и безоценочного реализма. Его чистый, краткий и строгий стиль являет разительный контраст с творчеством Бальзака и Золя.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Получив у кассирши сдачу с пяти франков, Жорж Дюруа вышел из ресторана.
Хорошо сложенный от природы, сохранивший еще свою военную выправку, он выставил грудь вперед, привычным молодцеватым жестом закрутил усы и окинул запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом — одним из тех взглядов красивого мужчины, которые охватывают все кругом, словно взгляд ястреба, высматривающего свою добычу.
Женщины подняли на него глаза: это были три скромные работницы, — учительница музыки, не первой молодости, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе и в сбившемся набок платье, и две мещанки со своими мужьями, — обычные посетители этого ресторанчика с дешевыми обедами.
Очутившись на тротуаре, Дюруа на секунду остановился, обдумывая, что ему предпринять. Было 28 июня, а в кармане у него осталось ровно три франка и сорок сантимов до конца месяца. Это означало два обеда без завтрака или два завтрака без обедов, на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит один франк десять сантимов, а обед полтора франка; таким образом, довольствуясь завтраками, он сбережет франк двадцать, что обеспечит ему два ужина из колбасы с хлебом да два бокала пива на бульваре. Эго было главным его расходом и главным вечерним развлечением. Он направился по улице Нотр-Дам-де-Лорет.
Он сохранил походку тех времен, когда еще носил гусарский мундир, — выпяченная грудь и слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади; он грубо проталкивался вперед по переполненной пародом улице, задевая плечом, толкая прохожих, никому не уступая дороги. Сдвинув немного набок свой поношенный котелок и постукивая каблуками, он шел с таким видом, словно презирал все, — прохожих, дома, весь город, — с высокомерием красивого солдата, попавшего в общество штатских.
Несмотря на свой шестидесятифранковый костюм, он сохранял отпечаток известного изящества, бесспорного, но кричащего и несколько вульгарного. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, со слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, торчащими над верхней губой, светло-голубыми глазами с очень маленьким зрачком, с вьющимися волосами, разделенными прямым пробором, он олицетворял собою героя бульварного романа.
Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. В городе было жарко, как в бане, и, казалось, он истекал потом в удушливом мраке ночи. Из гранитных пастей сточных труб вырывалось их отравленное дыхание, а из окон подвальных кухонь несся на улицу омерзительный запах прокисшего соуса и помоев.
Привратники, без пиджаков, сидя верхом на соломенных стульях, курили трубки под воротами домов; прохожие шли усталым шагом, с непокрытыми головами, держа шляпы в руках.
Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь в выборе дальнейшего пути. Ему хотелось дойти до Елисейских полей и Авеню Булонского леса, чтобы там, под деревьями, подышать немного свежим воздухом; и другое еще желание томило его — желание любовной встречи.
Каким образом она произойдет? Он не знал этого, но уже три месяца, как он ждал ее каждый день, каждый вечер. Правда, благодаря красивому лицу и изящной фигуре ему время от времени перепадало немножко любви, но он надеялся на большее и лучшее.
С пустыми карманами и кипящей кровью, он загорался от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших ему на углах: «Пойдем со мной, красавчик», но не решался идти за ними, не имея чем заплатить; и кроме того он ждал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных.
Тем не менее, он любил посещать места, кишащие публичными женщинами, — их балы, их кафе, их улицы; любил толкаться среди них, болтать с ними на «ты», вдыхать их крепкие духи, чувствовать их возле себя. Это все же были женщины, — женщины, которых можно любить. Он не испытывал к ним никакого презрения, свойственного семейным людям.
Он направился в сторону Мадлен[1] и отдался течению толпы, которая струилась изнемогая от жары. Большие кафе, переполненные людьми, захватывали часть тротуара, выставляя напоказ своих посетителей в ослепительном, режущем свете, льющемся из их озаренных витрин. Перед ними, на круглых или четырехугольных столиках, стояли стаканы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всех оттенков; внутри графинов блестели большие прозрачные куски льда цилиндрической Формы, охлаждавшие прекрасную чистую воду.
Дюруа замедлил шаг; от желания выпить что-нибудь у него пересохло в горле.
Жгучая жажда, жажда летнего вечера терзала его, и он живо представил себе восхитительное ощущение холодного напитка во рту. Но если он позволит себе два бокала сегодня вечером, тогда прощай скудный ужин завтрашнего дня; а ему были слишком хорошо знакомы голодные часы конца месяца.
Он сказал себе: «Нужно дождаться десяти часов и тогда выпить бокал в «Кафе Америкен». Черт возьми! Как, однако, хочется пить!» И он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и пивших, на всех этих людей, которые могли утолять жажду, сколько им было угодно. Он проходил мимо кафе с наглым и вызывающим видом и по выражению лиц, по костюму одним взглядом оценивал, сколько у каждого посетителя было при себе денег. Глухое раздражение поднималось в нем против всех этих спокойно сидящих господ. Если поискать, в их карманах найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем, у каждого должно было быть не меньше двух луидоров; в кафе было не меньше ста человек; сто раз по два луидора — это четыре тысячи франков! Он пробормотал: «Свиньи!», продолжая изящно покачиваться на ходу. Поймай он одного из них на улице, в темном закоулке, он, право же, без долгих размышлений свернул бы ему шею, как, бывало, делал это в деревнях с домашней птицей в дни больших маневров.
И ему вспомнились два года, проведенные в Африке, вспомнилось, как он грабил арабов на небольших южных стоянках. Жестокая и злая улыбка пробежала по его лицу при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни трем арабам из племени Улед-Алан и доставившей ему и его товарищам двадцать кур, двух баранов, золото и тему для шуток на полгода.
Виновных так и не нашли, да, впрочем, их и не искали, так как арабы считаются чем-то вроде естественной добычи солдата.
В Париже — не то. Здесь нельзя грабить открыто с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе. Он чувствовал в душе все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране. Право, теперь ему было жаль этих двух лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался! Но он надеялся на лучшее по возвращении. И вот!.. Да, нечего сказать, теперь лучше!
Он провел языком во рту, слегка прищелкивая, точно для того, чтобы удостовериться в сухости нёба.
Толпа двигалась вокруг, изнеможенная и усталая; он продолжал думать: «Скоты! У всех этих болванов есть деньги в кармане». Он толкал встречных плечом и насвистывал веселые песенки. Мужчины, которых он задевал, оборачивались, ворча; женщины говорили: «Вот нахал!»
Он миновал «Водевиль» и остановился против «кафе Америкен», спрашивая себя, не зайти ли выпить бокал, — до того мучила его жажда. Прежде чем решиться на это, он взглянул на часы с освещенным циферблатом посредине тротуара. Было четверть десятого. Он знал себя: как только бокал с пивом окажется перед ним, он проглотит его моментально. Что ему потом делать до одиннадцати часов?
«Дойду до церкви Мадлен, — сказал он себе, — и медленно пойду назад».
На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, лицо которого смутно показалось ему знакомым.
Он пошел за ним, роясь в своей памяти и повторяя вполголоса: «Где я, черт возьми, видел этого субъекта?»
Тщетно перебирал он свои воспоминания, потом вдруг, по странному капризу памяти, этот самый человек представился ему менее толстым, более молодым и одетым в гусарский мундир. Он вскричал: «Да ведь это Форестье!», прибавил шагу и хлопнул проходящего по плечу. Тот обернулся, посмотрел на него, потом сказал:
— Что вам угодно, сударь?
Дюруа засмеялся:
— Ты меня не узнаешь?
— Нет.
— Жорж Дюруа, шестого гусарского.
Форестье протянул ему обе руки.
— А, дружище! Как поживаешь?
— Отлично; а ты?
— Я — неважно. Представь себе, грудь у меня теперь стала словно из папье-маше; из двенадцати месяцев в году я шесть кашляю — последствия бронхита, который я схватил в Буживале, сразу по возвращении в Париж, уже четыре года тому назад.
— Что ты! Да ведь у тебя совсем здоровый вид.
Взяв под руку своего старого товарища, Форестье принялся рассказывать ему о своей болезни, о диагнозах и предписаниях врачей, о трудности следовать их указаниям в его положении. Ему предписано провести зиму на юге; но как это выполнить? Он женат, он журналист, имеет отличное положение.
— Я заведую отделом политики в «Vie Française». Пишу отчеты о заседаниях сената в «Salut» и время от времени даю литературную хронику в «Planète»[2]. Да, я вышел в люди.
Дюруа с удивлением посмотрел на него. Он очень изменился, возмужал. Теперь у него была манера себя держать, походка, костюм — как у человека солидного, уверенного в себе; брюшко человека, который плотно обедает. Прежде он был худым, тщедушным, гибким, легкомысленным, задорным, шумливым и всегда веселым. Париж в три года совершенно преобразил его: он потолстел, стал серьезным, волосы на висках начали седеть, — а ведь ему было не больше двадцати семи лет.
Форсстье спросил:
— Куда ты идешь?
Дюруа ответил:
— Никуда, просто гуляю перед тем, как вернуться домой.
— Так не проводишь ли ты меня в «Vіе Franсaise»? Мне нужно там просмотреть корректуру. А потом пойдем, выпьем вместе по бокалу пива.
— Идет.
И они пошли под руку, с той свободной непринужденностью, которая сохраняется у товарищей по школе и по полку.
— Что ты делаешь в Париже? — спросил Форестье.
Дюруа пожал плечами:
— Попросту околеваю с голоду. Когда окончился срок моей службы, мне захотелось вернуться сюда, чтобы… чтобы сделать карьеру, или, вернее, просто пожить в Париже; и вот уже полгода, как я служу в управлении Северных железных дорог и получаю всего на всего полторы тысячи франков в год.
Форестье пробормотал:
— Черт возьми, это не жирно.
— Я думаю. Но скажи, как могу я выбиться на дорогу? Я одинок, никого не знаю, не имею никакой протекции. Мне недостает средств, отнюдь не желания.
Приятель оглядел его с головы до ног оценивающим взглядом опытного человека. Затем произнес убежденным тоном:
— Видишь ли, мой милый, здесь все зависит от апломба. Человеку ловкому легче сделаться министром, чем столоначальником. Нужно уметь себя поставить, а не просить. Но неужели же, черт возьми, ты не смог найти ничего лучшего, чем место служащего на Северной дороге?
Дюруа ответил:
— Я искал всюду, по ничего не нашел. Сейчас у меня есть кое-что в виду, — мне предлагают место учителя верховой езды в манеже Пеллерена. Там я буду получать, по меньшей мере, три тысячи франков.
Форестье прервал его:
— Не делай этой глупости, если даже тебе дадут десять тысяч франков. Этим ты сразу себе отрежешь путь. В твоей канцелярии тебя, по крайней мере, никто не видит, никто не знает, ты можешь оттуда выбраться, если сумеешь, и еще сделать карьеру. Но если ты станешь учителем верховой езды — все кончено. Это все равно, что быть метрдотелем в доме, где обедает «весь Париж». Если ты будешь давать уроки верховой езды людям из общества или их сыновьям, они никогда уже не смогут отнестись к тебе, как к равному.
Он замолчал, подумал несколько секунд, потом спросил:
— У тебя есть диплом бакалавра?
— Нет, я срезался два раза.
— Это ничего, если ты все-таки окончил курс. Когда говорят о Цицероне или о Тиберии, ты приблизительно знаешь, о ком идет речь?
— Да, приблизительно.
— Отлично. Никто не знает больше, за исключением десятка-другого дураков, которые все равно далеко с этим не уйдут. Прослыть знающим совсем не трудно; все дело в том, чтобы не дать себя открыто уличить в невежестве. Нужно лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия, сажать других в лужу с помощью энциклопедического словаря. Все люди глупы, как гуси, и невежественны, как карпы.
Он говорил со спокойной насмешливостью человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на проходящих. Но вдруг он закашлялся и остановился, чтобы дать утихнуть приступу кашля, потом упавшим тоном сказал:
— Не безобразие ли это, что я никак не могу избавиться от своего бронхита? А ведь сейчас разгар лета! Нет! Этой зимой я поеду лечиться в Ментону. Будь что будет! Здоровье прежде всего.
Они дошли до бульвара Пуасоньер и остановились у большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Трое прохожих стояли и читали ее.
Над дверью огромными зазывающими огненными буквами, вырисованными газовыми лампочками, значилось: «La Vie Française». Фигуры прохожих, внезапно попадавших в полосу света, отбрасываемого этими ослепительными словами, вдруг вставали, яркие и четкие, точно при дневном свете, и тотчас же снова исчезали во мраке.
Форестье толкнул дверь:
— Входи, — сказал он.
Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, видной всем еще с улицы, очутился в передней, где два служащих поклонились его приятелю, потом остановился в комнате, служившей приемной, пыльной и замызганной, обитой вылинявшим зеленым трипом, который был покрыт пятнами и местами словно изъеден мышами.
— Присядь, — сказал Форестье, — я вернусь через пять минут.
И он исчез за одной из трех дверей, выходивших в эту комнату.
Какой-то странный, особенный, неуловимый запах, — запах редакции, — стоял здесь. Дюруа сидел неподвижно, чувствуя себя несколько смущенным, а еще более изумленным. От времени до времени мимо него пробегали из одной двери в другую люди с такой стремительностью, что он не успевал на них взглянуть.
Это были или молодые, очень молодые люди, проходившие с деловым видом, держа в руках лист бумаги, трепетавший от их быстрого бега; или наборщики, у которых из-под полинявшей блузы, выпачканной чернилами, выступал чистый белый воротничок и суконные брюки, как у людей из общества; они бережно несли кипы оттисков — свежие, еще сырые гранки.
Несколько раз появлялся какой-то человечек небольшого роста, одетый чересчур щеголевато, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур тесно обтягивающих ногу, в ботинках с чересчур острым носком — какой-нибудь репортер, доставлявший светскую вечернюю хронику.
Приходили еще другие люди, важные, сосредоточенные, носившие свои цилиндры с плоскими полями с таким видом, словно этот фасон должен был отличать их от всего остального человечества.
Форестье появился под руку с высоким худым господином, в возрасте от тридцати до сорока лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, с тонкими закрученными усами, с наглым и самодовольным видом.
Форестье сказал ему:
— До свиданья, дорогой мэтр[3].
Тот пожал ему руку:
— До свиданья, мой дорогой, — и, посвистывая, стал спускаться по лестнице с тросточкой подмышкой.
Дюруа спросил:
— Кто это?
— Жак Риваль, — знаешь, известный хроникер, дуэлист: он просматривал здесь свои корректуры. Гарен, Монтель и он — это три лучших хроникера Парижа по уменью писать на злободневные темы. Он получает тридцать тысяч франков в год, давая две статьи в неделю.
Выходя, они встретили низенького человечка с длинными волосами, неопрятного вида, толстого, который, отдуваясь, поднимался по лестнице.
Форестье низко поклонился:
— Норбер де Варенн, — сказал он, — поэт, автор «Угасших светил». Это тоже человек, который сейчас в цене. Каждый рассказик, который он нам дает, оплачивается тремястами франков, хотя в самом длинном из них никогда не бывает двухсот строк. Зайдем-ка в «Наполитен», — я умираю от жажды.
Как только они заняли места за столиком кафе, Форестье крикнул:
— Два бокала пива! — и проглотил свой залпом, между тем как Дюруа с наслаждением тянул пиво медленными глотками, смакуя его, точно редкий, драгоценный напиток.
Приятель его молчал, точно размышляя о чем-то, потом вдруг сказал:
— Почему бы тебе не попробовать свои силы в журналистике?
Дюруа посмотрел на него с удивлением, потом ответил:
— Но… ведь я никогда ничего не писал.
— Ба! Все пробуют, все начинают. Я мог бы тебя использовать: ты собирал бы для меня материал, делал визиты, исполнял поручения… Для начала ты будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю о тебе с издателем?
— Разумеется, хочу.
— В таком случае вот что: приходи ко мне завтра обедать; у меня соберется не более, чем пять-шесть человек, — мой патрон, господин Вальтер с женой, Жак Риваль, Норбер де Варенн, которых ты сейчас видел, и одна приятельница моей жены. Идет?
Покрасневший, смущенный, Дюруа медлил ответом. Наконец, он пробормотал:
— Дело в том… что у меня нет подходящего костюма.
Форестье изумился:
— У тебя нет фрака? Черт возьми! Эго же необходимейшая вещь! Знаешь, в Париже скорей можно обойтись без кровати, чем без фрака.
Потом вдруг, порывшись в кармане жилета, он вынул кучку золотых монет, взял два луидора, положил их перед своим старым товарищем и сказал с дружеской простотой:
— Ты мне вернешь это, когда сможешь. Возьми напрокат, или купи необходимое тебе платье в рассрочку, дав задаток; словом, устраивайся, как знаешь, но приходи ко мне обедать завтра, в половине восьмого, улица Фонтен, 17.
Дюруа, растроганный, спрятал деньги и пробормотал:
— Ты очень добр, я тебе крайне благодарен; будь уверен, что я не забуду…
Форестье прервал его:
— Довольно об этом. Выпьем еще по бокалу, хочешь?
И он крикнул:
— Гарсон[4], два бокала!
Когда бокалы были выпиты, журналист предложил:
— Хочешь побродить еще часок?
— Конечно, с удовольствием.
Они пошли по направлению к Мадлен.
— Что бы нам предпринять? — сказал Форестье. — Говорят, что в Париже для Фланера[5] всегда найдется развлечение; это неверно. Когда я гуляю вечером, я никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес стоит ехать только с женщиной, а женщины не всегда бывают под рукой; кафе-шантаны могут забавлять моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же делать? Нечего. Следовало бы устроить здесь летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь, где можно было бы слушать хорошую музыку и пить прохладительные напитки в тени деревьев. Он не должен быть похож на увеселительное место, а просто служить местом для гуляния. Плата за вход должна быть высокой, чтобы привлечь красивых дам. Можно было бы гулять по усыпанным песком дорожкам, освещенным электричеством, а когда захочешь — присесть и слушать музыку, вблизи или издали. Нечто в этом роде было когда-то у Мюзара, но там на всем лежал отпечаток кабака: там слишком много игралось танцев, мало было простора, мало тени, мало сумрака. Нужен очень красивый, очень большой сад. Это было бы восхитительно. Куда ты хочешь пойти?
Дюруа в смущении не знал, что ответить; наконец, он решился:
— Мне еще не случалось бывать в «Фоли-Бержер». Я охотно пошел бы туда…
Его спутник воскликнул:
— В «Фоли-Бержер»? Черт возьми! Но мы там спечемся, как на жаровне. Впрочем, не возражаю, там все же весело.
И они пошли по направлению к улице Фобур-Монмартр.
Ярко освещенный Фасад «Фоли-Бержер» бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Целая вереница Фиакров дожидалась разъезда.
Форестье направился к входу; Дюруа остановил его:
— Мы забыли купить билеты.
Форестье важно ответил:
— Со мной платить не надо.
Когда они подошли к контролю, все три контролера поклонились Форестье, стоявший в середине протянул ему руку. Журналист спросил:
— Есть хорошая ложа?
— Разумеется, господин Форестье.
Он взял протянутый ему билет, толкнул обитую кожей дверь, и они очутились в зале.
Табачный дым, словно легкий туман, окутывал отдаленные части зала, сцену и противоположную сторону театра. Беспрерывно поднимаясь беловатыми струйками от сигар и папирос, которые курили все эти люди, этот легкий туман все усиливался, собирался под потолком и образовывал под широким куполом, вокруг люстры, над головами зрителей второго яруса, облако дыма.
В широком коридоре, идущем от входа вокруг зала, где бродят толпы разряженных кокоток вперемежку с темными силуэтами мужчин, группа женщин поджидала входящих перед одною из трех стоек, за которыми восседали три продавщицы напитков и любви, накрашенные и поблекшие.
Позади них высокие зеркала отражали их спины и лица проходящих.
Форестье быстро шел, раздвигая толпу, с видом человека, имеющего право на внимание.
Он подошел к капельдинерше:
— Ложа № 17? — спросил он.
— Здесь, сударь.
И они очутились запертыми в маленьком открытом деревянном ящике, обитом красной материей, где четыре стула такого же цвета стояли так близко один к другому, что едва можно было протиснуться между ними.
Друзья уселись; справа и слева от них тянулся длинный, прилегающий с обоих концов к сцене, закругленный ряд таких же клеток с сидящими в них людьми, у которых видны были только голова и грудь.
На сцене трое юношей в трико, высокий, среднего роста и еще поменьше, по очереди делали упражнения на трапеции.
Сначала быстрыми и мелкими шагами вышел вперед высокий, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи.
Под трико вырисовывались мускулы его рук и ног; он выпячивал грудь, чтобы скрыть свой довольно объемистый живот; лицо его было похоже на лицо парикмахера, — тщательный пробор разделял волосы на две равные части как раз посередине головы. Он вскакивал на трапецию грациозным прыжком и, повиснув на руках, вертелся колесом, или же, на вытянутых руках и распрямив тело, повисал горизонтально в воздухе, держась на шесте исключительно силою кистей рук.
Затем он опускался на землю, снова с улыбкой раскланивался под аплодисменты партера и отходил к кулисам, при каждом шаге показывая мускулатуру своих ног.
Второй, не такой высокий и более коренастый, выходил в свою очередь и проделывал те же упражнения, которые повторял и третий, при все возрастающем одобрении зрителей.
Но Дюруа нисколько не занимало это зрелище, и, повернув голову, он все время разглядывал прогуливающихся в променуаре[6] мужчин и кокоток.
Форестье сказал ему:
— Обрати внимание на первые ряды: исключительно буржуа со своими женами и детьми, — простаки, которые приходят посмотреть на представление. В ложах — завсегдатаи бульваров, кое-кто из артистического мира, несколько второсортных кокоток; позади нас — самая забавная смесь, какую только можно найти в Париже. Кто эти мужчины? Посмотри на них. Тут есть все, что хочешь, все профессии и все сословия, но преобладает мелкая сошка. Вот служащие банков, магазинов, министерств; репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, щеголи во фраках, пообедавшие в кабачке, уже побывавшие в опере и направляющиеся на Итальянский бульвар, и еще целая куча подозрительных личностей, не поддающихся анализу. Что касается женщин — все они, как одна: это проститутки, которые ужинают в «Америкен», отдаются за один или два луидора, выискивают иностранцев, платящих пять, и оповещают своих постоянных клиентов, когда они бывают свободны. За шесть лет можно всех их изучить; встречаешь их каждый вечер, круглый год, в одних и тех же местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или Лурсине[7].
Дюруа не слушал. Одна из таких женщин смотрела на него, прислонившись к их ложе. Это была полная брюнетка, набеленная, с черными подведенными глазами и огромными нарисованными бровями. Чрезмерно пышный бюст натягивал темный шелк ее платья; накрашенные губы, красные, словно рана, придавали ее лицу что-то животное, жгучее, грубое, но зажигавшее желание.
Она подозвала кивком головы одну из проходивших мимо нее подруг, рыжеватую блондинку, тоже полную, и сказала ей умышленно громко, чтобы можно было расслышать:
— Посмотри-ка, вот красивый малый. Если он захочет меня за десять золотых, я не откажусь.
Форестье повернулся к Дюруа и, улыбнувшись, хлопнул его по колену:
— Это на твой счет; ты имеешь успех, мой милый. Поздравляю.
Бывший унтер-офицер покраснел и машинальным движением пальцев потрогал золотые монеты в кармане своего жилета.
Занавес опустился; оркестр заиграл вальс. Дюруа сказал:
— Не пройтись ли нам по кулуару?
— Как хочешь.
Они вышли и тотчас были подхвачены волной гуляющих. Их толкали, теснили, жали со всех сторон; они шли, видя перед собой целый лес шляп. А женщины попарно двигались в этой толпе мужчин, с ловкостью рассекая ее, скользя между локтями, спинами, плечами, чувствуя себя хорошо, в своей стихии, как рыбы в воде, среди этого потока самцов.
Дюруа, восхищенный, шел по течению, в опьянении выдыхая воздух, отравленный табачным дымом, запахом человеческих тел и духами кокоток. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.
— Выйдем в сад, — сказал он.
И, повернув налево, они вошли в какое-то подобие крытого сада, который освежали два безвкусно отделанных фонтана. Под тисами и туями, стоявшими в кадках, мужчины и женщины пили, расположившись за цинковыми столиками.
— Еще бокал? — предложил Форестье.
— С удовольствием.
Они сели и стали рассматривать проходящих. От времени до времени к ним подходила какая-нибудь женщина и спрашивала с шаблонной улыбкой:
— Не угостите ли чем-нибудь, сударь?
И после, ответа Форестье:
— Стаканом воды из фонтана, — отходила, ворча:
— Свинья!
Полная брюнетка — та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе, — появилась снова, надменно выступая под руку с полной блондинкой. Они составляли вдвоем отличную пару, прекрасно подобранную.
Заметив Дюруа, она ему улыбнулась так, словно их взгляды уже успели сообщить друг другу какую-то тайну; взяв стул, она преспокойно уселась против него и, усадив свою подругу, заказала звонким голосом:
— Гарсон, два гренадина!
Форестье сказал с удивлением;
— Ты, кажется, не стесняешься?
Она ответила;
— Это твой друг меня привлекает. Право, красивый малый. Мне кажется, он способен заставить меня наделать глупостей!
Дюруа, смущенный, не нашелся, что сказать. Он крутил свои вьющиеся усы и глупо улыбался. Гарсон принес воду с сиропом, которую женщины выпили залпом; потом они поднялись; брюнетка, дружески кивнув головой и слегка ударив Дюруа веером по плечу, бросила:
— Спасибо, котик. Ты не очень-то балуешь разговором.
И они ушли, раскачивая бедрами.
Форестье рассмеялся:
— Однако, дружище, ты в самом деле имеешь успех у женщин. Этим не следует пренебрегать. С этим можно пойти далеко.
Он помолчал с минуту, потом добавил тоном человека, думающего вслух:
— С их помощью легче всего сделать карьеру.
Так как Дюруа не отвечал, продолжая улыбаться, он спросил:
— Ты еще остаешься? Я ухожу, с меня хватит.
Дюруа пробормотал:
— Да, я побуду немного. Еще рано.
Форестье поднялся.
— Ну, так до свиданья, до завтра. Не забудь, улица Фонтен, 17, в половине восьмого.
— Непременно. До завтра. Спасибо.
Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.
Как только он скрылся, Дюруа почувствовал себя свободно и снова с радостью нащупал золотые монеты в своем кармане. Потом, поднявшись, пошел, взглядом разыскивая кого-то в толпе.
Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, прогуливающихся с видом нищих королев в толпе мужчин. Он пошел прямо им навстречу, но, когда подошел, снова растерялся.
Брюнетка сказала ему:
— Ну что, у тебя язык развязался?
Он пробормотал:
— Черт возьми! — не будучи в состоянии придумать ничего, кроме этих слов.
Они стояли все трое, затрудняя движение толпы, образуя вокруг себя водоворот. Потом она внезапно спросила;
— Пойдешь со мной?
И он, трепеща от желания, ответил грубо:
— Да, но у меня всего только один луидор.
Она улыбнулась с равнодушным видом:
— Не беда.
И взяла его под руку, словно завладев своей добычей.
Когда они выходили, он подумал, что на оставшиеся двадцать франков ему не трудно будет достать напрокат фрак для завтрашнего вечера.
II
Здесь живет господин Форестье?
— Четвертый этаж, налево.
Привратник сказал это любезным тоном, в котором звучало уважение к жильцу. И Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.
Он чувствовал себя немного смущенным, не в своей тарелке. Впервые в жизни он надел фрак и теперь волновался по поводу остальных частей своего туалета. Он чувствовал погрешности во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя и довольно изящного покроя (он всегда особенно тщательно следил за своей обувью), и кончая рубашкой, купленной сегодня в Лувре за четыре с половиной франка; ее слишком тонкая манишка уже немного смялась. Другие его рубашки, которые он носил ежедневно, были все порядочно истрепаны, и даже наиболее крепкую из них он не решился надеть сегодня.
Слишком широкие брюки плохо обрисовывали ногу, заворачиваясь вокруг икр, и имели тот поношенный вид, какой всегда имеет одежда, купленная по случаю, на фигуре, которую она случайно облегает. И только фрак сидел недурно, так как в магазине нашелся один, почти подходивший по размеру.
Он медленно поднимался по ступеням, с бьющимся сердцем и тоской в душе, мучимый больше всего боязнью показаться смешным; и вдруг он увидел перед собой элегантного господина, смотревшего на него. Они очутились так близко друг к другу, что Дюруа невольно отступил и вдруг замер в изумлении: это был он сам в отражении высокого трюмо, стоявшего на площадке второго этажа и создававшего иллюзию длинной галереи. Он весь затрепетал от радости, найдя себя несравненно лучше, чем он ожидал.
Дома у него было только зеркальце для бритья, в котором нельзя было видеть себя во весь рост, и так как он с трудом мог рассмотреть в него лишь отдельные части своего наспех сооруженного туалета, то преувеличил его недостатки и пугался мысли, что может показаться смешным.
Теперь же, неожиданно увидев себя в большом зеркале, он даже не узнал себя, принял себя за другого, за человека из общества, которого он, на первый взгляд, нашел очень представительным, очень шикарным.
И, внимательно себя рассмотрев, он решил, что, право же, у него, вполне приличный вид.
Тогда он начал изучать себя, как это делают актеры, разучивая роль. Он улыбнулся, протянул руку, сделал несколько движений, попытался выразить чувства удивления, радости, одобрения; испробовал разные оттенки улыбок и взглядов, при помощи которых можно показаться дамам любезным, дать им понять, что восхищаешься ими, желаешь их.
Дверь на лестницу отворилась. Боясь, что его могут поймать врасплох, он стал быстро подниматься наверх, встревоженный мыслью, не видел ли кто-нибудь из приглашенных к его другу, как он кокетничал перед зеркалом.
Добравшись до третьего этажа, он снова увидел зеркало и замедлил шаги, чтобы осмотреть себя на ходу. Фигуру свою он нашел в самом деле очень изящной. Походка превосходная. И безграничная уверенность в себе наполнила его душу. Конечно, он далеко пойдет, с такой наружностью и жаждою успеха, с твердостью и независимостью характера, которые он в себе знал. Ему захотелось побежать, перепрыгнуть через ступени последнего этажа. Он остановился у третьего зеркала, закрутил усы привычным движением, снял шляпу, чтобы поправить волосы, и пробормотал вполголоса, как он это часто делал, обращаясь к самому себе: «Вот превосходная мысль». Затем протянул руку к звонку и позвонил.
Дверь почти сразу же отворилась, и он оказался перед важным бритым лакеем в черном фраке, с такими безукоризненными манерами, что Дюруа снова почувствовал себя охваченным смутным беспокойством, — быть может, от бессознательного сравнения покроя своего фрака и фрака лакея. Принимая от Дюруа пальто, которое тот держал на руке, стараясь скрыть пятна, лакей, у которого были на ногах лакированные ботинки, спросил:
— Как прикажете доложить?
Приподняв портьеру гостиной, куда надо было войти, он произнес его имя.
Но Дюруа, вдруг потерявший весь свой апломб, почувствовал, что от робости он лишился способности двигаться, что у него захватило дыхание. Ему предстояло сделать первый шаг навстречу этой новой жизни, о которой он так мечтал, которой так ждал. Все же он решился войти. Перед ним стояла молодая белокурая женщина, ожидавшая его одна в большой, ярко освещенной комнате, заставленной, словно оранжерея, растениями.
Он остановился в полном замешательстве: кто эта дама, которая улыбается ему? Потом вспомнил, что Форестье женат; и мысль, что эта изящная блондинка — жена его друга, окончательно его смутила.
Oн пробормотал:
— Сударыня, я…
Она протянула ему руку:
— Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.
Он покраснел до ушей, не зная, что сказать, и чувствуя, что его осматривают с ног до головы, оценивают, изучают.
Ему хотелось извиниться, выдумать причину, объясняющую погрешности его костюма; но он ничего не смог придумать и не решился затронуть эту щекотливую тему.
Он сел в указанное ему кресло, и, когда почувствовал мягкую упругость его бархата, приятное, ласкающее прикосновение его обитых ручек и спинки, которые так любовно приняли его в свои объятия, ему показалось, что он уже вступил в новую, пленительную жизнь, что он становится чем-то, что он уже спасен; и он посмотрел на г-жу Форестье, продолжавшую следить за ним взглядом.
На ней было надето платье из бледно-голубого кашемира, замечательно обрисовывавшее ее стройную талию и полную грудь.
Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми были отделаны корсаж и короткие рукава; волосы, собранные в высокую прическу, слегка вились на затылке, образуя светлое пушистое облако над шеей.
Ее взгляд, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в «Фоли-Бержер», несколько успокоил его. У нее были серые глаза с голубоватым отливом, который придавал им какое-то особенное выражение, тонкий нос, полные губы, немного мясистый подбородок, — неправильное, но очаровательное лицо, привлекательное и лукавое. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого имеет свою прелесть и кажется полной значения, каждое движение которого как будто и говорит и скрывает что-то.
После короткого молчания она спросила:
— Вы давно уже в Париже?
Постепенно овладевая собой, он ответил:
— Всего несколько месяцев, сударыня. Я служу на железной дороге, но Форестье дал мне надежду, что я смогу через его посредство заняться журналистикой.
Она улыбнулась более открыто, более приветливо и, понизив голос, сказала:
— Я знаю.
Снова раздался звонок. Лакей доложил:
— Госпожа де Марель.
Это была маленькая смуглая женщина, ярко выраженный тип брюнетки.
Она, вошла быстрой походкой; фигуру ее сверху донизу плотно облегало темное, очень простое платье.
Только красная роза, приколотая к черным волосам, невольно бросалась в глаза и подчеркивала своеобразный характер ее лица, придавая ей задорный и пикантный вид.
За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась им навстречу.
— Здравствуй, Клотильда.
— Здравствуй, Мадлена.
Они поцеловались. Затем девочка с непринужденностью взрослой подставила свой лобик для поцелуя и сказала:
— Здравствуй, кузина.
Госпожа Форестье поцеловала ее; потом познакомила гостей:
— Господин Жорж Дюруа, близкий друг Шарля. Госпожа де Марель, моя приятельница и дальняя родственница.
И добавила:
— Знаете, у нас здесь все очень просто, без церемоний. Вы не будете возражать, не правда ли?
Молодой человек поклонился.
Дверь снова отворилась, и вошел толстый, маленький, круглый человечек под руку с высокой красивой дамой, которая была гораздо выше его ростом, значительно моложе и держалась изящно и с достоинством. Это были г-н Вальтер, депутат, финансист, богач, делец, еврей-южанин, издатель «Vie Française», и его жена, рожденная Базиль-Равало, дочь банкира.
Затем появились один за другим: Жак Риваль, очень элегантный, и Норбер де Варенн, у которого лоснился ворот фрака от прикосновения падавших до плеч длинных волос, с которых сыпалась перхоть.
Его плохо завязанный галстук имел далеко не свежий вид. С ужимками стареющего красавца он подошел к г-же Форестье и запечатлел поцелуй на ее запястье. Когда он наклонился, его длинные волосы, точно волной, покрыли обнаженную руку молодой женщины.
Наконец, явился сам Форестье, извинившийся за опоздание. Его задержало в редакции дело Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос в министерство по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.
Слуга доложил:
— Кушать подано!
И все перешли в столовую.
За столом Дюруа оказался между г-жой де Марель и ее дочерью. Он снова почувствовал смущение, боясь сделать какой-нибудь промах в обращении с вилкой, ложкой или бокалами. Последних было четыре, и один из них был голубоватого цвета. Для какого напитка предназначался он?
За супом все молчали, затем Норбер де Варенн спросил:
— Читали ли вы о процессе Готье? Что за потеха!
Стали обсуждать этот случай, где адюльтер осложнялся шантажом. Здесь говорили о нем совсем не так, как говорят в семейных домах о событиях, известных по газетам, а так, как говорят между собой врачи о болезни, зеленщики об овощах. Никто не возмущался, никто не удивлялся; с профессиональным любопытством и с полным равнодушием к самому преступлению собеседники пытались найти глубокие, тайные причины его. Старались точно объяснить каждый отдельный поступок, определить все интеллектуальные факторы, породившие драму, которая являлась для них результатом известного душевного состояния, поддающегося учету науки. Дамы тоже увлеклись этим анализом, этой работой. Затем занялись другими злободневными событиями, комментируя их, рассматривая со всех сторон, взвешивая и оценивая с особой практической точки зрения специалистов, спекулирующих на новостях, разменивающих человеческую комедию на строчки, подобно тому как торговцы осматривают и оценивают товар, который они затем предложат покупателям.
Потом заговорили об одной дуэли, и разговором овладел Жак Риваль. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.
Дюруа не решался вставить слово. От времени до времени он посматривал на свою соседку, округлая грудь которой соблазняла его. С кончика ее уха свисал брильянт на золотой нитке, похожий на каплю воды, скатывающуюся с тела. Иногда эта дама делала какое-нибудь замечание, неизменно вызывавшее общую улыбку. У нее было забавное, милое, неожиданное остроумие — остроумие опытной школьницы, которая смотрит на вещи беззаботно и судит о них с легкомысленным, незлобивым скептицизмом.
Дюруа тщетно старался придумать для нее какой-нибудь комплимент и, ничего не найдя, занялся дочерью, наливал ей вино, передавал кушанья, услуживал. Девочка, более сдержанная, чем мать, благодарила серьезным топом, короткими кивками головы: «Вы очень любезны, сударь», и внимательно, с сосредоточенным видом слушала разговор взрослых.
Обед был превосходный, и все отдали ему должное. Вальтер ел точно людоед и почти все время молчал, рассматривая косым взглядом из-под очков блюда, которые ему подносили. Норбер де Варенн не уступал ему, от времени до времени роняя капли соуса на свою манишку.
Форестье, улыбающийся, но серьезный, наблюдал за всем происходящим и обменивался с женой многозначительными взглядами, словно с сообщником, выполняющим совместно с ним трудное, но успешно подвигающееся дело.
Лица гостей раскраснелись, голоса стали громче. От времени до времени лакей шептал каждому из обедающих на ухо:
— Нортон? Шаго-Лароз?
Дюруа Нортон пришелся по вкусу, и он каждый раз подставлял свой бокал. Им овладела восхитительная веселость; какая-то горячая веселая волна поднялась от желудка к голове, разлилась по всему телу, проникла во все его существо. Он пришел в состояние полного довольства — довольства души и тела.
Ему захотелось говорить, обратить на себя внимание, быть выслушанным, признанным, подобно этим людям, малейшее замечание которых все так пенили.
Разговор, который лился беспрерывно, затрагивая всевозможные темы, перебрасываясь с предмета на предмет, цепляясь за малейший повод, после обзора всех злободневных событий и попутно тысячи других вещей вернулся к важному запросу Мореля относительно колонизации Алжира.
В перерыве между двумя блюдами Вальтер, склонный к скептическому цинизму, отпустил на этот счет несколько шуток. Форестье рассказал содержание своей завтрашней статьи. Жак Риваль требовал военного правительства, которое каждому офицеру, прослужившему тридцать лет в колониях, давало бы участок земли.
— Таким образом, — говорил он, — вы создадите деятельное общество, которое с течением времени изучит и полюбит эту страну, ознакомится с ее языком и со всеми главными местными условиями, являющимися обычно камнем преткновения для всех вновь прибывающих.
Норбер де Варенн прервал его:
— Да… они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но не будут уметь пересаживать свеклу или сеять хлеб. Они будут очень сильны в искусстве фехтования, но очень слабы по части удобрения полей. Наоборот, следовало бы широко открыть доступ в эту новую страну всем желающим. Люди способные найдут там себе место, остальные — погибнут. Таков социальный закон.
Последовало короткое молчание. Все улыбались.
Жорж Дюруа раскрыл рот и произнес, удивляясь звуку собственного голоса, точно он никогда раньше его не слыхал:
— Хорошей земли — вот чего нам недостает. Плодородные участки стоят там столько же, сколько во Франции, и раскупаются богатыми парижанами, считающими выгодным помещать в них капитал. Настоящие же колонисты, которых выгнал с родины голод, оттесняются в пустыню, где ничего не произрастает из-за отсутствия воды.
Все взгляды устремились на него. Он почувствовал, что краснеет. Вальтер спросил его:
— Вы знаете Алжир?
Он ответил:
— Да, я провел там двадцать восемь месяцев и побывал в трех провинциях.
Внезапно, позабыв о деле Мореля, Норбер де Варенн стал расспрашивать его о нравах этой страны, известных ему по рассказам одного офицера. В частности, его интересовал Мзаб — странная маленькая арабская республика, зародившаяся посреди Сахары, в самой иссушенной части этой знойной пустыни.
Дюруа, который дважды побывал в Мзабе, описал нравы этой своеобразной страны, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель должен выполнять всякого рода общественные работы, где честность в коммерческих делах стоит гораздо выше, чем у цивилизованных народов.
Возбужденный вином и желанием понравиться, он говорил с каким-то хвастливым увлечением, рассказывал полковые анекдоты, военные приключения, описывал подробности арабской жизни. Он нашел даже несколько красочных выражений для описания этих обнаженных, желтых земель, выжженных всепожирающим пламенем солнца.
Все женщины не отрывали от него глаз. Г-жа Вальтер медленно проговорила:
— Вы могли бы сделать из ваших воспоминаний ряд прелестных статей.
После этого Вальтер взглянул на молодого человека поверх очков, как он делал всегда, когда хотел хорошенько рассмотреть чье-нибудь лицо. На тарелки он смотрел из-под очков.
Форестье воспользовался моментом:
— Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Жорже Дюруа и просил назначить его моим помощником для добывания политической информации. С тех пор как Марамбо ушел от нас, у меня нет никого, кто бы собирал срочные и секретные сведения, и газета от этого страдает.
Вальтер стал серьезен и совсем приподнял очки, чтобы посмотреть Дюруа прямо в лицо. Потом сказал:
— Несомненно, что господин Дюруа обладает оригинальным умом. Если ему угодно будет зайти завтра в три часа поболтать со мной, мы это устроим.
Затем, немного помолчав, он обратился уже прямо к молодому человеку:
— Но дайте нам теперь же небольшую серию заметок об Алжире. Сообщите свои воспоминания и коснитесь вопроса колонизации, как вы это сделали сейчас. Это своевременно, вполне своевременно, и, я уверен, это очень понравится нашим читателям. Только поторопитесь. Первая статья мне нужна завтра или послезавтра, чтобы заинтересовать публику, пока в палате идут прения.
Госпожа Вальтер прибавила с милой серьезностью, придававшей всем ее словам легкий покровительственный оттенок:
— И вот вам прелестное заглавие: «Воспоминания африканского стрелка», — не правда ли, господин Норбер?
Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и побаивался новичков. Он ответил сухим тоном:
— Да, это превосходно, но при условии, что все дальнейшее будет в соответствующем стиле, а это самое трудное. Верный стиль — это все равно как в музыке верный тон.
Г-жа Форестье смотрела на Дюруа ласковым и ободряющим взглядом, взглядом знатока, который, казалось, говорил: «О, ты пойдешь далеко». Г-жа де Марель несколько раз оборачивалась к нему, и брильянт в ее ухе беспрестанно дрожал; казалось, прозрачная капля сейчас оторвется и упадет.
Девочка сидела неподвижно и серьезно, склонив голову над тарелкой.
Лакей снова обошел вокруг стола, наливая в голубые бокалы иоганнисбергское вино, и Форестье, поклонившись Вальтеру, предложил тост за процветание «Vie Française».
Все присутствующие приветствовали патрона, который улыбался, и Дюруа, опьяненный успехом, осушил свой бокал залпом: ему казалось, что он выпил бы так же целую бочку, проглотил бы быка, задушил бы льва. Он ощущал в себе нечеловеческую силу, непреклонную решимость и безграничные надежды. Теперь он был своим человеком в среде этих людей, он завоевал положение, занял свое место. Взгляд его останавливался на лицах с большей уверенностью, и он осмелился, наконец, обратиться к своей соседке:
— Сударыня, у вас самые красивые серьги, какие я когда-либо видел.
Она обернулась к нему с улыбкой:
— Это моя выдумка — подвешивать брильянты просто на нитке. Можно подумать, что это росинки, не правда ли?
Он пробормотал, смущенный своей смелостью, боясь сказать глупость:
— Это очаровательно… но ваше ушко еще больше украшает эту вещь.
Она поблагодарила его взглядом — одним из лучезарных женских взглядов, проникающих в самое сердце.
Повернув голову, он опять увидел устремленные на него глаза г-жи Форестье. Она смотрела все так же приветливо, но ему показалось, что сейчас ее взгляд выражает большую живость, лукавство, поощрение.
Теперь все мужчины говорили сразу, жестикулируя, повысив голос; обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана только к концу десерта; у всякого нашлось что сказать относительно медленности способов сообщения в Париже, неудобства трамвая, невыносимости езды в омнибусах и грубости извозчиков.
Потом все встали из-за стола, чтобы идти пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку девочке; она важно поблагодарила его и привстала на цыпочки, чтобы просунуть руку под локоть своего кавалера.
Когда он вошел в гостиную ему снова показалось, что он попал в оранжерею. Высокие пальмы стояли во всех четырех углах комнаты, раскинув своп изящные листья, которые поднимались до потолка и там рассыпались каскадами. По бокам камина круглые, колоннообразные стволы каучуковых деревьев громоздили друг на друга свои продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепиано два неизвестных растения, круглые, покрытые цветами, — одно розовое, другое белое, — производили впечатление искусственных, неправдоподобных, слишком прекрасных, чтобы быть живыми.
Воздух был свеж и напоен благоуханием, неуловимым, неведомым и нежным.
Теперь, когда Дюруа уже более владел собой, он принялся внимательно рассматривать комнату. Она была невелика: кроме растений, ничто не поражало в ней; ничего не было яркого или кричащего; но в ней чувствовался комфорт, уют; она ласкала глаз, нежила, располагала к отдыху.
Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиной с муху.
На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком было вышито несколько гвоздик. Кресла и стулья всевозможной формы и величины, огромные и крошечные, кушетки, пуфы, скамеечки, разбросанные по комнате, — все было обито шелковой материей в стиле Людовика XVI и прекрасным плюшем красноватого тона с гранатовым узором.
— Хотите кофе, господин Дюруа?
С приветливой улыбкой, не сходившей с ее уст, г-жа Форестье протянула ему налитую чашку.
— Да, сударыня, благодарю вас.
Дюруа взял чашку, и, пока он со страхом наклонялся над сахарницей, которую подавала ему девочка, и доставал серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина сказала ему вполголоса:
— Поухаживайте за госпожой Вальтер.
И отошла прежде, чем он успел что-либо ответить.
Сначала он выпил кофе, все время опасаясь, как бы не уронить чашку на ковер; затем с облегченным сердцем стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с нею разговор.
Вдруг он заметил, что она держит в руках пустую чашку: возле нее не было столика, и она не знала, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней.
— Позвольте, сударыня.
— Благодарю вас.
Он отнес чашку, потом вернулся.
— Если бы вы знали, сударыня, сколько хороших минут доставила мне «Ѵіе Française» во время моего пребывания там, в пустыне. Положительно, это единственная газета, которую можно читать вне Франции, потому что она самая литературная, самая остроумная, самая занимательная из всех. В ней можно найти все.
Она улыбнулась с равнодушной учтивостью и серьезно заметила:
— Господину Вальтеру стоило немалых трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям.
И они принялись беседовать. Он обладал уменьем поддерживать непринужденный и банальный разговор; голос у него был приятный, во взгляде много очарования, а перед обворожительностью усов невозможно было устоять. Они вились над верхней губой, пышные, красивые, немного белокурые, золотистого оттенка, немного более светлые на концах.
Они говорили о Париже, о его окрестности, о берегах Сены, о курортах, о летних развлечениях, — о всех тех вещах, о которых можно болтать без конца, не утомляясь.
Затем, когда подошел Норбер де Варенн с рюмкой ликера в руке, Дюруа скромно удалился.
Г-жа де Марель, только что беседовавшая с г-жой Форестье, подозвала его.
— Итак, сударь, — спросила она его в упор, — вы хотите испробовать свои силы в журналистике?
Он заговорил о своих намерениях, потом начал с нею тот же разговор, что и с г-жой Вальтер; но теперь он уже лучше владел темой и блеснул своими познаниями, выдавая за свои те слова, которые он только что слышал. При этом он, не отрываясь, смотрел собеседнице в глаза, как бы придавая особенно глубокий смысл своим словам.
Она рассказала ему в свою очередь несколько анекдотов с непринужденной живостью женщины, уверенной в своем остроумии и желающей всегда казаться веселой и занимательной; она начала вести себя с ним более непринужденно, клала руку на его рукав, понижала голос, рассказывая какой-нибудь пустячок, приобретавший благодаря этому оттенок интимности. Дюруа был весь охвачен внутренним волнением от близости молодой женщины, оказывавшей ему такое внимание. Ему хотелось тотчас доказать ей чем-нибудь свою преданность, защитить ее, показать, на что он способен; и долгие паузы, предшествовавшие его ответам, выдавали его напряженное душевное состояние.
Вдруг, без всякого повода, г-жа де Марель позвала: «Лорина», и девочка подошла к ней.
— Сядь сюда, детка, ты простудишься у окна.
Дюруа вдруг охватило безумное желание поцеловать девочку, как будто от этого поцелуя что-то должно было передаться матери.
Он ласково спросил ее отеческим топом:
— Можно вас поцеловать, мадмуазель?
Девочка удивленно посмотрела на него. Г-жа де Марель сказала, смеясь:
— Отвечай: «Я вам разрешаю это, сударь, сегодня; но в другой раз этого не должно быть».
Дюруа тотчас сел, взял Лорину на колени и прикоснулся губами к ее волнистым тонким волосам.
Мать удивилась:
— Смотрите, она не убежала; это удивительно. Обычно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.
Он покраснел и, ничего не ответив, стал покачивать девочку на одном колене.
Г-жа Форестье подошла и воскликнула с удивлением:
— Посмотрите, Лорину приручили. Вот чудо!
Жак Риваль, с сигарой во рту, тоже направился к ним, и Дюруа поднялся, чтобы проститься: он боялся каким-нибудь неловким словом испортить сделанное им дело — начало своих побед.
Он раскланялся, нежно пожал ручки всем дамам, затем сильно потряс руки мужчинам. При этом он заметил, что рука Жака Риваля была сухая, горячая и дружески ответила на его пожатие; рука Норбера де Варенна, влажная, холодная, еле коснулась пальцев; рука Вальтера была холодная и мягкая, без всякой выразительности, вялая; рука Форестье — жирная и теплая. Последний сказал ему вполголоса:
— Завтра в три часа, не забудь.
— О, не беспокойся, не забуду!
Когда он очутился на лестнице, ему захотелось спуститься по ней бегом, — так сильна была его радость, — и он стал прыгать через две ступеньки; но вдруг в большом зеркале третьего этажа он увидел какого-то господина, торопливо и вприпрыжку бегущего к нему навстречу, и сразу остановился, устыдившись, точно уличенный в какой-то провинности.
Потом он долго смотрел на себя в зеркало, восхищаясь тем, что он в самом деле такой красивый молодой человек; потом самодовольно улыбнулся себе; потом, прощаясь со своим отражением, отвесил ему низкий и почтительный поклон, точно значительной особе.
Ill
Выйдя на улицу, Жорж Дюруа начал думать, что бы такое ему предпринять. Ему хотелось мечтать, идти вперед, думая о будущем, вдыхая неясный ночной воздух, но мысль о ряде статей, заказанных ему Вальтером, преследовала его, и он решил сейчас же идти домой и приняться за работу.
Он повернул, ускорил шаги, вышел на внешний бульвар[8] и пошел по нему до улицы Бурсо, на которой находилась его квартира. Семиэтажный дом, где он жил, был населен двумя десятками семей скромных рабочих и буржуа. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступени, на которых валялись клочки бумаги, окурки, кухонные отбросы, он почувствовал отвращение и непреодолимое желание поскорее уйти отсюда и поселиться, подобно богатым людям, в чистом жилище, убранном коврами. Тяжелый запах еды, отхожих мест и человеческих отбросов, застоявшийся запах помоев и обветшавших стен заполнял этот дом снизу доверху, и никаким проветриванием его нельзя было оттуда изгнать.
Из окна комнаты молодого человека, находившейся в шестом этаже, виднелся, возле Батильольского вокзала, как раз над выходом из тоннеля, словно глубокая пропасть, огромный пролет полотна Западной железной дороги. Дюруа открыл окно и облокотился на ржавый железный подоконник.
Под ним, в глубине темной дыры, три неподвижных красных сигнальных огня казались огромными глазами какого-то зверя; за ними виднелись еще огни и дальше еще и еще — без конца.
Ежеминутно в тишине ночи раздавались свистки, то короткие, то протяжные, одни близкие, другие далекие, едва уловимые, идущие оттуда — со стороны Аньера. Звук их менялся, точно звуки человеческого голоса. Один из свистков приближался, испуская непрерывно жалобный крик, становившийся громче с каждой секундой, — и вскоре показался большой желтый фонарь, который с грохотом несся вперед; Дюруа увидел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти тоннеля.
Потом он сказал себе: «Ну, за работу!». Поставив лампу на стол, он хотел уже сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага.
Делать нечего, он использует ее, развернув лист во всю ширину. Он обмакнул перо в чернила и лучшим своим почерком вывел заголовок:
«Воспоминания африканского стрелка».
Потом задумался над началом первой фразы.
Он сидел, опершись головой на руку, устремив взгляд на белый лист бумаги, лежавший перед ним.
О чем писать? Сейчас он ничего не мог вспомнить из того, что только что рассказывал, — ни одного факта, ни одного случая — ничего. Вдруг ему пришла мысль: «Надо начать с отъезда». И он палисад «Эго было в 1874 году, около 15 мая, когда истощенная Франция отдыхала после потрясений ужасного года…»
Тут он остановился, не зная, как изобразить свое отплытие, переезд, первые впечатления.
После десятиминутного размышления он решил отложить на завтра начало и приняться сейчас за описание Алжира.
И он написал на своем листе бумаги: «Алжир — это город, весь белый…», не умея сказать ничего другого. Перед его глазами снова встал красивый, светлый город с плоскими домиками, каскадом сбегающими с вершины горы к морю, но он не находил ни одного слова, чтобы передать то, что видел, что пережил.
После долгих усилий он прибавил: «Часть его населена арабами…» Потом бросил перо на стол и встал.
На маленькой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось в беспорядке его старое будничное платье; оно казалось каким-то пустым, усталым, дряблым, отвратительным, словно старые отрепья из морга. А шелковый опрокинутый цилиндр, лежавший на соломенном стуле, единственный его цилиндр, казалось, просил подаяния.
На стенах комнаты, оклеенной серыми обоями с голубыми букетами, было столько же пятен, сколько цветов, — старых подозрительных пятен, происхождение которых не поддавалось определению: раздавленные насекомые или капли масла, следы пальцев, жирных от помады, или брызги мыльной пены. На всем лежала печать унизительной нищеты — нищеты меблированных комнат Парижа. И возмущение против собственной бедности охватило Дюруа. Он решил, что надо уйти отсюда сейчас же, что завтра же надо покончить с этим жалким существованием.
Внезапно вновь охваченный усердием к работе, он снова сел за стол и снова стал искать слова, чтобы правильно передать своеобразное очарование Алжира, этого преддверия таинственных глубин Африки — Африки кочевых арабов и неизвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, той Африки, откуда привозят неправдоподобных сказочных животных, которых нам показывают иногда в общественных садах: страусов, напоминающих каких-то странных кур, газелей, божественно-грациозных коз, удивительных и уродливых жирафов, важных верблюдов, чудовищных гиппопотамов, безобразных носорогов и горилл, этих страшных братьев человека.
Он смутно чувствовал, как в нем возникают мысли; он мог бы, пожалуй, рассказать их, но ему не удавалось выразить их на бумаге. Раздраженный сознанием своего бессилия, он снова встал; руки его были влажны от пота, кровь стучала в висках.
Когда он заметил счет от прачки, принесенный в тот же вечер привратником, его сразу охватило полное отчаяние. Радость, вера в себя и будущее покинули его. Кончено, все кончено, он ничего не сделает, из него ничего не выйдет; он чувствовал себя ничтожным, неспособным ни к чему, лишним, обреченным.
Он снова подошел к окну как раз в тот момент, когда из тоннеля со стремительным и яростным шумом выходил поезд. Через поля и равнины он шел туда, к морю. И воспоминание о родителях проснулось в сердце Дюруа.
Этот поезд пройдет мимо них, всего в нескольких милях от их дома. Перед ним встал маленький домик на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.
Его родители держали небольшой ресторанчик, загородный кабачок, называвшийся «Бельвю», куда жители городского предместья приходили закусывать по воскресеньям.
Своего сына они хотели вывести в люди и отдали его в коллеж. Окончив его и не выдержав экзамена на степень бакалавра, он поступил на военную службу с намерением стать офицером, полковником, генералом. Но еще задолго до окончания пятилетнего срока он почувствовал к военной службе отвращение и начал мечтать о карьере в Париже.
И, кончив службу, он приехал сюда, несмотря на мольбы отца и матери, которым хотелось, чтобы он жил возле них, раз уж другие их мечты не осуществились. Он верил в будущее, верил, что счастливый случай, пока еще неведомый, приведет его к успеху. Он сумеет создать благоприятные условия и воспользуется ими.
В бытность его в полку ему везло: у него было много легких побед, были даже связи с женщинами более высокого круга. Он соблазнил дочь сборщика податей, готовую все оставить ради него, и жену поверенного, которая пыталась даже утопиться от отчаяния, когда он ее бросил.
Товарищи говорили про него: «Хитрый малый, проныра, ловкач, он всегда выпутается». И он решил действительно стать хитрым малым, пронырой и ловкачом.
По натуре честный нормандец, он развратился под влиянием повседневной гарнизонной жизни — обычного в Африке мародерства, незаконных доходов и мошеннических проделок. С другой стороны, в нем оставили некоторый след и понятия о чести, господствующие в армии, военное бахвальство, патриотические чувства, рассказы о подвигах унтер-офицеров и профессиональное тщеславие этой среды. Словом, его душа превратилась в какой-то ящик с тройным дном, где можно было найти все, что угодно.
Но жажда успеха преобладала над всем.