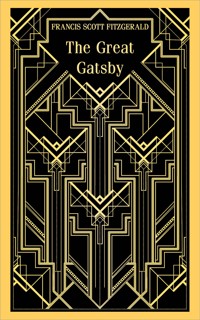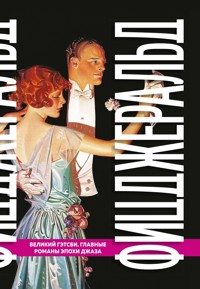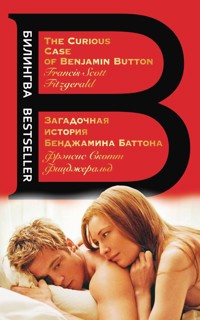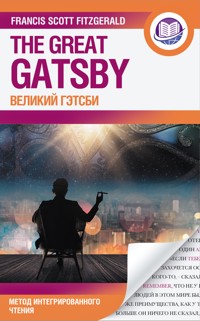Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Роман «Ночь нежна» — жемчужина творческого наследия Фицджеральда. Это не только история сложных взаимоотношений молодого талантливого врача-психиатра Дика Дайвера, его жены Николь и юной американской актрисы Розмари. Это своеобразная летопись «потерянного поколения», которому выпало провести большую часть жизни в период между двумя мировыми войнами, под звуки фокстрота и аромат коктейлей сгорая от разрушительных страстей. Перед вами — удивительно красивый, утонченный и талантливый роман классика мировой литературы в новом переводе.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Френсис Фицджеральд Ночь нежна
Francis Scott Fitzgerald
TENDER IS THE NIGHT
© Перевод. И.Я. Доронина, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
* * *
Джералду и Саре с пожеланием многих праздников
Книга первая
I
В чу́дном месте на берегу Французской Ривьеры, примерно на полпути между Марселем и итальянской границей, стоит горделивое, розового цвета здание отеля. Пальмы почтительно заслоняют от зноя его фасад, перед которым ослепительно сверкает на солнце короткая полоска пляжа. Впоследствии этот отель стал модным летним курортом для избранной публики, а тогда, десять лет назад, он почти опустевал, после того как в апреле его покидали постояльцы-англичане. Теперь он оброс гроздьями коттеджей, но во времена, на которые приходится начало этой истории, между принадлежавшим некоему Госсу отелем для иностранцев – «Отель дез Этранже» и расположенным в пяти милях от него Канном посреди сплошного соснового леса словно водяные лилии на пруду проглядывали тут и там макушки дюжины чахнувших старых вилл.
Отель и ярко отливавший бронзой молельный коврик пляжа составляли единое целое. Ранним утром дальний абрис Канна, розово-кремовые стены старых крепостей и лиловые Альпы, окаймляющие итальянский берег, отражаясь в воде, подрагивали на морской ряби, которую колыхание водорослей посылало на поверхность прозрачного мелководья. Ближе к восьми часам мужчина в синем купальном халате спускался на пляж и после долгих предварительных обтираний холодной водой, которые сопровождались кряканьем и громким сопением, с минуту барахтался в море. После его ухода пляж и бухта еще около часа оставались безлюдными. На горизонте с востока на запад тянулись торговые суда; во дворе отеля перекрикивались мальчики-посыльные; на соснах высыхала роса. Еще час спустя звуки автомобильных клаксонов начинали доноситься с извилистой дороги, бежавшей вдоль невысокого массива Маврских гор, отделяющего побережье от собственно французского Прованса.
В миле от моря, там, где сосны уступали место пыльным тополям, располагалась уединенная железнодорожная станция, откуда июньским утром 1925 года автомобиль «Виктория» вез в отель Госса даму с дочерью. Лицо матери еще хранило увядающую миловидность, его выражение было одновременно безмятежным и доброжелательно внимательным. Однако всякий тут же перевел бы взгляд на дочь: необъяснимая притягательность таилась в ее нежно-розовых ладонях и щеках, на которых играл трогательный румянец, какой бывает у детей после вечернего купания. Чистый лоб изящно закруглялся к линии волос, обрамлявших его наподобие геральдического шлема и рассыпа́вшихся волнами светло-золотистых локонов и завитушек. Яркие, большие, ясные глаза влажно блестели, а цвет лица был естественным – сильное молодое сердце исправно гнало кровь к поверхности кожи. Тело девушки застыло в хрупком равновесии на последнем рубеже детства, которое почти закончилось – ей было без малого восемнадцать, – но роса на бутоне еще не высохла.
Когда внизу, под ними, обозначилась тонкая знойная линия горизонта, соединявшего небо и море, мать сказала:
– Что-то мне подсказывает, что нам здесь не понравится.
– В любом случае я хочу домой, – ответила девушка.
Мать и дочь разговаривали беззаботно, но было очевидно, что они не знают, куда податься дальше, и это их томит, поскольку ехать куда глаза глядят все же не хотелось. Они жаждали волнующих впечатлений, но не потому, что нуждались во взбадривании истощенных нервов, скорее они напоминали завоевавших приз школьников, уверенных, что заслужили веселые каникулы.
– Поживем здесь дня три, а потом – домой. Я сейчас же закажу билеты на пароход.
С администратором в отеле разговаривала девушка, ее французский изобиловал идиоматическими оборотами, но был слишком гладок, как любой хорошо заученный язык. Когда они устроились на нижнем этаже, в номере с высокими французскими окнами, через которые лились потоки света, она открыла одно из них и, спустившись по ступенькам, шагнула на каменную веранду, опоясывавшую все здание. У нее была походка балерины, она не переносила тяжесть тела с одного бедра на другое, а словно бы несла ее на пояснице. Горячий свет вмиг сжал ее тень, и девушка попятилась – глазам было больно смотреть. Впереди, ярдах в пятидесяти, Средиземное море миг за мигом уступало жестокому светилу свою синеву; под балюстрадой на подъездной аллее жарился на солнце выцветший «бьюик».
В сущности, на всем побережье лишь этот пляж оживляло человеческое присутствие. Три британские няни вплетали устаревшие узоры викторианской Англии – сороковых, шестидесятых и восьмидесятых годов – в свитера и носки, которые они вязали под жужжание пересудов, однообразное, как литании; ближе к воде под полосатыми пляжными зонтами расселось человек десять-двенадцать, такая же немногочисленная стайка детей гонялась на мелководье за непугаными рыбками, несколько ребятишек, блестя натертыми кокосовым маслом телами, голышом загорали на солнце.
Как только Розмари вступила на пляж, мальчик лет двенадцати пронесся мимо нее и, торжествующе вопя, с разбега плюхнулся в море. Испытывая неловкость под пристальными взглядами незнакомых людей, она сбросила купальный халат и тоже вошла в воду. Несколько ярдов она проплыла, опустив лицо в воду, но обнаружила, что у берега слишком мелко, и, встав на дно, побрела вперед, с трудом преодолевая сопротивление воды стройными ногами. Зайдя выше пояса, оглянулась: стоя на берегу, лысый мужчина в купальном трико, с обнаженной волосатой грудью и пупком-воронкой, из которой тоже торчал пучок волос, внимательно наблюдал за ней в монокль. Встретившись взглядом с Розмари, он отпустил монокль, тут же скрывшийся в волосяных дебрях его груди, и налил в бокал что-то из бутылки, которую держал в руке.
Окунув голову, Розмари поплыла рубящим четырехударным кролем к плотику. Вода объяла ее, ласково укрыв от жары, просочилась сквозь волосы и проникла во все складки тела. Розмари обнимала ее, ввинчивалась в нее, качалась на ней в ритм волнам. Доплыв до плотика, она порядком запыхалась, но с плотика на нее смотрела загорелая дама с ослепительно белыми зубами, и, внезапно осознав неуместную бледность собственного тела, Розмари перевернулась на спину и, отдавшись течению, заскользила к берегу. Когда она вышла из воды, волосатый мужчина с бутылкой заговорил с ней:
– Хочу предупредить: там, за рифами, водятся акулы. – Национальность мужчины определить было трудно, но в его английском явно слышался протяжный оксфордский акцент. – Вчера в Гольф-Жуане они слопали двух британских моряков.
– Боже праведный! – воскликнула Розмари.
– Они подплывают к кораблям за отбросами, – пояснил мужчина.
Бесстрастность его взгляда, видимо, должна была свидетельствовать, что он всего лишь хотел предостеречь новенькую; отойдя на два коротких шажка, он снова наполнил бокал.
Не без приятности смутившись, поскольку этот разговор привлек к ней некоторое внимание окружающих, Розмари огляделась в поисках места, где можно было бы приземлиться. Каждое семейство явно считало лоскуток пляжа непосредственно вокруг зонта своим владением; однако отдыхающие постоянно переговаривались, ходили друг к другу в гости, и между ними царила свойская атмосфера, вторгнуться в которую было бы проявлением бесцеремонности. Подальше от воды, там, где пляж был покрыт галькой и засохшими водорослями, собралась компания таких же бледнокожих, как она сама. Они укрывались не под огромными пляжными, а под маленькими ручными зонтами и, очевидно, не были здесь аборигенами. Розмари отыскала местечко между теми и другими, расстелила на песке халат и улеглась на него.
Поначалу она слышала только слитный гул голосов, чувствовала, когда рядом, обходя ее, шаркали чьи-то ноги и тень на мгновение заслоняла от нее солнце. В какой-то момент горячее нервное дыхание любопытной собаки пахну́ло ей в шею. Она ощущала, как от жары начинает пощипывать кожу, тихие вздохи обессилевших на исходе волн баюкали ее. Но вскоре она стала различать смысл речей и узнала, что некто Норт, которого пренебрежительно именовали «этим типом», накануне вечером похитил официанта в каннском кафе, чтобы распилить его надвое. Рассказчицей была седая дама в парадном туалете, видимо, не успевшая переодеться с предыдущего вечера: на голове у нее красовалась диадема, а с плеча свешивалась увядшая орхидея. Почувствовав смутную неприязнь к даме и всей ее компании, Розмари отвернулась от них.
С этой стороны ее ближайшей соседкой оказалась молодая женщина, лежавшая под крышей из нескольких зонтов и выписывавшая что-то из открытой перед ней на песке книги. Она спустила с плеч бретельки купального костюма, обнажив спину, медно-коричневый загар которой оттеняла сиявшая на солнце нитка кремового жемчуга. В красивом лице женщины угадывались одновременно жесткость и жалобность. Она встретилась глазами с Розмари, но не видела ее. За ней сидел статный мужчина в жокейском кепи и красном полосатом трико; дальше – женщина, которую Розмари видела на плотике, эта в отличие от первой ответила на ее взгляд; еще дальше – мужчина с вытянутым лицом и золотистой львиной шевелюрой, он был в синем трико, без головного убора и вел какую-то серьезную беседу с молодым человеком определенно романского происхождения в черном трико, при этом оба просеивали сквозь пальцы песок, выбирая из него кусочки водорослей. Розмари решила, что большинство этих людей – американцы, но что-то отличало их от тех американцев, с которыми ей доводилось общаться в последнее время.
Понаблюдав за компанией, она догадалась, что мужчина в жокейском кепи дает небольшое представление; он с мрачным видом ходил вокруг с граблями, делая вид, что сгребает гальку, а между тем, сохраняя невозмутимо серьезное выражение лица, явно разыгрывал некий понятный лишь посвященным бурлеск. Несоответствие было настолько уморительным, что в конце концов уже каждая его фраза вызывала бурные взрывы хохота. Даже те, кто, как она сама, находились слишком далеко, чтобы слышать, что он говорит, стали настраивать на него антенны внимания, пока единственным на всем пляже не вовлеченным в игру человеком не осталась молодая женщина с ниткой жемчуга на шее. Вероятно, скромность обладательницы заставляла ее с каждым новым залпом веселья лишь ниже склоняться над своими заметками.
Внезапно словно бы с неба над головой Розмари раздался голос человека с моноклем и бутылкой:
– А вы отличная пловчиха.
Розмари попыталась возразить.
– Нет, правда, просто великолепная. Моя фамилия Кэмпьон. Среди нас есть дама, которая говорит, что видела вас на прошлой неделе в Сорренто, знает, кто вы, и была бы очень рада с вами познакомиться.
Скрывая досаду, Розмари оглянулась и заметила, что незагорелая компания выжидательно наблюдает. Она нехотя встала и пошла за Кэмпьоном.
– Миссис Эбрамс… Миссис Маккиско… Мистер Маккиско… Мистер Дамфри…
– А мы знаем, кто вы, – не удержалась дама в вечернем туалете. – Вы Розмари Хойт, я узнала вас по Сорренто, и портье подтвердил; мы все в восторге от вас и хотели бы спросить, почему вы не возвращаетесь в Америку, чтобы сняться еще в каком-нибудь замечательном фильме.
Несколько человек жестами пригласили ее сесть рядом. Дама, которая узнала Розмари, несмотря на фамилию, не была еврейкой. Она являла собой образчик тех «бодрых старушек», которые хорошо сохраняются и плавно перетекают в следующее поколение благодаря своей непробиваемости и отличному пищеварению.
– Мы хотели предупредить вас, что в первый день ничего не стоит незаметно для себя обгореть, – продолжала весело щебетать дама, – а вы должны заботиться о своей коже. Но здесь, похоже, придают такое значение чертову этикету, что мы не знали, как вы к этому отнесетесь.
II
– Мы подумали: вдруг вы тоже участвуете в заговоре, – вклинилась миссис Маккиско, хорошенькая молодая женщина с лживыми глазами, обладавшая обескураживающим напором. – Мы не знаем, кто в нем замешан, а кто нет. Человек, к которому мой муж отнесся с особым расположением, оказался одним из главных персонажей – фактически вторым после героя.
– В заговоре? – непонимающе переспросила Розмари. – Здесь существует какой-то заговор?
– Дорогая моя, мы не знаем, – подхватила миссис Эбрамс, судорожно кудахтнув, как свойственно тучным женщинам. – Мы в нем не участвуем. Мы – галерка.
Мистер Дамфри, женоподобный молодой человек с волосами, похожими на паклю, заметил:
– Матушка Эбрамс сама – сплошной заговор.
Кэмпьон погрозил ему моноклем:
– Но-но, Роял, не сгущайте краски.
Розмари чувствовала себя не в своей тарелке и жалела, что рядом нет матери. Ей не нравились эти люди, особенно при непосредственном сравнении с теми, на другом конце пляжа, которые заинтересовали ее. Скромный, но неоспоримый талант общения, которым обладала ее мать, не раз вызволял их из нежелательных ситуаций быстро и решительно. Но знаменитостью Розмари стала всего каких-нибудь полгода назад, и порой французские манеры ее ранней юности и наложившиеся на них позднее демократические нравы Америки еще приходили в столкновение, заводя ее в подобные обстоятельства.
Мистеру Маккиско, сухопарому рыжеволосому, веснушчатому мужчине лет тридцати, тема «заговора» не казалась занятной. В продолжение разговора он сидел, уставившись на море, но теперь, метнув молниеносный взгляд на жену, повернулся к Розмари и с некоторым вызовом спросил:
– Вы здесь давно?
– Первый день.
– А-а…
Очевидно, желая убедиться, что тема заговора закрыта, он поочередно обвел взглядом присутствующих.
– Собираетесь провести здесь все лето? – невинно поинтересовалась миссис Маккиско. – Если так, то вы сможете увидеть, чем разрешится заговор.
– Господи, Вайолет, да оставь ты эту тему! – взорвался ее муж. – Ради Бога, придумай новую шутку!
Миссис Маккиско наклонилась к миссис Эбрамс и шепнула, но так, чтобы слышали все:
– У него нервы пошаливают.
– Ничего они не пошаливают, – огрызнулся мистер Маккиско. – Я, можно сказать, вообще никогда не нервничаю.
Внутри у него все кипело, и это было видно – лицо залилось серо-бурой краской, лишившей его какого бы то ни было внятного выражения. Осознав, как выглядит, он резко встал и направился к воде, жена поспешила следом; воспользовавшись случаем, за ними отправилась и Розмари.
Сделав глубокий вдох, мистер Маккиско бросился в мелкую воду и скованными движениями, которые, видимо, должны были имитировать кроль, стал молотить Средиземноморье руками. Быстро выдохшись, он встал и огляделся, явно удивленный тем, что берег еще виден.
– Я пока не научился правильно дышать, – сказал он. – Никогда не мог понять, как это делается. – Он вопросительно взглянул на Розмари.
– Насколько я знаю, выдыхать следует в воду, – объяснила она. – А на каждом четвертом гребке поворачивать голову вбок и делать вдох.
– Дыхание – это для меня самое трудное. Поплыли к плотику?
Мужчина с львиной гривой лежал на плотике, который раскачивался на волнах. В тот момент, когда миссис Маккиско подплыла к нему, край плотика приподнялся и резко ударил ее в плечо, мужчина быстро вскочил и вытащил ее из воды.
– Я испугался, как бы он вас не прихлопнул. – Он говорил тихо и как-то робко; у него было самое печальное лицо, какое доводилось видеть Розмари: высокие, как у индейца, скулы, длинная верхняя губа и огромные глубоко посаженные глаза цвета потускневшего старого золота. Он произносил слова уголком рта, как будто хотел, чтобы они достигли ушей миссис Маккиско кружным, деликатным путем; минуту спустя, оттолкнувшись от плотика, он врезался в воду, и его длинное тело, казавшееся неподвижным, заскользило к берегу.
Розмари и миссис Маккиско наблюдали за ним. Когда сила инерции иссякла, он резко согнулся пополам, его узкие бедра на миг показались над водой, и мужчина тут же исчез под ее поверхностью, оставив позади себя лишь слабый пенный след.
– Отлично плавает, – восхитилась Розмари.
Ответ миссис Маккиско прозвучал неожиданно гневно:
– Зато музыкант он никудышный. – Она повернулась к мужу, которому после двух неудачных попыток удалось все же взобраться на плотик и который, обретя равновесие, попытался в порядке компенсации за свою неуклюжесть принять непринужденную позу, однако добился лишь того, что с трудом удержался на ногах. – Я только что сказала, что Эйб Норт, может, и хороший пловец, но скверный музыкант.
– Ну да, – нехотя согласился Маккиско. Видимо, определять круг суждений жены он считал своей прерогативой и вольности позволял ей редко.
– Мой кумир – Антейль. – Миссис Маккиско задиристо повернулась к Розмари. – Антейль и Джойс. Полагаю, вы мало что слышали о них у себя в Голливуде, но мой муж был первым в Америке человеком, написавшим критическую статью об «Улиссе».
– Жаль, нет сигарет, – примирительно сказал Маккиско. – Больше всего на свете мне сейчас хочется покурить.
– У него есть нутро, ведь правда, Альберт?
Она внезапно осеклась. У берега со своими двумя детьми купалась женщина в жемчугах; подплыв под одного из малышей, Эйб Норт поднял его из воды на плечах, как вулканический остров. Ребенок визжал от страха и удовольствия; женщина наблюдала за ними с ласковым спокойствием, но без улыбки.
– Это его жена? – спросила Розмари.
– Нет, это миссис Дайвер. Они не живут в отеле. – Ее глаза, словно объектив фотоаппарата, не отрывались от лица женщины. Спустя несколько мгновений она резко повернулась к Розмари.
– Вы прежде бывали за границей?
– Да, я училась в школе в Париже.
– О! Тогда вы наверняка знаете: если хочешь сделать свое пребывание здесь приятным, нужно завести знакомства среди истинных французов. А что делают эти люди? – Она повела плечом в сторону берега. – Сбиваются в кучки и липнут друг к другу. Ну, у нас, конечно, были рекомендательные письма, поэтому мы познакомились в Париже с самыми известными художниками, писателями и прекрасно провели там время.
– Не сомневаюсь.
– Видите ли, мой муж заканчивает свой первый роман.
– Что вы говорите? – вежливо отозвалась Розмари. Ее мало интересовала тема разговора, она думала лишь о том, удалось ли ее матери заснуть в такую жару.
– Он основан на том же принципе, что и «Улисс», – продолжала миссис Маккиско. – Только вместо скитаний длиной в одни сутки мой муж берет промежуток времени в сто лет. У него немощный старый французский аристократ переживает столкновение с веком технического прогресса…
– Вайолет, ради Бога, перестань рассказывать всем и каждому замысел моего романа, – взмолился Маккиско. – Я не хочу, чтобы все узнали его содержание еще до того, как он выйдет.
Доплыв до берега, Розмари накинула халат на уже саднившие плечи и снова улеглась на солнце. Мужчина в жокейском кепи обходил теперь своих друзей с бутылкой и маленькими стаканчиками; за время ее отсутствия компания развеселилась и собралась под общей крышей, составленной из всех зонтов. Розмари догадалась, что они провожают кого-то, кто собрался уезжать. Даже дети почувствовали, что под этим импровизированным навесом происходит что-то веселое и волнующее, и стали подтягиваться туда. Было ясно, что заводилой в компании является мужчина в жокейском кепи.
Над морем и небом теперь властвовал полдень – даже дальние контуры Канна солнце выбелило настолько, что они казались миражом, обманчиво манившим свежестью и прохладой; красногрудый, как малиновка, парусник, направлявшийся в бухту, тянул за собой темный шлейф из открытого, еще не вылинявшего моря. Казалось, жизнь замерла на всем прибрежном пространстве, кроме этого защищенного от солнца зонтами пестрого, рокочущего голосами клочка пляжа, где что-то происходило.
Кэмпьон подошел и остановился в нескольких шагах от Розмари, она закрыла глаза и притворилась спящей, но сквозь щелочку между веками ей был нечетко виден смазанный силуэт двух ног-столбов. Человек попытался влезть в маячившее перед ней облако песочного цвета, но оно уплыло в необъятное раскаленное небо. Розмари и впрямь заснула.
Проснулась она вся в поту и увидела, что пляж почти опустел, остался только мужчина в жокейском кепи, складывавший последний зонтик. Когда Розмари, продолжая лежать, заморгала спросонку, он подошел и сказал:
– Я собирался разбудить вас перед уходом. Вредно в первый же день так долго жариться на солнце.
– Благодарю вас. – Розмари взглянула на свои малиновые ноги. – Боже мой!
Она весело рассмеялась, приглашая его к разговору, но Дик Дайвер уже нес складную кабинку и зонты к стоявшему неподалеку автомобилю, поэтому она встала и отправилась ополоснуться в море. Тем временем он вернулся, подобрал грабли, лопату, сито и засунул их в расщелину скалы, после чего окинул взглядом пляж, проверяя, не осталось ли чего-нибудь еще.
– Не знаете, который теперь час? – крикнула ему из воды Розмари.
– Около половины второго.
Оба они несколько секунд, повернувшись лицом к воде, смотрели на море.
– Неплохое время, – сказал Дик Дайвер. – Не худшее в сутках.
Он перевел взгляд на нее, и на мгновение она с готовностью, доверчиво погрузилась в яркую синеву его глаз. Потом он взвалил на плечо оставшиеся пляжные пожитки и зашагал к машине, а Розмари, выйдя на берег, подняла с песка халат, встряхнула его, надела и пошла в отель.
III
Было почти два, когда они вошли в ресторан. По опустевшим столам гулял замысловатый плотный узор из теней и света, повторявший колыхание сосновых ветвей снаружи. Два официанта, собиравшие тарелки и громко переговаривавшиеся по-итальянски, при виде их замолчали и поспешно подали то, что осталось от обеденного табльдота.
– Я влюбилась на пляже, – объявила Розмари.
– В кого?
– Сначала в целую компанию людей, показавшихся мне очень симпатичными. А потом – в одного мужчину.
– Ты с ним познакомилась?
– Так, чуть-чуть. Он очень хорош. Рыжеватый такой. – Рассказывая, она ела с отменным аппетитом. – Но он женат – вечная история.
Мать была ее лучшим другом и вкладывала в нее все, что имела, – в театральных кругах явление не столь уж редкое, однако в отличие от других матерей миссис Элси Спирс делала это вовсе не из желания вознаградить себя за собственные жизненные неудачи. Два вполне благополучных брака, оба закончившиеся вдовством, не оставили в ее душе ни малейшего привкуса горечи или обиды, а лишь укрепили свойственный ей жизнерадостный стоицизм. Один из ее мужей был кавалерийским офицером, другой – военным врачом, и оба оставили ей кое-какие средства, которые она свято берегла для Розмари. Не балуя дочь, она закалила ее дух, не жалея собственных трудов и любви, воспитала в ней идеализм, который теперь обернулся благом для нее самой: Розмари смотрела на мир ее глазами. Таким образом, оставаясь по-детски непосредственной, Розмари оказалась защищена двойной броней: материнской и собственной – она обладала зрелым чутьем на все мелкое, поверхностное и пошлое. Тем не менее теперь, после стремительного успеха дочери в кино, миссис Спирс почувствовала, что пора духовно отлучить ее от груди; ее бы не только не огорчило, но порадовало, если бы свой неокрепший, пылкий, требовательный идеализм Розмари сосредоточила на чем-то, кроме нее.
– Значит, тебе здесь понравилось? – спросила она.
– Наверное, здесь можно было бы неплохо провести время, если познакомиться с теми людьми, о которых я сказала. Там были еще и другие, но те мне неприятны. А они меня узнали, удивительно – куда ни приедешь, оказывается, все видели «Папину дочку».
Миссис Спирс переждала этот всплеск самолюбования и деловито сказала:
– Кстати, когда ты собираешься встретиться с Эрлом Брейди?
– Думаю, мы могли бы съездить к нему сегодня, если ты отдохнула.
– Поезжай одна, я не поеду.
– Ну, тогда можно отложить до завтра.
– Я хочу, чтобы ты поехала одна. Это недалеко, и ты прекрасно говоришь по-французски.
– Мама, но могу я чего-то не хотеть?
– Ладно, поезжай в другой раз, но обязательно повидайся с ним до нашего отъезда.
– Хорошо, мама.
После обеда их внезапно охватила скука, которая часто посещает путешествующих американцев в тихих чужеземных уголках. В такие моменты не срабатывают никакие внешние побудители, никакие голоса извне до них не доходят, никаких отголосков собственных мыслей они не улавливают в разговорах с другими, и, тоскующим по бурной жизни империи, им кажется, что здесь жизнь просто умерла.
– Мама, давай не задерживаться тут больше трех дней, – сказала Розмари, когда они вернулись к себе в номер. Снаружи повеял легкий ветерок, который стал гонять жару по кругу, процеживать ее сквозь листву деревьев и через щели в ставнях засылать маленькие горячие клубы в комнату.
– А как же тот человек, в которого ты влюбилась на пляже?
– Мамочка, дорогая, не люблю я никого, кроме тебя.
Выйдя в вестибюль, Розмари попросила у папаши Госса расписание поездов. Консьерж в форме цвета хаки, бездельничавший возле стойки, уставился на нее в упор, но тут же вспомнил о манерах, приличествующих человеку его профессии, и отвел взгляд. В автобус вместе с ней сели два вышколенных официанта, которые всю дорогу до железнодорожной станции хранили почтительное молчание, что вызывало у нее неловкость, ей так и хотелось сказать: «Ну же, разговаривайте, чувствуйте себя свободно, мне это ничуть не помешает».
В купе первого класса было душно; яркие рекламные плакаты железнодорожных компаний – виды римского акведука в Арле, амфитеатра в Оранже, картинки зимнего спорта в Шамони – выглядели куда свежее, чем нескончаемое неподвижное море за окном. В отличие от американских поездов, которые полностью погружены в собственную напряженную жизнь и безразличны к людям из внешнего, менее стремительного и головокружительного мира, этот поезд был плоть от плоти окружающего ландшафта. Его дыхание срывало пыль с пальмовых листьев, а зола смешивалась с сухим навозом, удобряя землю в огородах. Розмари нетрудно было представить, как она, свесившись из окна, рвет цветы.
На площади перед каннским вокзалом с десяток наемных экипажей ожидали пассажиров. За площадью, вдоль Променада, тянулись казино, фешенебельные магазины и величественные отели, обращенные в сторону летнего моря своими бесстрастными железными масками. Почти невозможно было поверить, что здесь бывает «сезон», и Розмари, не чуждая требованиям моды, немного смутилась – словно она проявила нездоровый интерес к покойнику; ей казалось, что люди недоумевают: зачем она оказалась здесь в период спячки между весельями предыдущей и предстоящей зим, в то время как где-то на севере сейчас кипит настоящая жизнь.
Когда Розмари вышла из аптеки с флаконом кокосового масла, дама, в которой она узнала миссис Дайвер, с охапкой диванных подушек в руках перешла дорогу прямо перед ней и направилась к машине, припаркованной чуть дальше по улице. Длинная коротконогая такса приветственно залаяла, увидев хозяйку, и задремавший шофер испуганно вскинулся. Дама села в машину. Она прекрасно владела собой: выражение ее красивого лица было непроницаемо, смелый зоркий взгляд направлен вперед, в пустоту. На ней было ярко-красное платье, из-под которого виднелись загорелые ноги без чулок. Густые темные волосы отливали золотом, словно шерсть чау-чау.
Поскольку обратный поезд отходил только через полчаса, Розмари зашла в «Кафе дез Алье» на набережной Круазетт и села за один из столиков под сенью деревьев; оркестр развлекал разнонациональную публику «Карнавалом в Ницце» и прошлогодним американским шлягером. Она купила для матери «Ле Тамп» и «Сэтердей ивнинг пост» и теперь, развернув последнюю и потягивая лимонад, углубилась в чтение мемуаров какой-то русской княгини, чье описание уже затуманенных пеленой лет обычаев девяностых показалось Розмари более реальным и близким, нежели заголовки сегодняшней французской газеты. Это было сродни настроению, которое накатило на нее в отеле, – ей, не наученной самостоятельно выделять суть событий, привыкшей видеть вокруг себя в Америке гротескность, лишенную нюансов, четко помеченную знаком либо комедии, либо трагедии, французская жизнь начинала казаться пустой и затхлой. Ощущение усиливалось тоскливой музыкой, напоминавшей меланхолические мелодии, под которые в варьете выступают акробаты. Она с радостью вернулась в отель Госса.
Из-за ожога плеч весь следующий день она не могла купаться, поэтому они с матерью – основательно поторговавшись, поскольку во Франции Розмари научилась считать деньги, – наняли машину и поехали вдоль Ривьеры, представляющей собой дельту множества рек. Водитель, напоминавший русского боярина эпохи Ивана Грозного, вызвался быть их гидом, и блистательные названия – Канн, Ницца, Монте-Карло – засверкали вновь сквозь покров оцепенения, нашептывая легенды о королях давнишних времен, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, метавших под ноги английским балеринам самоцветы глаз Будды, о русских князьях, лелеявших здесь воспоминания об утраченном балтийском прошлом с его икорным изобилием. Отчетливей других на побережье ощущался русский дух – повсюду встречались русские книжные магазины и бакалейные лавки, правда, сейчас закрытые. Тогда, десять лет назад, когда сезон заканчивался в апреле, двери православных церквей запирались, а сладкое шампанское, которое так любили русские, убиралось в погреба до их возвращения. «Мы вернемся на будущий год», – говорили они, прощаясь, но то были несбыточные обещания: они не приезжали больше никогда.
Приятно было ехать обратно в отель на закате дня над морем, таинственно окрасившимся в памятные с детства цвета агатов и сердоликов – молочно-зеленый, как молоко в зеленой бутылке, голубоватый, как вода после стирки, винно-красный. Приятно было видеть людей, трапезничающих перед домом, и слышать громкие звуки механического пианино, доносившиеся из-за оплетенных виноградом изгородей деревенских кабачков. Когда, свернув с Корниш д’Ор, они покатили по дороге, ведущей к отелю Госса, мимо темнеющих в окрестных огородах древесных шпалер, луна уже взошла над развалинами древнего акведука…
Где-то в горах за отелем шло гулянье с танцами, призрачный лунный свет лился сквозь москитную сетку, Розмари слушала музыку и думала о том, что где-то поблизости, вероятно, тоже идет веселье, – она вспомнила симпатичную пляжную компанию. Возможно, утром она с ними встретится снова, но совершенно очевидно, что у них свой замкнутый кружок, и та часть пляжа, на которой они рассядутся со своими зонтиками, бамбуковыми ковриками, собаками и детьми, будет словно бы обнесена забором. Но в любом случае она твердо решила: с той, другой, компанией она оставшиеся два утра проводить не станет.
IV
Все уладилось само собой. Маккиско на пляже еще не было, и не успела она расстелить на песке халат, как двое мужчин – тот, что в жокейском кепи, и высокий блондин, предположительно распиливший надвое официанта, – отделились от группы и подошли к ней.
– Доброе утро, – сказал Дик Дайвер, склонившись к ней. – Послушайте, ожог – не ожог, но почему вас вчера целый день не было? Мы беспокоились.
Она села и счастливо рассмеялась, давая понять, что рада их вторжению.
– Мы ждали, появитесь вы сегодня или нет, – продолжал Дик Дайвер. – Присоединяйтесь к нам, у нас есть что выпить и чем закусить, так что предложение стоящее.
Он был добр и обаятелен – в его голосе слышалось обещание опекать, а чуть позже открыть для нее целые новые миры и развернуть бесконечную череду восхитительных возможностей. Он ухитрился представить ее своим друзьям, не упомянув имени, но изящно дав понять, что все знают, кто она, однако безоговорочно уважают неприкосновенность ее частной жизни, – с такой деликатностью, если не считать некоторых коллег, Розмари не сталкивалась с тех пор, как обрела известность.
Николь Дайвер – ее загорелая спина походила на атласную мантию, украшенную жемчужным ожерельем, – искала в кулинарной книге рецепт цыпленка по-мэрилендски. На взгляд Розмари, ей было года двадцать четыре, ее лицо можно было бы назвать красивым в общепринятом смысле, если бы не странный эффект: словно бы поначалу оно было задумано по героическому канону – четкие, строгие пропорции, высокий ясный лоб, естественные краски и выразительная лепка черт, выдающая силу характера и скрытый темперамент, – все в соответствии с роденовскими образцами, а потом скульптор как будто отклонился в сторону миловидности до такой степени, что казалось: еще одно движение резца – и значительность облика будет непоправимо умалена. Отчаянная борьба скульптора с самим собой была особенно заметна в линии рта: даже в купидоновом, как у красавицы с журнальной обложки, бантике губ угадывались та же строгость и решительность, что и в остальных чертах.
– Вы здесь надолго? – спросила Николь. Голос у нее был низкий, едва ли не грубый.
Розмари вдруг пришло в голову, что можно было бы задержаться на недельку.
– Не очень, – ответила она уклончиво. – Мы уже давно путешествуем: в марте высадились на Сицилии и медленно двигаемся на север. В январе на съемках я подхватила пневмонию и вот теперь восстанавливаю силы.
– Господи! Как это случилось?
– Вынужденное купание. – Розмари не хотелось пускаться в откровения. – У меня уже был грипп, но я этого не знала, а в Венеции как раз снималась сцена, в которой я ныряю в канал. Декорация была очень дорогой, поэтому нельзя было терять время, пришлось нырять, нырять и нырять все утро. Мама сразу же вызвала врача, но оказалось поздно, у меня уже развилось воспаление легких. – И прежде чем кто-нибудь успел вставить слово, она решительно сменила тему: – А вам это место нравится?
– У них нет другого выхода, – спокойно ответил Эйб Норт. – Они же сами его придумали. – Он медленно повернул благородную голову, остановив взгляд, исполненный нежной привязанности, на чете Дайверов.
– Вот как?
– Этот отель не закрывается на лето полностью всего второй сезон, – пояснила Николь. – Мы уговорили Госса оставить одного повара, одного официанта и одного посыльного – расходы окупились, а в этом году дела пошли еще лучше.
– Но вы сами ведь не живете в отеле?
– У нас дом наверху, в Тарме.
– Мы исходили из того, – сказал Дик, переставляя зонт так, чтобы закрыть им солнечный квадрат на плече Розмари, – что северные курортные города, такие как Довиль, будут популярны среди русских и англичан, которые не боятся холода, а добрая половина нас, американцев, живет в тропическом климате. Вот почему мы и начали ездить сюда.
Молодой человек с романской внешностью листал «Нью-Йорк геральд».
– Интересно, какой национальности эти люди? – спросил он вдруг и прочел вслух с легкой французской интонацией: – «В отеле “Палас” в Веве остановились мистер Пэндели Власко, мадам Бонн-эсс[2], – я не придумываю, так написано, – Коринна Медонка, мадам Паще, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мойзес Тёбел, мадам Парагорис, Апостол Александр, Йоланда Йосфуглу и Геневева де Момус». Вот эта Геневева де Момус интригует больше всего. Хоть езжай в Веве, чтобы посмотреть на нее.
Неожиданно он вскочил, одним резким движением выпрямив тело. Он был на несколько лет моложе Дайвера и Норта, высок ростом; несмотря на упругость мышц, слишком худощав, однако мощные плечи и руки выдавали его силу. На первый взгляд всякий признал бы его красивым, но было в его лице постоянное выражение легкой брезгливости, которое портило впечатление, даже несмотря на лучистое сияние карих глаз. Тем не менее задним числом забывались и капризно изогнутые губы, и морщинки вечного недовольства и раздражения на юношеском лбу, помнились лишь эти неистово сияющие глаза.
– На прошлой неделе мы нашли в объявлениях и несколько забавных американских имен, – сказала Николь. – Миссис Ивлин Ойстер[3] и… кто там еще?
– Еще был мистер С. Флеш[4], – подхватил Дайвер, тоже вставая. Он взял грабли и начал с серьезным видом вычесывать камешки из песка.
– Да уж, без содрогания и не выговоришь.
Розмари чувствовала себя спокойной в присутствии Николь – даже спокойней, чем рядом с матерью. Эйб Норт и француз Барбан разговаривали о Марокко, Николь, списав рецепт, принялась за шитье. Розмари окинула взглядом их пляжные принадлежности: четыре сдвинутых больших зонта, заменявшие теневой навес, складная кабинка для переодевания, надувная резиновая лошадка – плоды послевоенного бума производства, роскошные новинки, каких Розмари еще не видела; вероятно, ее новые знакомые были одними из первых покупателей. Она догадалась, что они принадлежат к так называемой избранной публике, но, хоть мать и приучила ее считать таких людей тунеядцами, никакой неприязни к ним не испытывала. Даже в их неподвижности, абсолютной, как неподвижность этого утра, она угадывала некую цель, осмысленность существования, устремленность к чему-то, акт творчества, отличный от всего того, что она видела до тех пор. Ее незрелый ум не пытался вникнуть в природу тех связей, что скрепляли их, ее занимало лишь, как они отнесутся к ней, тем не менее интуитивно она ощущала, что существует сложная сеть приятных взаимоотношений, которые объединяли их и которую она мысленно определила для себя простодушной формулой «очень славно проводят время вместе».
Она обвела взглядом трех мужчин, поочередно останавливаясь на каждом. Все они были по-своему привлекательны; всех отличала особая мягкость, которая, как она чувствовала, являлась естественным результатом воспитания, никак не обусловленным внешними событиями, это было совсем не похоже на привычное поведение актеров; отметила она и присущий им такт, отличавший их манеры от панибратски-грубоватых ухваток режиссеров, которые в ее жизни представляли интеллектуальную часть общества. Актеры и режиссеры были единственными мужчинами, которых она знала до сих пор, если не считать однородную, неразличимую массу особ мужского пола, интересующихся только любовью с первого взгляда, – со многими из них она познакомилась прошлой осенью в Йеле на студенческом балу.
Эти трое были совершенно иными. Барбан – менее сдержанный, склонный к скептицизму и сарказму, его воспитанность казалась формальной, чтобы не сказать поверхностной, данью этикету. За внешней робостью Эйба Норта таился бесшабашный юмор, который забавлял, но и смущал Розмари. Будучи по натуре девушкой серьезной, она сомневалась, что способна произвести впечатление на такого человека.
Зато Дик Дайвер представлялся ей совершенством. Она безмолвно восхищалась им. Его загорелое, чуть обветренное лицо приобрело красноватый оттенок, такой же, какой имели его коротко остриженная шевелюра и легкая поросль на руках. Глаза были холодно-синими и блестящими. Нос – чуть заостренным. И когда он с кем-нибудь разговаривал, ни у кого не возникало сомнений, к кому он обращается и на кого смотрит, – такое внимание всегда льстит, потому что кто же на нас смотрит по-настоящему внимательно? Обычно люди лишь скользят по тебе взглядом, любопытным или безразличным, не более того. Голос его чаровал собеседника, однако за располагающей ирландской мелодичностью Розмари угадывала твердость, самоконтроль и самодисциплину – достоинства, которые ценила в себе самой. Да, из всех она выбрала его, и Николь, услышав тихий вздох сожаления о том, что он принадлежит другой, взглянула на нее и все поняла.
Ближе к полудню на пляже появились чета Маккиско, миссис Эбрамс, мистер Дамфри и сеньор Кэмпьон. Они принесли с собой новый зонт, установили его, искоса поглядывая на компанию Дайверов, и с самодовольным видом забрались под него – все, кроме мистера Маккиско, демонстративно пренебрегшего тенью. Продолжая прочесывать граблями песок, Дик прошел в непосредственной близости от них и вернулся к своим.
– Двое молодых людей вместе читают «Правила этикета», – доложил он, понизив голос.
– Готовятся внедриться в фешенебельное общество, – иронически заметил Эйб.
Мэри Норт, женщина с великолепным загаром, которую Розмари в первый день видела на плотике, выйдя из воды, присоединилась к компании и с лукавой улыбкой сказала:
– Итак, прибыли мистер и миссис Бестрепетные.
– Не забывай: они друзья этого человека, – напомнила ей Николь, указывая на Эйба. – Удивляюсь, что он еще не идет поболтать с ними. Разве вам не кажется, что они очаровательны, Эйб?
– Кажется, – согласился Эйб. – Только я не думаю, что они на самом деле очаровательны.
– Я предчувствовала, что этим летом на пляже будет слишком много народу, – призналась Николь. – На нашем пляже, который Дик сотворил на месте груды камней. – Она помолчала и, снизив голос так, чтобы ее не услышало трио нянь, сидевших под соседним зонтом, добавила: – Но все равно этих я предпочитаю тем англичанам, которые прошлым летом никому не давали здесь покоя своими ахами и охами: «Ах, посмотрите, какое синее море! Ах, посмотрите, какое белое небо! Ох, посмотрите, как у малышки Нелли покраснел носик!»
«Не хотела бы я иметь Николь своим врагом», – подумала Розмари.
– Вы еще драки не видели, – продолжала Николь. – За день до вашего приезда муж со странной фамилией, которая звучит как название марки бензина или масла…
– Маккиско?
– Да. Так вот, они повздорили, и она бросила ему в лицо пригоршню песка. Тогда он придавил ее и стал возить по песку физиономией. Мы просто обалдели. Я даже хотела, чтобы Дик вмешался.
– Думаю, – неторопливо произнес Дик Дайвер, все время разговора сидевший, безучастно уставившись в соломенную циновку, – мне следует пойти и пригласить их на ужин.
– Ты шутишь! – испуганно воскликнула Николь.
– Нет. Думаю, это прекрасная мысль. Раз уж они здесь, нужно приноровиться к ним.
– А мы и так прекрасно приноровились, – смеясь, не сдавалась Николь. – Я не хочу, чтобы меня тоже ткнули носом в песок. Я женщина злобная и необщительная, – шутливо пояснила она Розмари и крикнула: – Дети, надевайте купальники!
Розмари вдруг почувствовала, что это купание станет в ее жизни символическим и впоследствии при упоминании о купании она всегда будет вспоминать именно его. Вся компания дружно направилась к воде, более чем подготовленная долгим вынужденным бездействием к тому, чтобы с восторгом гурмана, смакующего острое карри под ледяное белое вино, из жары окунуться в прохладу. Дайверы проводили свои дни так, как это было принято у людей древних цивилизаций: они извлекали максимум из того, чем располагали, и полностью отдавались смене ощущений; Розмари пока не знала, что вскоре ей предстоит еще одна такая смена – переход от абсолютной обособленности пловца к оживленной общей болтовне прованского обеденного часа. Но ей не переставало казаться, что Дик опекает ее, и она с восторгом и готовностью откликалась на любое случайное движение, как если бы выполняла приказ.
Николь завершила работу над неким странным предметом одежды и вручила его мужу. Дик зашел в кабинку и, выйдя оттуда минуту спустя в черных прозрачных кружевных панталонах, вызвал всеобщее смятение. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что панталоны были посажены на подкладку телесного цвета.
– Черт возьми, это выходка педераста! – презрительно воскликнул мистер Маккиско, но, спохватившись, поспешно обернулся к мистеру Дамфри и мистеру Кэмпьону и добавил: – О, прошу прощения.
Розмари при виде экстравагантных панталон с восхищением пробормотала что-то неразборчивое. Она со своей наивностью всем сердцем отзывалась на недешево обходившуюся простоту Дайверов, не отдавая себе отчета в том, что не так уж она проста и невинна, не понимая, что выбор на ярмарке жизни сделан по признаку качества, а не количества и что все прочее – непосредственность поведения, детская безмятежность и доброжелательность, упор на простые добродетели – все было частью отчаянного торга с богами и обретено в такой борьбе, о какой она и понятия не имела. Стороннему взгляду Дайверы в тот момент представлялись форпостом эволюции своего класса, большинство людей рядом с ними выглядели нелепо, в действительности же качественная перемена уже произошла, но Розмари не было дано это видеть.
Когда она вместе с остальными угощалась хересом и крекерами, Дик Дайвер, глядя на нее холодными синими глазами, задумчиво произнес:
– Давно я не видел девушки, которая действительно напоминала бы нечто цветущее.
Позднее, уткнувшись лицом в колени матери, Розмари не могла сдержать рыданий.
– Я люблю его, мама. Я отчаянно в него влюблена – я даже представить себе не могла, что способна испытывать к кому-то подобное чувство. А он женат, и она мне тоже нравится. Полная безнадежность. О, как я его люблю!
– Интересно было бы познакомиться с ним.
– Он пригласил нас в пятницу на ужин.
– Если ты так влюблена, то должна чувствовать себя счастливой. Смеяться должна, а не плакать.
Розмари подняла голову. По ее лицу пробежала очаровательная гримаска, и она рассмеялась. Мать всегда имела на нее большое влияние.
V
В Монте-Карло Розмари отправилась в таком мрачном настроении, на какое только была способна. По неровным уступам горы машина поднялась к Ла-Тюрби и находившейся в процессе реконструкции старой киностудии компании «Гомон». Передав свою визитку и дожидаясь ответа перед ажурными чугунными воротами, Розмари чувствовала себя так, словно и не уезжала из Голливуда. Причудливые фрагменты уже разобранной декорации какой-то картины громоздились на площадке за воротами – захолустная улочка индийского городка, гигантский картонный кит, безобразное дерево с плодами, огромными, как баскетбольные мячи, которое, впрочем, здесь по некоему эксцентричному произволению казалось не более чужеродным, нежели бледный амарант, мимоза, пробковое дерево или карликовая сосна. В глубине виднелись палатка, где можно было быстро перекусить, и два студийных павильона, похожих на ангары, а вокруг повсюду томились в ожидании участники массовки с исполненными надежд раскрашенными лицами.
Прошло минут десять, прежде чем молодой человек с волосами канареечного цвета поспешно подбежал к воротам.
– Входите, мисс Хойт. Мистер Брейди на съемочной площадке, но он очень хочет вас видеть. Простите, что заставили вас ждать, но знаете, некоторые французские дамы, желающие сюда проникнуть, – это настоящее бедствие…
Студийный администратор открыл дверцу в глухой стене, и Розмари последовала за ним в полумрак павильона с неожиданно радостным ощущением, что она здесь своя. То там, то здесь из сумрака проступали человеческие фигуры, поворачивавшие к ней пепельно-серые лица, – словно души, наблюдавшие за шествием смертного через чистилище. Слышались шепот, приглушенные голоса, а откуда-то издали – тихое тремоло фисгармонии. Завернув за угол, представлявший собой какую-то фанерную выгородку, они вышли к залитой ярко-белым светом потрескивавших софитов сцене, на которой лицом к лицу застыли американская актриса и французский актер – манишка, воротник и манжеты его костюма отливали ярко-розовым свечением. Они в упор неотрывно смотрели друг на друга, и казалось, что в такой позиции пребывали уже не один час, тем не менее еще в течение довольно долгого времени ничего не происходило, актеры оставались неподвижны. Батарея светильников с устрашающим шипением погасла, потом зажглась снова; вдали – словно мольба пропустить в никуда – послышался жалобный стук дверного молоточка; между слепящими софитами возникло синюшное лицо, прокричавшее нечто неразборчивое вверх, во тьму. Потом прямо перед Розмари во вновь наступившей тишине раздался голос:
– Детка, чулки не снимай, можешь изорвать еще хоть десять пар. Это платье стоит пятнадцать фунтов.
Пятясь, говоривший наступал прямо на Розмари, и администратор предупреждающе крикнул:
– Эй, Эрл, осторожно, там мисс Хойт.
Прежде они никогда не встречались. Брейди оказался человеком энергичным и стремительным. Протягивая ему руку, Розмари заметила, что он быстро окинул ее с головы до ног оценивающим взглядом, к каким она уже привыкла, поэтому почувствовала себя уверенно; такие взгляды, кто бы их ни бросал, всегда придавали ей легкое ощущение собственного превосходства. Если ее персона представляла собой некое достояние, то почему бы его обладательнице не пользоваться преимуществами, которые оно давало.
– Я ждал вас со дня на день, – сказал Брейди с чуть излишней театральностью; в его произношении был заметен легкий акцент лондонского кокни. – Хорошо попутешествовали?
– Да, но уже хочется домой.
– Нет-нет! – запротестовал он. – Послушайте, я хочу с вами поговорить. Знаете, как только я в Париже увидел вашу картину – «Папина дочка», да? – я тут же телеграфировал на побережье, чтобы узнать, ангажированы ли вы в настоящей момент.
– Простите, но я только что…
– Ах какая картина! – перебил ее Брейди.
Чтобы не поставить себя в глупое положение нескромностью, Розмари не улыбнулась, а напротив, приняла серьезный вид.
– Кому хочется остаться в памяти зрителя актрисой одной роли? – сказала она.
– Разумеется, вы совершенно правы. И каковы же ваши планы?
– Мама сочла, что мне нужно было отдохнуть. Но по возвращении мы, вероятно, либо подпишем контракт с «Ферст нэшнл», либо продлим с «Феймос».
– Кто это – мы?
– Моя мама и я. Все деловые вопросы решает она. Без нее я бы ничего не смогла.
Он снова окинул ее взглядом, и что-то внутри Розмари откликнулось на его взгляд. Это было даже не симпатией и уж, конечно, не тем спонтанным восхищением, какое она утром почувствовала по отношению к мужчине на пляже. Как будто повернули выключатель. Стоявший сейчас перед ней человек желал ее, и насколько позволяли ее девичьи эмоции, она без смущения подумала, что могла бы ему уступить. Но в то же время она точно знала, что забудет о нем через полчаса после того, как они расстанутся, – как актер забывает об экранном поцелуе.
– Где вы остановились? – спросил Брейди. – Ах да, у Госса. Что ж, мои планы на нынешний год тоже уже сверстаны, но все, что я написал вам в письме, остается в силе. После Конни Тэлмадж в пору ее юности я ни одну девушку еще не хотел снимать так, как вас.
– Я тоже хотела бы у вас сняться. Почему бы вам не вернуться в Голливуд?
– Не выношу это отвратительное место. А здесь мне хорошо. Подождите немного, я сейчас закончу эпизод и покажу вам студию.
Вернувшись на площадку, он спокойным тихим голосом начал что-то объяснять французскому актеру.
Прошло минут пять, Брейди продолжал говорить, актер время от времени переминался с ноги на ногу и кивал. Внезапно прервавшись, Брейди крикнул что-то осветителям, и софиты, зажужжав, вмиг вспыхнули снова. Розмари словно услышала знакомый голос Лос-Анджелеса и, испытав прилив желания вернуться туда, бесстрашно двинулась сквозь темный фанерный город декораций к выходу. Ей не хотелось видеть Брейди в том настроении, в каком, она знала, тот будет после съемки, поэтому, пребывая в плену нахлынувших чувств, она покинула студию. Теперь, после посещения киностудии, мир Средиземноморья уже не казался ей таким уж сонным уголком. Ей нравились прохожие на улицах, и по дороге на вокзал она с удовольствием купила себе пару сандалий на веревочной подошве.
Мать осталась довольна тем, как Розмари выполнила ее наставления, однако она по-прежнему была полна решимости отправить дочь в свободное плавание по жизни. Выглядела миссис Спирс свежо, но душевно она устала; люди устают от бдения у смертного одра, а ей уже дважды выпало пройти через это испытание.
VI
Пребывая в приятном расположении духа после выпитого за обедом розового вина, Николь Дайвер высоко сложила руки на груди, так что искусственная камелия на ее плече касалась щеки, и вышла в свой чудный сад, раскинувшийся на каменистом склоне. С одной стороны сад ограничивался домом, из которого словно бы вытекал, с двух других – старинной деревней, а с четвертой – обрывом, скалистыми уступами уходившим к морю.
Всё вдоль ограды, отделявшей сад от деревни, – вьющиеся виноградные лозы, лимонные деревья и эвкалипты, тачка, казалось, только что оставленная здесь, но уже вросшая в землю и начавшая подгнивать, – было покрыто пылью. Николь неизменно вновь и вновь испытывала удивление, когда, повернув в другую сторону, за купой пионов попадала в зеленый прохладный уголок, где листья и цветочные лепестки кудрявились от нежной влаги.
Обернутый вокруг шеи сиреневый шарф даже в обесцвечивавшем все вокруг ярком солнечном свете придавал бледный оттенок ее лицу и струил сиреневую тень вниз, к ступням. Лицо могло показаться строгим, почти суровым, если бы не едва заметное выражение жалобной неуверенности, затаившееся во взгляде зеленых глаз. Ее некогда светлые волосы потемнели, но в свои двадцать четыре года она стала даже красивей, чем в восемнадцать, когда эти волосы были самой яркой особенностью ее облика, затмевавшей все остальное.
По дорожке, стелющейся вдоль белого каменного бордюра и окаймленной неосязаемой дымкой цветения, она дошла до нависавшей над морем площадки, где среди фиговых деревьев дремали фонари, а под гигантской сосной – самым большим деревом в саду – были расставлены стол и плетеные стулья, затененные обширным рыночным зонтом, привезенным из Сиены. Здесь она задержалась, отсутствующим взглядом скользя по настурциям и ирисам, беспорядочно разросшимся у подножия сосны, словно кто-то небрежно бросил когда-то в землю пригоршню семян, и прислушалась к неразборчивым пререканиям то жалобных, то сердитых голосов, доносившихся из дома, – это ссорились дети. Когда звуки смолкли, растаяв в летнем воздухе, она двинулась дальше сквозь калейдоскоп пионов, сбившихся в розовые облака, черных и коричневых тюльпанов и покоящихся на лиловых стеблях хрупких роз, прозрачных, словно сахарные цветы в витрине кондитерской, – пока это скерцо красок, достигнув предельного напряжения, внезапно не оборвалось перед воздушным простором, нависшим над влажными ступеньками, сбегавшими к расположенному на пять футов ниже уступу.
Здесь бил родник, обнесенный каменной оградой, которая даже в самые жаркие дни оставалась сырой и скользкой. По ступеням, вырубленным на другой стороне площадки, Николь поднялась в огород; она шла довольно быстро, поскольку вообще любила движение, хотя иногда являла собой воплощение покоя, одновременно умиротворенного и загадочного. Причина, видимо, состояла в том, что, не веря ни в какие слова, она была немногословна, чтобы не сказать молчалива, и в светские беседы вносила лишь свою долю тонкого юмора, до скупости строго отмеренную. Однако если видела, что собеседникам становится неуютно от такой экономности, подхватывала тему разговора и, к собственному лихорадочному удивлению, бросалась в него очертя голову, а потом так же внезапно, едва ли не робко замолкала, как послушный ретривер, более чем хорошо выполнивший команду.
Стоя посреди пронизанной солнцем пушистой зелени огорода, она увидела, как Дик пересекает дорожку, направляясь в свой рабочий флигелек. Николь подождала, затаившись, пока он удалится, потом двинулась вдоль грядок будущего салата к маленькому зверинцу, где голуби, кролики и попугай встретили ее какофонией дерзких звуков. Оттуда она спустилась на один уступ и, оказавшись перед огибавшим его по краю невысоким парапетом, посмотрела вниз, на расстилавшееся футах в семистах Средиземное море.
Место, где она сейчас стояла, когда-то тоже было частью старинного горного селения Тарм. Участок земли под нынешнюю виллу выкроили из примыкавших друг к другу крестьянских дворов, облепивших утес; из пяти маленьких домиков соорудили один большой, а четыре снесли, чтобы разбить сад. Внешнюю стену оставили нетронутой, поэтому с дороги, пролегавшей далеко внизу, вилла была неразличима в общем фиолетово-сером массиве сельских строений.
Несколько минут Николь смотрела на средиземноморский простор, но в нем даже ее неутомимые руки ничего изменить не могли. Вскоре из своей однокомнатной хибарки вышел Дик с оптической трубой и, наведя ее на восток, стал рассматривать Канн. Минуту спустя в поле его зрения вплыла Николь. Он на миг скрылся в домике и появился снова уже с мегафоном в руке – у него была масса технических приспособлений.
– Николь! – крикнул он. – Я забыл тебе сказать, что в качестве последнего апостольского жеста пригласил к нам миссис Эбрамс, ту женщину с седыми волосами.
– Я это подозревала. Ужас! – Легкость, с какой ее слова достигли его ушей, можно было истолковать как посрамление достоинств мегафона, поэтому, повысив голос, она спросила: – Ты меня слышишь?
– Да. – Он опустил было мегафон, но потом снова упрямо поднес его к губам. – Я еще кое-кого собираюсь пригласить. Тех двух молодых людей.
– Ладно, давай, – безмятежно согласилась она.
– Хочу устроить по-настоящему безобразную вечеринку. Я не шучу. Вечеринку с каким-нибудь шумным скандалом, с соблазнениями, с дамскими обмороками в туалетной комнате и чтобы гости уходили домой в оскорбленных чувствах. Вот подожди, сама увидишь.
Он удалился в свой домик, а Николь отметила про себя, что на мужа снизошло одно из наиболее характерных для него настроений: бурное возбуждение, которое втягивало в свою орбиту все вокруг и за которым неизбежно следовала особая, свойственная только ему разновидность уныния, которого он никогда никому не показывал, но которое она угадывала безошибочно. Его возбуждение достигало накала, несоразмерного поводу, и невольно вызывало такой же чрезмерный отклик у окружающих. Разве что немногие особо толстокожие и недоверчивые по натуре люди были способны противостоять его неотразимому обаянию и не влюблялись в него сразу же и безоглядно. Реакция наступала, как только он осознавал тщету и сумасбродность своей эскапады. Порой, оглядываясь назад, на устроенный им буйный карнавал, он сам испытывал ужас – подобно генералу, озирающему последствия резни, приказ о которой сам же и отдал в безотчетном стремлении удовлетворить жажду крови.
Однако быть на время включенным в мир Дика Дайвера казалось незабываемым событием: каждый мнил, что к нему Дик относится по-особому, прозрев в нем исключительную личность, столько лет таившуюся за уступками обыденности. Он мгновенно завоевывал сердца тонким пониманием и обходительностью, которые действовали так быстро и так мягко, что заметить это можно было только по результату. Затем, не давая увянуть бурно расцветшим отношениям, он без предупреждения распахивал ворота в свой удивительный мир. И пока окружающие безоговорочно принимали предложенные им правила, его главной задачей оставалось доставлять им удовольствие, но при первом же намеке на сомнение в выстроенной им системе отношений он испарялся прямо у них на глазах, не оставляя почти никаких приятных воспоминаний о том, что говорил и делал прежде.
В тот вечер ровно в восемь тридцать он вышел встречать своих первых гостей, весьма церемонно и многообещающе, словно плащ тореадора, неся на руке пиджак. С подобающей куртуазностью поприветствовав Розмари и ее мать, он предоставил им возможность первыми начать разговор, как будто хотел, чтобы в незнакомом окружении звук собственных голосов придал им уверенности.
Под впечатлением от восхождения к Тарму и свежего воздуха Розмари и миссис Спирс одобрительно отзывались обо всем, что видели вокруг. Как свойства натуры незаурядных людей проявляются порой в непривычных оборотах речи, так тщательно продуманное совершенство виллы «Диана» проявлялось даже в таких мелких недоразумениях, как непредвиденное появление горничной где-то в глубине сцены или никак не желающая открываться пробка. В то время как прибывающие гости приносили с собой волнующее предвкушение вечернего веселья, домашняя дневная жизнь потихоньку сходила на нет и дети Дайверов под присмотром гувернантки заканчивали ужин на террасе.
– Какой красивый сад! – воскликнула миссис Спирс.
– Это детище Николь, – сказал Дик. – Она не жалеет усилий – все время терзает его заботами о здоровье растений. Боюсь, как бы она сама однажды не подхватила какую-нибудь мучнистую росу, паршу или фитофтору. – И решительно направив указательный палец на Розмари, шутливо, по-отечески покровительственно добавил: – Я намерен позаботиться о сохранности вашего рассудка и с этой целью подарить вам пляжную шляпу.
Из сада он повел их на террасу и налил каждой по коктейлю. Прибывший вскоре Эрл Брейди удивился, увидев Розмари. Здесь он держался мягче и спокойней, чем на студии, словно свою тамошнюю манеру поведения оставил за воротами, но, сравнив его с Диком Дайвером, Розмари безоговорочно сделала выбор в пользу последнего. Рядом с Диком Эрл Брейди казался немного вульгарным, чуть хуже воспитанным, тем не менее она ощутила тот же электрический разряд, что и при первой их встрече. Эрл фамильярно заговорил с детьми, которые как раз вставали из-за стола:
– Привет, Ланье! Как насчет песенки? Не споете мне с Топси что-нибудь?
– А что нам спеть? – не упрямясь, спросил мальчик с характерным для всех воспитывавшихся во Франции американских детей певучим акцентом.
– Ну, например, ту песенку – «Мой друг Пьеро».
Ничуть не смущаясь, брат и сестра встали рядом, и в вечерний воздух взмыли милые звонкие детские голоса.
Закончив петь, дети, улыбаясь, спокойно, без жеманства, принимали похвалы; лучи закатного солнца нежно румянили их лица. Розмари казалось, что вилла «Диана» – центр мироздания. На такой сцене не могло не произойти нечто, что запомнится на всю жизнь, поэтому она еще больше разволновалась, когда скрипнула калитка. Это все вместе явились остальные гости – чета Маккиско, миссис Эбрамс, мистер Дамфри и мистер Кэмпьон поднялись на террасу.
Розмари испытала острое чувство разочарования – она бросила взгляд на Дика, словно желала получить объяснение столь несообразного сборища. Но тот оставался невозмутим. Он приветствовал новых гостей с горделивым достоинством и нескрываемым почтением к их безграничным, хотя и неведомым пока возможностям. И Розмари так верила ему, что вскоре уже воспринимала присутствие компании Маккиско как должное – будто бы с самого начала ожидала их всех здесь увидеть.
– Мы с вами встречались в Париже, – сказал Маккиско Эйбу Норту, прибывшему с женой сразу вслед за ними. – Даже дважды.
– Да, припоминаю, – ответил Эйб.
– Где же это было? – продолжил Маккиско, не желая оставлять тему.
– Э-э, кажется… – начал было Эйб, но игра ему уже наскучила. – Не помню.
Этот обмен репликами не смог заполнить образовавшуюся паузу, и, повинуясь инстинкту, Розмари подумала, что кому-то следует что-нибудь сказать, чтобы тактично прервать ее, однако Дик не делал ни малейшей попытки вступить в беседу со вновь прибывшими или хотя бы деликатно осадить миссис Маккиско, взиравшую вокруг с высокомерным любопытством. Он не считал необходимым снять возникшее светское замешательство, поскольку в настоящий момент это было не важно, – ситуация, безусловно, разрешится сама собой. Он берег силы для более значительного момента, чтобы, явив гостям нечто неожиданное, заставить их прочувствовать, какой праздник им уготован.
Розмари стояла рядом с Томми Барбаном, пребывавшим в необычайно – даже по его собственным меркам – саркастическом настроении, для которого у него, судя по всему, были особые причины. Он уезжал на следующее утро.
– Возвращаетесь домой?
– Домой? У меня нет дома. Я еду на войну.
– На какую войну?
– На какую войну? Да на любую. Я давно не читал газет, но полагаю, где-нибудь война идет – без войн никогда не обходится.
– И вам все равно, за что воевать?
– Абсолютно – лишь бы со мной хорошо обращались. Когда я начинаю ощущать зуд, я приезжаю к Дайверам, потому что знаю: проведя с ними несколько недель, точно захочу на войну.
Розмари обомлела от изумления.
– Но ведь вам нравятся Дайверы, – напомнила она ему.
– Разумеется – особенно она, но когда я с ними, мне всегда хочется на войну.
Розмари попыталась осмыслить услышанное, но так и не смогла. Ей самой Дайверы внушали лишь одно желание: всегда быть рядом.
– Вы ведь наполовину американец, – сказала она, словно это могло что-то объяснить.
– А также наполовину француз, а учился я в Англии и с тех пор, как мне стукнуло восемнадцать, успел поносить мундиры восьми стран. Однако надеюсь, у вас не создалось впечатления, будто я не люблю Дайверов, я люблю их, особенно Николь.
– Их невозможно не любить, – просто ответила Розмари.
Она вдруг почувствовала этого человека чужим. Какой-то подтекст, таившийся за его словами, вызвал у нее неприязнь, и она постаралась защитить свое благоговение перед Дайверами от кощунственного злословия Барбана. Хорошо, что не придется сидеть рядом с ним за ужином, подумала она, направляясь вместе с остальными в сад, к накрытому там столу, и продолжая размышлять над его словами «особенно Николь».
В какой-то момент они поравнялись на дорожке с Диком Дайвером, и перед лицом его несокрушимой изящной уверенности все ее сомнения померкли. В течение последнего года – а этот год вобрал главные события всей ее жизни – у Розмари были деньги и определенная известность, она водилась со знаменитостями, и они представлялись ей всего лишь более могущественными, увеличенными копиями тех людей, с которыми докторская вдова и ее дочь общались в парижском пансионе. Розмари была натурой романтической, но ее профессия в этом смысле предоставляла мало возможностей. Миссис Спирс, выбрав в качестве будущего для дочери карьеру, не потерпела бы, чтобы та растрачивала себя на призрачные соблазны, обступавшие ее со всех сторон, да и сама Розмари уже была выше этого – она снималась в кино, но не жила в нем. Поэтому одобрительное по отношению к Дику Дайверу выражение на лице матери означало для нее, что он – «настоящий» и что с ним она может позволить себе зайти как угодно далеко.
– Я наблюдал за вами, – сказал он, и она знала, что это не пустые слова. – Вы нравитесь нам все больше и больше.
– А я с первого взгляда влюбилась в вас, – тихо произнесла она. Он притворился, будто воспринял ее слова как ничего не значащую любезность.
– С новыми друзьями, – сказал он так, словно это было важное утверждение, – зачастую бывает куда интересней, чем со старыми.
Это замечание, смысл которого не вполне до нее дошел, было сделано в момент, когда она уже садилась за стол, выхваченный из темных сумерек медленно разгоравшимися фонарями. Восторженный аккорд зазвучал у нее внутри, когда она увидела, что Дик посадил ее мать справа от себя, сама же она оказалась между Луисом Кэмпьоном и Брейди.
Переполненная эмоциями, она повернулась к Брейди, жаждая поделиться с ним своими чувствами, но при первом же упоминании имени Дика холодная искра, сверкнувшая в его глазах, дала ей понять, что он не намерен становиться ее конфидентом. В ответ она проявила такую же непреклонность, когда он попытался завладеть ее рукой, поэтому в дальнейшем они говорили лишь на профессиональные темы, вернее, говорил он, а она слушала, вежливо глядя на него, мыслями же витая столь очевидно далеко, что он не мог не догадаться об этом. Смысл его речей доходил до нее лишь урывками, остальное всплывало из подсознания – как первые, пропущенные, удары часового боя, о которых догадываешься только по ритму, отложившемуся в памяти.
VII
В паузе Розмари посмотрела на дальний конец стола, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь; ее рыжеватые, как шерсть чау-чау, волосы вскипали и пенились в мерцании свечей. Розмари прислушалась, зачарованная ее низким грудным голосом, изредка ронявшим фразу-другую.
– Бедняга! – воскликнула Николь. – Зачем вам понадобилось распиливать его надвое?
– Естественно, для того, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Разве вам не интересно было бы узнать, что находится внутри у официанта?
– Видимо, старые меню, – с усмешкой предположила Николь. – Осколки разбитой посуды, чаевые, огрызки карандаша.
– Совершенно верно, но задача состояла в том, чтобы это научно доказать. И разумеется, сделать это с помощью музыкальной пилы было самым щадящим способом.
– Вы собирались играть на пиле во время проведения операции? – поинтересовался Томми.
– Так далеко нам зайти не удалось – нас испугали его крики. Мы побоялись, что у него может сделаться грыжа.
– Все это звучит для меня очень странно, – сказала Николь. – Любой музыкант, который использует пилу другого музыканта, чтобы…
Застолье длилось еще только полчаса, но уже произошли значительные перемены: один за другим каждый из гостей от чего-то освобождался – от озабоченности, тревоги, подозрительности, теперь все они, обнажив лучшее, что в них было, стали просто гостями Дайверов. Каждый чувствовал, что малейшее проявление недружелюбия или незаинтересованности огорчило бы хозяев, поэтому все старались, и, видя это, Розмари уже почти любила их всех – кроме Маккиско, который упорно не желал вливаться в компанию, не столько из зловредности, сколько из решимости поддерживать хорошее настроение, овладевшее им по приезде, с помощью вина. Откинувшись на спинку стула между Эрлом Брейди, которому адресовал несколько язвительных замечаний насчет кино, и миссис Эбрамс, которую вообще игнорировал, он сидел, уставившись на Дика с выражением убийственной иронии, и время от времени пытался вовлечь его в разговор через весь стол, чем сам же портил эффект.
– Вы, кажется, дружны с Ван Бюреном Денби? – спрашивал он.
– Не припоминаю, чтобы я был с ним знаком.
– А я думал, вы с ним друзья, – раздраженно настаивал Маккиско.
Когда тема мистера Денби исчерпала себя, он попробовал другие, столь же неуместные темы, но каждый раз само почтительное внимание Дика обескураживало его, и после секундной неловкой паузы разговор, который он перед тем прервал, возобновлялся без его участия. Он пытался вклиниться и в другие частные беседы, но это неизменно напоминало попытку пожать пустую перчатку, поэтому в конце концов со снисходительным видом взрослого, попавшего в детское окружение, он отступил и полностью сосредоточился на шампанском.
В перерывах между разговорами Розмари обводила взглядом стол, желая убедиться, что всем хорошо, – словно все они были ее будущими приемными детьми. Мягкий свет, исходивший от лампы, спрятанной в вазе душистых гвоздик, падал на лицо миссис Эбрамс, в меру подрумяненное «Вдовой Клико», исполненное бодрости, благодушия и детской жизнерадостности; рядом с ней сидел мистер Роял Дамфри, в приподнятой вечерней атмосфере его девичья миловидность не казалась столь вызывающей. Дальше – Вайолет Маккиско, чье очарование вдруг всплыло на поверхность будто по мановению волшебной свирели, так что она даже забыла на время о вечно терзавшем ее комплексе жены непреуспевшего карьериста.
Дальше сидел Дик, освободивший своих гостей от груза повседневности и целиком поглощенный устроенным им действом.
Рядом с ним – ее всегда безупречная мать.
Потом Барбан, который с изысканной учтивостью беседовал с миссис Спирс, чем снова завоевал расположение Розмари. За ним – Николь. Розмари вдруг взглянула на нее другими глазами, и ей пришло в голову, что никогда еще она не встречала более красивого человека. В зыбком свете утопленных в сосновой хвое фонарей ее лицо словно лик святой, мадонны викингов, сияло сквозь снежную пелену мошкары, слетавшейся на огонь свечей. Она была спокойна, как сам покой.
Эйб Норт трактовал ей о своем моральном кодексе.
– Разумеется, он у меня есть, – втолковывал он. – Мужчина не может жить без морального кодекса. Мой состоит в том, что я – противник сожжения ведьм. Каждый раз, когда где-то сжигают ведьму, я прихожу в бешенство.
От Брейди Розмари знала, что Эйб – композитор, после блестящего раннего дебюта за семь последующих лет ничего не написавший.
За Эйбом Нортом сидел Кэмпьон, которому каким-то образом удавалось сдерживать свои самые вульгарные проявления женоподобия и даже демонстрировать по отношению к соседям что-то вроде бескорыстной материнской заботливости. За ним – Мэри Норт с таким радостно-веселым лицом, что невозможно было не ответить улыбкой на ее улыбку, сверкавшую белыми зеркальцами зубов, – все ее лицо вокруг полуразомкнутых губ являло собой маленький ореол удовольствия.
И наконец, Брейди, манера общения которого с каждой минутой становилась все более компанейской и все менее напоминала его обычное напористое желание кичиться нерушимостью своего душевного здоровья и твердое намерение сохранять его, решительно отмежевавшись от душевной хрупкости других.
Розмари, наивно-доверчивая, как дитя из душещипательных сочинений миссис Бернетт, чувствовала себя так, словно вернулась домой, побывав на Диком Западе и наслушавшись там скабрезных шуточек суровых мужчин. В вечернем сумраке кружили светлячки, где-то на дальнем нижнем уступе лаяла собака. Казалось, что стол, как танцплощадка, выдвинутая вверх особым механизмом, чуточку воспарил к небу, и те, кто сидел за ним, ощутили, будто они остались единственными живыми существами во тьме Вселенной, которая одна питает и согревает их. И тут неожиданно прозвучавший в тишине сдавленный смешок миссис Маккиско словно бы послужил сигналом того, что отрешенность от мира свершилась: Дайверы, как бы стремясь возместить своим гостям все то из оставленного на земле, о чем те могли еще тосковать, вдруг начали с новой силой излучать тепло и свет, обволакивая ими присутствующих, и так уже обласканных хозяйской милостью и смутно ощущавших собственную значительность. На мгновение показалось, что хозяева одновременно разговаривают с каждым сидящим за столом в отдельности и со всеми вместе, ни у кого не оставляя сомнений в своей дружбе и привязанности. И все вмиг обратили к ним лица, как дети бедняков – к рождественской елке. Затем так же внезапно все оборвалось – момент бесстрашного душевного подъема и прорыва в атмосферу возвышенных чувств закончился раньше, чем участники застолья успели надышаться им и даже просто осознать, что он действительно был.
Но разлитое в воздухе сладкое волшебство жаркого юга – мягкая поступь ночи и плеск невидимого средиземноморского прибоя далеко внизу – осталось, растворившись в Дайверах и сделавшись их неотъемлемой частью. Розмари заметила, как Николь настоятельно уговаривает ее мать принять в подарок понравившуюся той желтую вечернюю сумочку – «Я считаю, что вещь должна принадлежать тому, кому она доставляет удовольствие», – куда она бросала все желтое, что попадалось под руку: карандаш, тюбик губной помады, маленькую записную книжечку – «потому что все это друг другу подходит».
Потом Николь исчезла, а вскоре Розмари заметила, что и Дика тоже нет; гости рассредоточились по саду или потянулись к террасе.
– Вам не нужно в туалетную комнату? – обратилась к Розмари Вайолет Маккиско.
– Пока нет.
– А мне нужно посетить уборную, – не стесняясь, заявила миссис Маккиско. Будучи женщиной, презирающей условности, она открыто направилась в дом, не скрывая, куда идет. Розмари неодобрительно посмотрела ей вслед. Эрл Брейди предложил Розмари спуститься к обрыву, но она решила, что настала ее очередь получить долю внимания Дика, когда тот появится снова, поэтому осталась, прислушиваясь к спору Маккиско с Барбаном.
– Почему вы так жаждете воевать с Советами? – удивлялся Маккиско. – Это же величайший эксперимент, когда-либо предпринимавшийся человечеством. А Рифская республика? По мне так героичней было бы сражаться на стороне тех, за кем справедливость.
– А откуда вам знать, на чьей она стороне? – сухо поинтересовался Барбан.
– Ну, вообще-то каждый разумный человек это знает.
– Вы коммунист?
– Я социалист, и я сочувствую России.
– А я солдат, – с любезной улыбкой отвечал Барбан. – Мое дело – убивать людей. Против рифов я воевал, потому что я европеец, а против коммунистов – потому что они хотят отнять у меня мою собственность.
– Все это предрассудки… – Маккиско с ироническим выражением лица огляделся в поисках поддержки, но единомышленников не нашел. Он не понимал того, с чем столкнулся в лице Барбана, – ни его идейной ограниченности, ни сложности его биографии и воспитания. Маккиско знал, что такое идеи, и по мере своего умственного развития учился распознавать и сортировать все большее их количество, однако перед лицом человека, которого считал «тупицей», вообще не имеющим внятных идей, но по отношению к которому тем не менее почему-то не испытывал превосходства, он растерялся и пришел к поспешному выводу, что тот является конечным продуктом архаического мира и как таковой ничего не стоит. Из общения с представителями высших классов в Америке Маккиско вынес свойственный им сомнительный и не имеющий определенной цели снобизм, их кичливое невежество и нарочитую грубость, почерпнутые ими у англичан без учета тех факторов, которые придают смысл английским филистерству и грубости, и бездумно практиковал эти качества в стране, где даже минимальные образованность и воспитанность позволяют добиться большего, чем где бы то ни было еще, – квинтэссенцией подобной системы общественных условностей стал вошедший в моду в девятисотых «гарвардский стиль». Именно за такого человека он и принял Барбана, забыв во хмелю, что его следует опасаться, и загнав себя, таким образом, в весьма неприятную ситуацию.