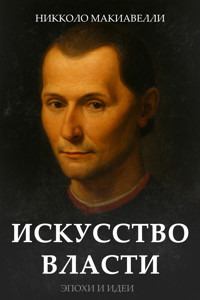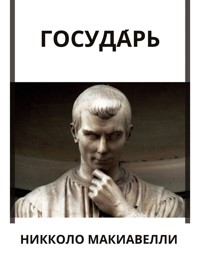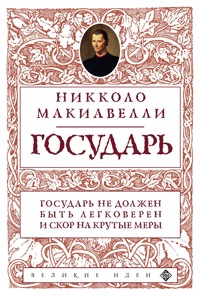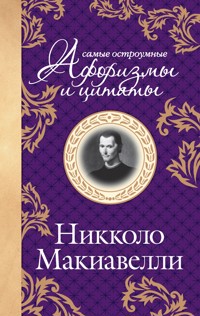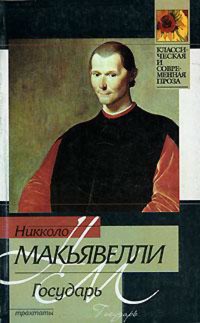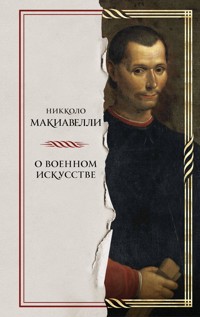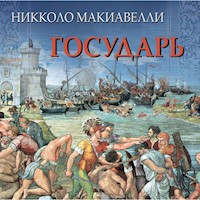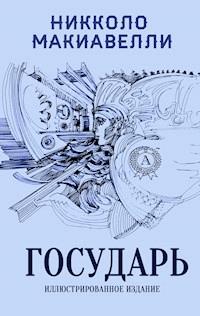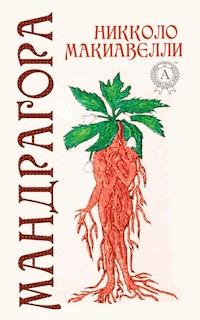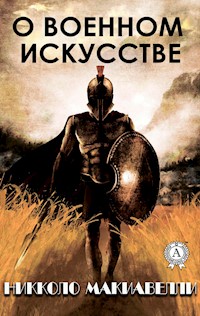
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Никколо Маккиавели — известный итальянский философ и политик эпохи Возрождения, занимавший во Флоренции должность государственного секретаря и отвечавший за дипломатические связи республики. Его трактат "О военном искусстве" — единственное политическое сочинение Макиавелли, опубликованное при его жизни. Этот труд — одна из лучших книг о военном деле, наравне с "Записками о Галльской войне" Гая Юлия Цезаря и "Искусством войны" Сунь Цзы. Благодаря глубокому анализу военного дела древности и современной для автора стратегии и тактики, а также важным выводам касательно организации и применения вооруженных сил, этот труд признан и рекомендован в качестве учебного пособия для изучающих военное дело.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Никколо Макиавелли
О военном искусстве
Никколо Маккиавели — известный итальянский философ и политик эпохи Возрождения, занимавший во Флоренции должность государственного секретаря и отвечавший за дипломатические связи республики.
Его трактат «О военном искусстве» — единственное политическое сочинение Макиавелли, опубликованное при его жизни. Этот труд — одна из лучших книг о военном деле, наравне с «Записками о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря и «Искусством войны» Сунь Цзы. Благодаря глубокому анализу военного дела древности и современной для автора стратегии и тактики, а также важным выводам касательно организации и применения вооруженных сил, этот труд признан и рекомендован в качестве учебного пособия для изучающих военное дело.
Предисловие
Никколо Макиавелли, гражданина и секретаря флорентийского, к книге о военном искусстве, посвященной Лоренцо, сыну Филиппо Строцци, флорентийскому дворянину
Многие, Лоренцо, считали и считают, что нет в мире вещей, менее связанных друг с другом и более чуждых друг другу, чем гражданская и военная жизнь. Поэтому мы часто замечаем, что, когда человек решает проявить себя на военном поприще, он не только сразу меняет одежду, но и всем своим поведением, привычками, голосом и осанкой отличается от любого обычного гражданина. Тот, кто стремится быть быстрым и всегда готовым к любому насилию, считает невозможным носить гражданскую одежду. Гражданские обычаи и привычки не подходят тому, кто считает первые слишком мягкими, а вторые — непригодными для своих целей. Обычный вид и язык кажутся неуместными тому, кто стремится пугать остальных бородой и ругательными словами. Поэтому в наше время мысль, о которой я говорил раньше, — это сама истина.
Однако, если посмотреть на установления древности, то не найдется ничего более единого, более слитного, более содружественного, чем жизнь гражданина и воина. Всем существующим в государстве ради общего блага людей сословиям не нужны были бы установления, созданные для того, чтобы люди жили, опасаясь законов и бога, если бы при этом не готовилась для их защиты сила, которая, будучи хорошо обустроенной, спасает даже такие учреждения, которые сами по себе являются ничтожными.
Наоборот, учреждения нужные, но лишенные вооруженной поддержки, распадаются абсолютно так же, как разрушаются строения роскошного королевского дворца, украшенные драгоценностями и золотом, но ничем не прикрытые от дождя. И если в гражданских учреждениях древних республик и царств делалось все возможное, чтобы поддерживать в людях верность, миролюбие и страх божий, то в армии эти усилия удваиваются, ведь от кого же родина может требовать верности, как не от человека, поклявшегося умереть за нее?
Кто должен больше любить мир, если не тот, кто может пострадать от войны? У кого должен быть жив страх божий, если не у того, кто ежедневно сталкивается с неисчислимыми опасностями и больше всего нуждается в помощи Всевышнего? Благодаря этой необходимости, которую хорошо понимали законодатели империй и полководцы, жизнь солдата прославлялась остальными гражданами, которые всячески пытались ей следовать и подражать. Сейчас, когда военные установления в корне исковерканы и давно оторваны от древних устоев, сложились зловещие взгляды, приводящие к тому, что военное положение ненавидят и всячески его избегают.
Я же со всего, что видел и прочел, не считаю невозможным вернуть это состояние к его древним началам и, хотя бы частично, вернуть ему бывшую доблесть. Дабы не допустить проведения своего досуга без дела, я решился записать для поклонников древних подвигов свои мысли о военном искусстве. Конечно, говорить о предмете, неизвестном тебе по опыту, — смелое дело, но все же я не считаю грехом подвести себя на словах к чести, которую многие с еще большей самоуверенностью присваивали себе в жизни. Мои ошибки, допущенные при написании этой книги, могут быть исправлены без вреда для кого бы то ни было, но ошибки людей, допущенные на самом деле, познаются лишь тогда, когда приведут к гибели царства.
Вы же, Лоренцо, оцените теперь мой труд и воздайте ему в своем приговоре ту похвалу или то осуждение, которого они, по-вашему, заслуживают. Посылаю их, чтобы выразить вам свою благодарность, хотя все, что я могу сделать, далеко не отвечает благодеяниям, сделанным вами для меня. Подобными сочинениями обычно стремятся уважить людей, прославленных родом, богатством, умом и щедростью, но я знаю, что немногие могут соревноваться с вами в богатстве и родовитости, умом вам равны лишь некоторые, а щедростью — никто.
Никколо Макиавелли, гражданин и секретарь флорентийский,
к читателю
Чтобы читатели могли легко понять боевой строй, размещение войск и лагерей, о чем здесь пойдет речь, считаю необходимым продемонстрировать их воочию. Поэтому следует сначала перечислить обозначения, изображающие пехоту или другие отдельные части войск. Поэтому имейте в виду, что такие буквы обозначают:
o — пехотинцы со щитами;
n — пехотинцы с пиками;
x — декурионы (начальники десятков);
v — велиты действующие (стрелки);
u — велиты запасные;
C — центурионы (начальники сотен);
T — командир батальона;
D — командир бригады;
A — главнокомандующий;
S — музыка;
Z — знамя;
r — тяжелая пехота; е — легкая конница;
Θ — артиллерия.
Книга первая
Я считаю, что каждого человека после его смерти можно хвалить без зазрения совести, потому что в таком случае отпадает всяческий повод и всяческое подозрение в угождении; поэтому я, не колеблясь, восхвалю нашего Козимо Ручеллаи, имя которого я никогда не мог вспомнить без слез, потому что видел в нем все достоинства, которые друг может требовать от друзей, а родина — от гражданина.
Не знаю, дорожил ли он чем либо настолько (не исключая и самой жизни), чтобы с радостью не отдать это друзьям; не знаю ни одного дела, которого он мог бы испугаться, видя в нем благо для отчизны. Заявляю открыто, что среди многих людей, с которыми я был знаком и общался по делам, я не встречал человека, душа которого была бы более открытой для всего великого и прекрасного.
В последние минуты жизни он грустил с друзьями о том, что ему суждено умереть в постели молодым и неизвестным, и что не исполнилось его желание принести всем настоящую пользу; он знал, что о нем можно будет сказать лишь одно — умер верный друг. Однако, хотя его дела остались незавершенными, мы и другие, кто хорошо его знал, все можем свидетельствовать о его высоких качествах.
Действительно, судьба не была к нему настолько враждебной и не помешала ему оставить после себя некоторые трогательные произведения его блестящего ума: таковыми являются некоторые его сочинения и любовные стихи, в которых он, хотя и не был влюблен, упражнялся в молодые годы, чтобы не терять время зря в ожидании, пока судьба направит его дух к мыслям более возвышенным. Стихи эти ясно показывают, как счастливо выражал он свои мысли и каких вершин он мог бы достичь в поэзии, если бы полностью посвятил себя ей.
Сейчас, когда судьба отобрала у меня такого друга, мне остается, как кажется, единственное утешение — радостно вспоминать о нем и повторять его меткие слова или глубокомысленные соображения. Именно живое воспоминание — это беседа его у себя в саду с синьором Фабрицио Колонной, во время которой указанный синьор подробно говорил о войне, отвечая преимущественно на острые и продуманные вопросы Козимо.
Я с несколькими общими друзьями присутствовал при разговоре и решил восстановить его в памяти чтобы при чтении друзья Козимо, участники беседы, живее вспоминали его таланты, а другие пожалели о своем отсутствии и в то же время многому научились от глубокомысленных слов одного из выдающихся людей нашего времени, полезного не только для войны, но и для гражданской жизни.
Фабрицио Колонна, возвращаясь из Ломбардии, где долго и с большой для себя славой сражался за короля католика Фердинанда ІІ Арагонского, будучи проездом во Флоренции, решил отдохнуть несколько дней в этом городе, чтобы посетить его светлость герцога Джулиано Медичи и снова увидеть кое-кого из ранее знакомых ему дворян. Козимо считал необходимым пригласить его к себе в сады, не столько ради того, чтобы блеснуть перед ним роскошью, сколько затем, чтобы воспользоваться возможностью продолжительного разговора с ним и научиться от него разным вещам, о которых можно узнать от такого человека, потому что ему представилась возможность провести день в беседе о притягательных его уму предметах.
Фабрицио явился по приглашению, и был с почестями принят Козимо и его лучшими друзьями, среди которых находились Заноби Буондельмонти, Баттиста делла Палла и Луиджи Аламанни — все молодые люди, близкие ему и страстно увлеченные тем же, что и он сам: умалчиваю об их других достоинствах, так как они ежедневно и ежечасно говорят сами за себя.
По обычаям времени и места, Фабрицио встретили с наивысшими почестями. Когда после блестящего банкета гости встали из-за стола, насладившись благами праздника, которым великие люди с ихним умом, постоянно направленным на предметы возвышенные, уделяют мало внимания, было еще рано, и стояла сильная жара. Для лучшего достижения своей цели, Козимо, как бы пытаясь спрятаться от духоты, повел гостей к самой густой и тенистой части своего сада. Когда все расселись — кто на траве, которая была здесь по-особому свежей, кто на скамейках в тени огромных деревьев, — Фабрицио стал нахваливать красоту места и внимательно рассматривал деревья, но некоторых он не знал, и поэтому ему трудно было их назвать. Заметив это, Козимо сказал: «Некоторые из этих деревьев вам, возможно, не знакомы, но не удивляйтесь, поскольку среди них есть такие, которые больше ценились древними, а сейчас о них известно мало». Потом он озвучил названия деревьев и рассказал о том, как много поработал над выведением этих пород его дед, Бернардо. «Я так и думал, — отвечал Фабрицио. — Это место и труд вашего предка напоминают мне некоторых князей королевства Неаполитанского, которые тоже с любовью разводили такие породы и наслаждались их тенью». На этом он прервал разговор и какое-то время задумчиво сидел, а затем продолжил: «Если бы я не боялся вас обидеть, я бы высказал свою точку зрения; не думаю, что могу вас обидеть, так как разговариваю с друзьями и хочу размышлять о вещах, а не злословить. Пускай это не будет сказано никому в обиду, но лучше бы люди пытались сравниться с древними в делах мужества и силы, а не в изнеженности, в том, что древние делали под светом солнца, а не в тени, и воспринимали бы в характере древности то, что в ней было настоящим и прекрасным, а не ошибочным и извращенным; ведь когда сограждане мои, римляне, стали приверженцами подобных вещей, моя отчизна погибла». Козимо ответил на это... Но, чтоб избежать неприятных постоянных повторений слов: «такой-то сказал», «такой-то ответил», я буду просто называть имена тех, кто говорит. Итак, Козимо сказал:
КОЗИМО. Вы начали разговор, которого я давно хотел, и я прошу вас говорить без стеснения, как и я без стеснения буду вас спрашивать. Если я в вопросах или ответах буду кого-нибудь защищать или осуждать, это случиться не для того, чтобы оправдывать или обвинять, а для того, чтобы услышать от вас правду.
ФАБРЦИО. А я с удовольствием скажу вам все, что знаю, в ответ на ваши вопросы, а будет это верно или нет — судите сами. Вопросы ваши будут мне лишь приятны, ведь я почерпну в них столько же, сколько вы в моих ответах; мудрый вопрошающий часто вынуждает собеседника подумать о многом и открывает ему такие вещи, о которых он без этих вопросов никогда бы ничего не узнал.
КОЗИМО. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили раньше, — а именно, что мой дед и ваши предки сделали бы более мудро, если бы подражали древним в делах мужественных, а не в изнеженности. Мне хотелось бы оправдать своего деда, но и дать вам возможность защищать ваших предков. Не думаю, чтобы в его времена нашелся человек, так ненавидящий изнеженность, как он, и так любящий суровую жизнь, которую вы восхваляете; но он осознавал, что ни он сам, не его дети этой жизнью жить не могут, потому что он родился в том развращенном веке, когда человек, не желающий подчиняться всеобщим правилам, превратился бы для всех и каждого в предмет осуждения и презрения.
Ведь если бы человек, подобно Диогену, летом под жгучим солнцем лежал бы голым на песке, а зимой в самую стужу валялся бы на снегу, — его сочли бы сумасшедшим. Если бы в наше время кто-нибудь, подобно спартанцам, воспитывал своих детей в деревне, заставлял их спать под открытым небом, ходить разутыми, с непокрытой головой и купаться в ледяной воде ради того, чтобы приучить их к боли и отучить от чрезмерной любви к жизни и от страха смерти, — он был бы смешон, и его воспринимали бы, скорее, как дикого зверя, чем как человека. Если бы среди нас появился человек, питающийся овощами и презирающий золото, подобно Фабрицио, — его восхваляли бы немногие, но никто бы не стал его последователем.
Так и мой дед испугался морали, отступил от своих древних идеалов и подражал им в тех вещах, где он мог это делать, обращая на себя не так много внимания.
ФАБРИЦИО. В этой части вы защитили его блестяще, и, конечно, вы правы; но я говорил не только об этой суровой жизни, сколько о других порядках, более мягких и более отвечающих привычкам наших дней, и мне кажется, что человеку, принадлежащему к числу первых граждан города, было бы несложно их установить. Как всегда, я никак не могу отказаться от примера моих римлян: если всмотреться в ихний образ жизни и в строй этой республики, мы найдем там немало такого, что было бы невозможно восстановить в гражданском обществе, в котором еще уцелело что-нибудь хорошее.
КОЗИМО. Что же похожее на древние обычаи вы бы хотели ввести?
ФАБРИЦИО. Отдавать почести и награждать доблесть, не презирать бедность, уважать порядок и строй армейской дисциплины, заставить граждан любить друг друга, не образовывать партий, менее дорожить личными выгодами, чем общественной пользой, и многое другое, что вполне согласовывается с духом нашего времени. Все это несложно воспринять, если только старательно обдумать и применить верный способ, ведь истина тут является такой очевидной, что может быть усвоена обычным умом. Всякий, кто поймет это, посадит деревья, под сенью которых можно отдыхать с еще большим счастьем и радостью, чем в этом саду.
КОЗИМО. Я ни единым словом не хотел бы возразить вашим речам и предоставляю сделать это тем, у кого может быть собственное суждение о таких вещах; обращаюсь теперь к вам, как к обвинителю тех, кто не подражает древним в их великих делах, и думаю, что таким путем я ближе подойду к цели нашей беседы. Мне хотелось бы узнать от вас, почему вы, с одной стороны, метаете громы против тех, кто не похож на древних, и вместе с тем сами в своей сфере военного дела, в которой заработали такую громкую славу, никогда не обращались к древним обычаям и даже не внедряли ничего, что хотя бы приблизительно их напоминало?
ФАБРИЦИО. Вы подошли как раз к тому, чего я ожидал, и вся моя речь требовала именно этого вопроса, и я ничего другого не хотел. Мне, конечно, было бы легко оправдаться, но, чтобы сделать приятно вам и себе (благо, время нам это позволяет), я хочу поговорить на эту тему более подробно.
Если люди хотят что-то сделать, они, прежде всего, должны старательно подготовиться, чтобы при случае быть во всеоружии для достижения поставленной ими цели. Когда приготовления сделаны осторожно, они остаются в тайне, и никого нельзя обвинить в небрежности, пока не наступит подходящий момент для раскрытия своего замысла; если же человек и тогда продолжает действовать, это значит, что он или недостаточно подготовился, или вообще ничего не обдумал. Мне же никогда не приходилось показывать, что я готовлюсь к возобновлению древних основ военного дела, и потому ни вы, ни кто-нибудь другой не может обвинять меня в том, что я этого не сделал. Думаю, это достаточно защищает меня от вашего укора.
КОЗИМО. Конечно, если бы я был уверен, что вам не представился случай.
ФАБРИЦИО. Я знаю, что вы можете сомневаться, были ли у меня оказия или нет; поэтому, если вам угодно терпеливо меня выслушать, я хочу поговорить о том, какие приготовления надо предварительно сделать, каким должен быть ожидаемый повод, какие препятствия могут сделать напрасными все приготовления и уничтожить саму возможность хорошего случая; словом, я хочу объяснить, почему такие мероприятия бывают одновременно и нескончаемо трудными, и нескончаемо легкими, хотя это кажется противоречием.
КОЗИМО. Большего удовольствия вы не способны дать ни мне, ни моим друзьям: если вам не надоест говорить, мы, конечно, не устанем вас слушать. Речь ваша будет, как я надеюсь, продолжительной, и я, с вашего разрешения, хочу с одной просьбой обратиться к моим друзьям: все мы просим вашей снисходительности, если прервем вас иногда каким-нибудь, возможно неуместным вопросом.
ФАБРИЦИО. Ваши вопросы, Козимо, и вопросы этих юношей меня лишь порадуют, ведь я уверен, что ваша молодость должна порождать в вас большую любовь к военному делу и внушать вам большее доверие к моим словам. Люди преклонного возраста, с седой головой и застывшей кровью, или ненавидят войну, или закостенели в своих ошибках, потому что они верят, что раз живут так плохо, как сейчас, то виноваты в этом времена, а не падение морали.
Поэтому задавайте мне вопросы свободно и не стесняясь; мне это приятно потому, что я смогу немного отдохнуть, и потому, что мне хотелось бы не оставлять в ваших головах даже тени сомнения. Начну с ваших слов, обращенных ко мне, а именно — что в своей сфере, то есть в военном деле, я не придерживался никаких обычаев Древнего мира. Отвечаю, что война — определенного рода ремесло, которым отдельные люди честно жить не могут, и она должна быть делом лишь республики или королевства.
Государства, если только они упорядочены, никогда не позволят какому-нибудь гражданину или подданному заниматься войной как ремеслом, и ни один достойный человек никогда не сделает войну своим ремеслом. Никогда не будут считать достойным человека, избравшего себе занятие, могущее приносить ему выгоду, если он превратиться в хищника, обманщика и насильника, и разовьет в себе качества, которые обязательно превратят его в плохого.
Люди, великие или ничтожные, для которых война — ремесло, могут быть только плохими, поскольку это ремесло в мирное время прокормить не может. Поэтому они должны или стремиться к тому, чтобы мира не было, или так нажиться во время войны, чтобы остаться сытыми, когда придет мир.
Ни та, ни другая мысль не может возникнуть в душе достойного человека; ведь если стремиться жить войной, надо грабить, насиловать, убивать одинаково друзей и врагов, как поступают солдаты такого типа. Если не желать мира, надо уповать на обман, как обманывают военачальники тех, кому они служат, причем с единственной целью — продолжать войну. Если мир все-таки заключают, то вожаки, лишившись жалования и привольной жизни, часто набирают стаю искателей приключений и бессовестно грабят страну.
Разве вы не помните, что случилось в Италии, когда после окончания войны осталось много солдат без службы, и как они, объединившись в несколько огромных отрядов, имевших название «компании», шарили по всей стране, облагая данью города, и разбойничали без малейших препятствий? Разве вы не читали о карфагенских наемниках, которые после Первой Пунической войны взбунтовались под предводительством Матона и Спендиона, самовольно избранных ими в начальники, и повели против карфагенян войну, ставшую для них более опасной, чем война с римлянами? Во времена наших отцов Франческо Сфорца не только обманул миланцев, у которых он находился на службе, но отобрал у них свободу и стал их князем, и сделал так лишь для того, чтобы получить возможность жить в роскоши после заключения мира.
Так поступали и все другие итальянские солдаты, для которых война была единственным ремеслом. И если, невзирая на свое вероломство, они не стали герцогами Милана, тем хуже, потому что они не добились такого успеха, а их преступления были скромнее. Сфорца, отец Франческо, служивший королеве Джованне, заставил ее сдаться на милость короля Арагона, из-за того, что абсолютно неожиданно бросил ее, и она осталась безоружной среди окружающих ее врагов. А сделал он это из-за корыстолюбия или из-за желания отобрать у нее престол. Браччо теми же средствами пытался овладеть Неаполитанским королевством, и помешали ему только поражение и смерть под Аквилой. Единственная причина подобных безобразий — это существование людей, для которых военное дело было только ихним частным ремеслом. Мои слова подтверждает ваша же пословица: «Война рождает воров, а мир их вешает». Ведь другого дела эти люди не знают. Жить своим ремеслом они не могут; смелости и таланта, чтобы объединиться и превратить зло в благородное дело, у них нет, и они поневоле становятся грабителями с большой дороги, и правосудие вынуждено их уничтожать.
КОЗИМО. Слова ваши почти уничтожили в моих глазах военное звание, которое я считал самым прекрасным и почетным; если вы не объясните это подробно, я останусь недоволен, потому что если все идет так, как вы рассказываете, то я не знаю, откуда же взялась слава Цезаря, Помпея, Сципиона, Марцелла и множества римских полководцев, превозносимых молвой, как боги.
ФАБРИЦИО. Я еще совсем не закончил, поскольку собирался рассказать о двух вещах: во-первых, о том, что достойный человек не может выбирать себе военное дело только как ремесло; во вторых, о том, что ни одно упорядоченное государство, республика или королевство, никогда не позволит своим подданным физическим или юридическим лицам превращать в ремесло такое дело, как война.
О первом я сказал уже все, что мог; остается сказать второе, и тут у меня есть намерение ответить на ваш последний вопрос. Я утверждаю, что популярность Помпея, Цезаря и почти всех римских полководцев после Третьей Пунической войны объясняется их храбростью, а не гражданскими достоинствами; те же, кто жил до них, прославились, как воины, и как достойные люди. Так происходит потому, что они не делали себе из войны ремесла, тогда как для тех, кого я назвал ранее, война были именно ремеслом.
Пока придерживались чистоты республиканских обычаев, ни один гражданин, даже самый гордый патриций, и не думал о том, чтобы, опираясь на военную силу, в мирное время пренебрегать законами, разорять провинции, захватывать власть и тиранить отчизну; с другой стороны, даже самому темному плебею не приходило в голову нарушать клятву воина, примыкать к частным лицам, презирать сенат или помогать установлению тирании ради того, чтобы кормиться исключительно военным ремеслом. Военачальники удовлетворяются триумфом и с радостью возвращаются к мирной жизни; солдаты снимали оружие охотнее, чем брались за него, и каждый возвращался к своему занятию, выбранному как дело жизни; никто и никогда не рассчитывал жить награбленным добром и военным ремеслом.
Великий и поучительный пример оставил Атилий Регул; он был предводителем войска в Африке, и, когда карфагеняне были почти разгромлены, Регул просил у сената разрешения вернуться домой, чтобы возделывать свои земли, брошенные его же работниками. Ясно как день, что, если бы он занимался военным делом как ремеслом и хотел нажиться этим путем, он, хозяин стольких провинций, не просил бы разрешения вернуться домой и сторожить свои поля; каждый день наместничества приносил бы ему намного больше, чем стоило все его имущество. Но эти граждане были истинно достойными людьми, не делавшими из войны ремесла и не желавшими для себя от нее ничего, кроме работы, безопасности и славы. Потому, поднявшись на ее высшие ступени, они с радостью возвращались к своим домам и жили своим трудом.
Так вели себя самые простые люди и обычные солдаты. Это видно по тому, что каждый из них разлучился с армейской службой без сожаления. Покинув войско, он, однако, всегда был готов вернуться в строй и вместе с тем во время военной службы с радостью думал об освобождении от нее. Подтверждений этому достаточно; вам ведь известно, что одной из главных привилегий, которую римский народ мог предоставить своему гражданину, была свобода служить в армии только по собственному желанию, а не принуждению.
Пока были крепкими остовы Древнего Рима, то есть во времена Гракхов, не было солдат, для которых война стала бы ремеслом, а потому войско содержало очень мало подлых людей, и, если таковые себя проявляли, их наказывали по всей строгости закона. Поэтому любое благоустроенное государство должно задаваться целью — сделать военное дело в мирное время лишь упражнением, а во время войны — последствием необходимости и источником славы. Ремеслом оно может быть только для государства, как это и было в Риме. Всякий, кто, занимаясь военным делом, держит в уме постороннюю цель, тем самым демонстрирует себя плохим гражданином, а государство, построенное на иных устоях, не может считаться благоустроенным.
КОЗИМО. Я вполне доволен всем, что вы пока что сказали, особенно вашим выводом; для республик я его считаю верным, но не знаю, так ли это для королевств. Мне кажется, что король скорее пожелает окружить себя людьми, для которых война — их единственное ремесло.
ФАБРИЦИО. Благоустроенному королевству в особенности необходимо избегать такого рода специалистов, потому что они уничтожат короля и будут служить только тирании. Не опровергайте меня примерами современных королевств, потому как я не признаю их благоустроенными. В королевствах с хорошими учреждениями у короля нет неограниченной власти, кроме одного лишь исключения — армии; это единственная сфера, где необходимо быстрое решение, а значит, единая воля. Во всем остальном короли ничего не могут делать без согласия совета, а советники всегда будут побаиваться, что рядом с королем появятся люди, которые во время мира желают войны, поскольку им без нее не прожить. Однако, я готов быть уступчивее; не стану искать королевства вполне благоустроенного, а возьму королевство, похожее на существующие нынче; в этом случае король так же должен бояться людей, для которых война является ремеслом; он должен бояться их потому, что жизненной силой всякого войска, вне сомнения, является пехота.
Если король не примет меры для того, чтобы пехотинцы его войска после заключения мира охотно возвращались домой и снова приступали к своей работе, он неминуемо погибнет. Самая опасная пехота — это та, что состоит из людей, живущих войной, как ремеслом, потому что ты вынужден или вечно воевать, или вечно им платить, или вечно бояться низложения с престола. Воевать всегда невозможно, вечно платить нельзя — поневоле приходится жить в постоянном страхе.
Пока в моих римлянах еще жила мудрость и гражданская доблесть, они, как я уже говорил, никогда не позволяли своим гражданам смотреть на военное дело как на ремесло, хотя могли платить сколько угодно, потому что постоянно воевали. Римляне стремились избегать опасностей беспрерывного пребывания граждан в армии. Но поскольку времена менялись, они стали постепенно заменять новыми людьми тех, кто уже отслужил свой срок, так что в течение пятнадцати лет легион возобновлялся полностью. Таким образом, в войско набирались люди в расцвете сил, то есть от восемнадцати до тридцатипятилетнего возраста, когда ноги, руки и глаза человека наиболее сильны. Римляне ждали того, чтобы ослабела сила воинов и усилилась их хитрость, как это случилось позже, во времена всеобщего падения морали.
Октавиан, а за ним и Тиберий уже заботились больше о собственном могуществе, чем об общественном благе; поэтому, чтобы им было легче господствовать самим, они начали разоружать римский народ и держали на границах империи одни и те же легионы. Однако им казалось, что для усмирения римского народа и сената этого недостаточно, и вот появилось новое войско, получившее название преторианцев. Это войско всегда стояло возле самых стен Рима, и было как бы крепостью, возвышавшейся над городом. Тогда и начали охотно позволять солдатам этих войск превращать военную службу в ремесло, — и последствия этого сказались почти сразу же: обнаглевшие солдаты стали угрозой для сената и опасностью для императоров; многих из них убили бессовестные преторианцы, сводившие и сбрасывавшие с престолов всех, кого им было угодно. Случалось, что в одно и то же время появлялось несколько императоров, провозглашенных разными частями войск.
Такой порядок привел в первую очередь к разделу, а затем и к гибели империи. Поэтому, если король желает безопасности, он должен составлять свои пехотные войска из таких людей, которые при объявлении войны идут на нее охотно из любви к нему, а после заключения мира еще охотнее возвращаются в свои дома. Он достигнет этого всегда, если будет брать в армию солдат, умеющих кормиться не войной, а другим ремеслом. Поэтому, когда наступает мир, король должен позаботиться о том, чтобы князья вернулись к делу управления своими вассалами, дворяне — к хозяйствованию в своих владениях, пехотные солдаты — к обычным занятиям, и вообще добиться того, чтобы все они охотно брались за оружие во имя мира, а не пытались нарушить мир во имя войны.
КОЗИМО. Ваши размышления кажутся мне очень глубокими, но я продолжаю колебаться, поскольку ваши слова почти противоположны всему, о чем я думал до сих пор. Я вижу вокруг себя множество синьоров и дворян, которым знание военного дела позволяет существовать во время мира, например, таких, как вы, пребывающих на службе у князей и городов; я знаю также, что почти вся тяжелая конница продолжает получать свое жалование, а пехота остается на службе для охраны городов и крепостей; потому мне кажется, что во время мира каждому найдется место.
ФАБРИЦИО. Мне кажется, вряд ли вы сами уверены в том, что любой солдат найдет себе место в мирное время. Если бы даже не было других доказательств, можно было бы довольствоваться, указав, что численность солдат, остающихся на службе в местах, названных вами, очень невелика: разве есть хоть какое-то соответствие между количеством пехоты, необходимой на войне, и ее количеством в мирное время? Ведь гарнизон мирного времени в крепостях и городах должен быть по крайне мере удвоен во время войны; сюда стоит добавить большое количество полевых войск, которые в мироне время распускают.
Что касается войска, охраняющего правительство, то пример папы Юлия ІІ и вашей республики наглядно продемонстрировал, какими страшными являются солдаты, не желающие учиться никакому ремеслу, кроме войны; ведь дерзость этих воинов заставила вас отказаться от ихних услуг и заменить их швейцарцами — людьми, родившимися и воспитанными в уважении к законам и призванными обществом по всем правилам настоящего набора. Потому не говорите больше, что каждому найдется место в мирное время.
Относительно тяжелой кавалерии ответ на ваш вопрос кажется более сложным, потому что вся она и после заключения мира сохраняет свое жалование. Но если посмотреть на дело внимательнее, то ответ найти легко, потому как этот порядок сохранения на службе конницы сам по себе вреден и глуп. Дело в том, что для всех этих людей война — ремесло; если бы они только были подкреплены достаточно сильными отрядами пехоты, то ежедневно доставляли бы тысячи неприятностей правительствам, при которых были созданы; но так как их мало, и они сами по себе не могут образовать войско, то и вреда от них часто не так уж и много.
А, впрочем, они приносили достаточно вреда, как это видно по примерам Франческо Сфорца, его отца, и Браччо из Перуджи, о которых я вам уже рассказывал. Потому я не поклонник обычая оставлять конницу на постоянной службе, — это плохое правило, могущее доставить большие неудобства.
КОЗИМО. Вы желаете совсем обойтись без нее? А если вы ее все же сохраните, то каким образом?
ФАБРИЦИО. Путем набора, но не так, как это делает король Франции из-за того, что заведенный там порядок так же опасен, как наш, и не защищает от солдатского беспредела. Я поступал бы как древние, у которых конницу составляли их же подданные. Когда заключали мир, конницу распускали по домам, и возвращали к обычным делам; впрочем, я подробнее скажу об этом позже. Таким образом, если этот род войск может сейчас даже в мирное время жить своим ремеслом, это происходит лишь от извращенного порядка вещей. Что касается денег, выплачиваемых мне и другим военачальникам, то я прямо скажу, что это вредное мероприятие: мудрая республика не платила бы такое жалование никому, а во время войны ставила бы во главе войска только своих граждан, которые по окончании войны возвращались бы к мирным занятиям. Так же поступал бы и мудрый король, а если бы он и платил это жалование, то в качестве вознаграждения за личный подвиг или как цену за услуги, которые военачальник может предоставить как мирное, так и в военное время.
Поскольку вы ссылаетесь на меня, то я приведу собственный пример и скажу, что война никогда не была для меня ремеслом, потому что мое дело — это управление моими подданными, а также их защита, а для того, чтобы их защищать, я должен любить мир и уметь вести войну. Мой король ценит и уважает меня не столько за то, что я понимаю военное дело, сколько за умение быть его советником в мирное время. Если король мудр и желает править разумно, он должен приближать к себе только таких людей, потому как чрезмерные сторонники мира или слишком ревностные сторонники войны обязательно направят его по ошибочному пути.
Теперь я вам по этому поводу больше ничего не могу сказать, и если этого мало, то вам придется обратиться к собеседнику, лучше меня понимающему, как вам угодить. Сейчас вы, возможно, начинаете понимать, как тяжело применять к современным войнам древние обычаи, как должен готовиться к войне любой предусмотрительный правитель, и на какие обстоятельства он может рассчитывать, чтобы достичь намеченных перед собой целей. Если моя беседа вас не утомляет, то вы шаг за шагом приблизитесь к более точному пониманию этих вещей, по мере того, как мы будем подробно сравнивать древние установления с порядками наших дней.
КОЗИМО. Если нам и раньше хотелось узнать ваш взгляд на эти предметы, то после всего, что вы сказали, наше желание лишь удвоилось; мы благодарим вас за то, что уже получили, и просим рассказать нам другое.