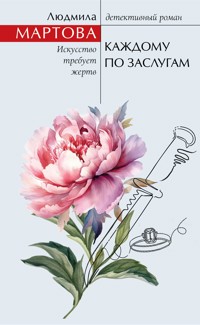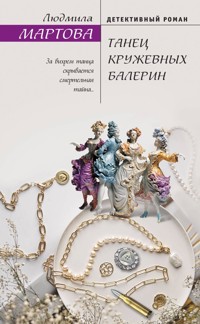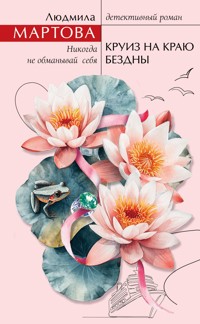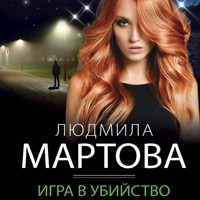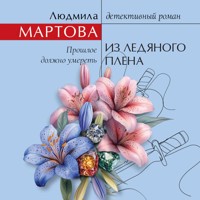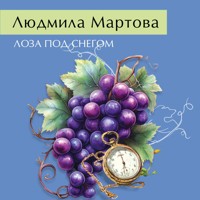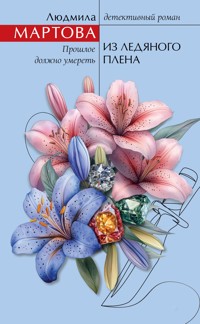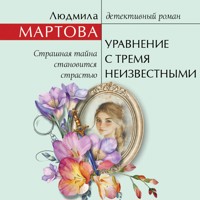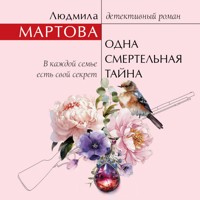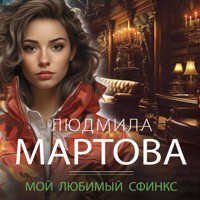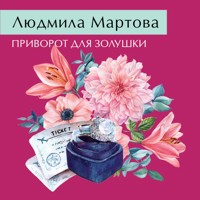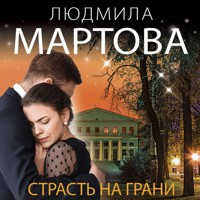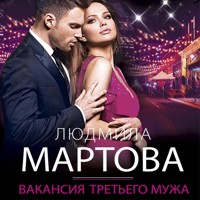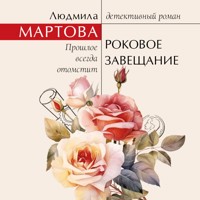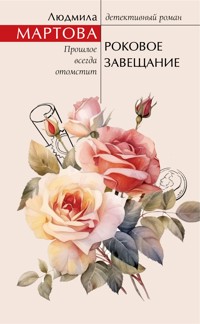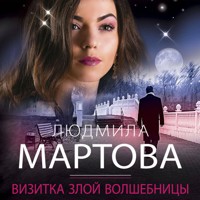Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой
- Sprache: Russisch
Чтобы закончить работу над диссертацией, Саша Архипова приезжает в умирающую деревню, где нашли уникальную берестяную грамоту. Это официальная версия, а на самом деле Саша сбежала от бывшего возлюбленного. Но все идет не по плану — она находит труп в разрушенной усадьбе! Это ее новый знакомый, встреченный накануне. Природные аналитические способности и навыки ученого не дают ей покоя. Она намерена разобраться в произошедшем и разгадать семейную тайну, корни которой уходят в далекое прошлое…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Людмила Мартова Одна смертельная тайна
© Мартова Л., 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Все события вымышлены.
Любые совпадения случайны.
Он чувствовал, что находится совсем близко к цели. Ему осталось обследовать только один этаж старого разрушенного особняка. Впрочем, то, что здание сильно пострадало от времени, существенно облегчало задачу. Сюда часто таскались посторонние, но в пыльных залах с обвалившейся штукатуркой и частично обрушившимися потолками и лестничными пролетами следы его изысканий не так сильно бросались в глаза.
Он даже не пытался их заметать. Одной разрушенной стеной больше, одной меньше. Вскрытый пол тоже никого не смутит. Иногда он впадал в отчаяние, потому что время утекало сквозь пальцы, а он так и не мог ничего найти. В любой момент здесь появится новый владелец поместья. Слухи о реконструкции становились все более громкими. Оно и понятно, весна уже – когда и начинать реставрационные работы, если не сейчас.
Возведут леса, пригонят гастарбайтеров, которые даже на ночь будут оставаться в вагончиках рядом с объектом. Куда ж им деваться, если до ближайшего городка тридцать километров? Объект наверняка будет под присмотром десятков глаз. Да еще и камеры поставят, не дай бог. Как бы то ни было, сюда будет не подобраться, и о том, что он ищет, придется надолго забыть. А если найдут ОНИ?
От одной только мысли об этом его прошиб пот. Да, время, отведенное на поиски, уходит. Нужно поторапливаться. А если то, что он ищет, вообще не в доме? Такую мысль он допускал, но она его не пугала. Как только он закончит с домом, займется территорией вокруг него. Конечно, никаких других построек в усадьбе не осталось, но наверняка существует план поместья, на котором они отмечены. Если его найти, то очертить квадраты раскопок он сможет.
Копать, правда, придется по ночам, чтобы не привлекать внимания местных. Это внутри огромного дома можно работать в любое свободное время. На открытой местности так не получится. Но и это его не пугало. Куш, который можно сорвать, если все выгорит, огромен.
Какой-то странный шорох привлек его внимание. Закрякала утка. Точнее, заквохтала, оправдывая свое местное название. Квохта. Неоткуда было здесь, в трехэтажном особняке, взяться утке. Он повернулся на звук, чтобы определить источник его возникновения, и тут же получил в грудь пулю. Пущенная с близкого расстояния, она обладала такой силой, что его отбросило в сторону. Падая на только что раскуроченный во время поисков пол, он был уже мертв.
За окном поднималось солнце. Рассвело с час назад, и охота была в самом разгаре. Всем известно, что рассвет – лучшее время для охоты с подсадной. В это время селезень действует самым бесстрашным образом с минимальной оглядкой. Он даже облетов не совершает, прямиком плюхаясь в озеро к сидящей там манной утке.
Выстрелы, раздавшиеся вслед за только что прозвучавшим в старом доме, были тому подтверждением. И на лишний выстрел во время охоты, разумеется, никто не обратил никакого внимания.
1840 год
Марфа
На улице послышались голоса, и пятнадцатилетняя Марфа прильнула к мутному окошку, покрытому трещинами. Нет в семье денег, чтобы заменить стекло. Да и вообще ни на что нет. Двенадцать детей, шутка ли, и она, Марфа, самая старшая. В низеньком скособоченном домике, покрытом соломой, в прямом смысле слова жили семеро по лавкам. Средние мальчишки, все четверо, спали на печи, и зимними ночами Марфа страстно им завидовала. На печи все же тепло.
Отец с матерью и очередным младенцем – кои появлялись в семье каждый год – ютились в углу, отгороженном от жилой комнаты занавеской. На приступке к печи располагался на ночлег Марфин брат, младше ее на полтора года. Во второй комнате на трех кроватях, сдвинутых так плотно, что ногу не поставишь, располагались девочки: сама Марфа и пять ее сестер. Спали по двое на кровати, и это хоть немного спасало от холода. К утру комната, в которую задней своей стороной выходила печь, выстывала так, что дыхание замерзало в воздухе.
Страдать приходилось не только от холода, но и от голода. Пропитание добывалось тяжким трудом, и все равно на всех не хватало. Иной день в доме не было даже хлеба. Для малышей белый хлеб заливали молоком, готовя тюрю. Старшие обходились ржаными сухарями, размоченными в воде. Если удавалось капнуть в получившуюся кашицу постного масла, так и вовсе праздник. Есть хотелось постоянно. От голода у Марфы то и дело скручивало живот, да так сильно, что она сгибалась пополам, чтобы хотя бы немного облегчить боль.
Братья с малых лет работали, помогая отцу в его нелегком крестьянском труде. Крепостными они не были, относились к так называемым государственным крестьянам, но легче от этого не становилось. Что на помещика спину гнуть, что на чиновника – какая разница. Десять рублей в год вынь да положь в казну. А их даже при хорошем урожае заработать ой как непросто.
Сестры помогали матери по хозяйству. Сама она, то беременная, то кормящая на протяжении вот уже полутора десятков лет, отличалась слабым здоровьем, не позволяющим даже ведро с водой поднять. Неудивительно, что Марфе, как старшей, приходилось тяжелее всех. Худо жилось ей в родительском доме, ой худо.
С детства она была ладненькая, налитая, как спелое яблочко, а к пятнадцати годам превратилась в редкостную красавицу. Волосы цвета спелой пшеницы струились по узкой, но крепкой спине, а когда она заплетала их в косу, то та выходила с руку толщиной. На румяном личике сверкали ярко-синие глаза, обрамленные густыми, очень черными ресницами. Под пухлыми губками прятались ровные зубы, белые, как маленькие жемчужины.
Красота была ее вознаграждением за то, что на свет в семье она появилась раньше братьев и сестер. С каждым последующим ребенком таяла материнская сила, а вместе с ней и здоровье появляющихся на свет детей, унося и ладную внешность. Только два брата, родившихся сразу на Марфой, унаследовали стать отца и былую красоту матери, остальные дети в семье Аграфениных росли блеклыми, невзрачными, худосочными и болезненными.
Впрочем, Марфа и сама не знала, как лучше. Для отца старшая дочь стала выгодным товаром, который можно удачно сбыть в чужую семью, получив за это неплохой магарыч. Она была в курсе, что отец ищет ей мужа, да такого, семья которого помогла бы семейству Аграфениных хоть немного продохнуть от беспросветной нужды.
Нет, Марфа была не против выйти замуж, вот только выбора отцовского немного страшилась. А ну как попадется ей в мужья горький пьяница? Даже если и будет он из зажиточной семьи, так ведь любое добро пропить недолго. Или руки распускать станет? Вон, как соседская теть Шура: почти каждый день муж выгоняет ее из дому босой на мороз да бьет батогами. У нее все тело исполосовано – Марфа видела, когда мать избитую Шуру в бане водой отливала.
Шура еще говорила сквозь слезы, что матери-то с мужем повезло. Не пьет, не бьет, на мороз не выгоняет, пашет от зари и до зари. А что толку, если в доме ничего, кроме хлеба, да и тот не всегда?
Из всех девок в округе Марфа больше всего завидовала Василине, жене Степана, старшего сына в семье Якуниных. Жили они не в деревне Куликово, а в соседней, за рекой, носящей невесть откуда взявшееся название Глухая Квохта. Степан был собой хорош – высокий, статный, косая сажень в плечах, глаза шальные, темные, веселые. Василина на деревенских посиделках всегда появлялась в обновках, то в яркой шали на плечах, то с новой лентой в волосах.
Якунины считались зажиточными крестьянами. Дом у них был не чета аграфенинскому. Не покосившаяся избушка, накрытая полусгнившей соломой, а бревенчатая изба с покатой крышей, с резными ставнями на окнах, с просторными сенями. И детей у Якуниных-старших было всего трое и все сыновья. Старший – уже упомянутый Степан, средний – Никита и младший – Потап.
Степану недавно исполнилось двадцать, Никите – тринадцать и Потапу – девять. В промежутках между сыновьями Арина Петровна Якунина рожала и дочерей, да вот только те помирали, не прожив и пары месяцев. Только одной, последышу, названному Стешей, удалось дотянуть до двух лет, после чего девочка утонула в деревенском пруду. Арина Петровна уверяла, что это все потому, что женский род их проклят до седьмого колена.
За среднего сына Якуниных, тринадцатилетнего Никиту, и сватал отец Марфу. Все бы было ничего, вот только возраст жениха ее пугал. Мальчишка еще совсем, на два года младше ее самой. Неделю назад отец брал старшую дочь с собой на ярмарку, которую проводили в Глухой Квохте. Деревня была большая, и торжище там по традиции проходило в середине зимы.
Конечно, с настоящими ярмарками, которые устраивались в городах, с их балаганами, театрами-райками, кулачными боями и прочими развлечениями торг в Глухой Квохте был несравним, но настоящую ярмарку Марфа никогда и не видела. Но самую закадычную ее подружку Глафиру Худякову каждый год отец брал на ярмарку в город, куда он возил продавать выделанную кожу и шкуры. От Глафиры Марфа и знала про это сказочное место, где простой народ со всей округи продавал излишки своего урожая и разную продукцию, прикупая на вырученные деньги обновки для всей семьи и заодно отдыхая от изнурительной работы.
На ярмарке продавали и покупали соль, рыбу, металлические и глиняные изделия, меха, льняные и хлопковые ткани, сырые и дубленые кожи, льняное семя и масло, холст и сукно, дичь, скот, сало, сено, кухонную утварь, сахар, пряности и лакомства. Здесь же сапожники тачали сапоги, цирюльники брили бороды, портные чинили одежду. Ах как бы хотела Марфа хотя бы одним глазком посмотреть на все это великолепие.
Глафира рассказывала про бублики и сахарные крендели, а также про царящую на ярмарке атмосферу безудержного веселья. Там играла музыка, звучали народные песни, водились хороводы, устраивались веселые конкурсы и игрища. Нарядно одетые люди катались на каруселях и качелях, веселились от души и даже наблюдали за выступлениями скоморохов, горбатого Петрушки с тонким писклявым голосом и других героев вертепа – кукольного театра в коробке с вырезанным днищем – и даже настоящего балагана.
Ничего подобного в Глухой Квохте не было и в помине. Здесь просто расставляли большие столы, на которые съезжающиеся торговцы выкладывали и выставляли свои товары. Из развлечений был разве что сапог на столбе, куда за небольшую плату мог залезть любой юноша. Для бедноты, которая жила вокруг, новые сапоги считались настоящей драгоценностью, вот только далеко не каждый обладал такой ловкостью, чтобы добраться до самого верха и урвать обновку, заодно поразив впечатлительных девушек.
В прошлом году Артему удалось, Марфиному брату, и он целый год проходил в заслуженной обнове, пока нога не выросла настолько, что сапоги стали немилосердно жать, после чего перешли следующему сыну Аграфениных – Федоту. Вот на такую «малую» ярмарку и взял отец с собой Марфу, сразу предупредив, что денег ни на какие обновки или пряники с леденцами у них нет.
Так она и проходила между торговыми рядами, пожирая глазами продающееся там великолепие, познавая всю горечь поговорки «Видит око, да зуб неймет». Один бублик ей, впрочем, все-таки достался. Им угостил Марфу Григорий Никифорович Якунин – огромный лохматый мужик лет пятидесяти с огненными глазами, горящими под кустистыми бровями, сросшимися на переносице. Еще у него была окладистая седая борода с проседью. Марфа его забоялась.
Он же, наоборот, смотрел на нее смеющимися, почти ласковыми глазами, вручил бублик, купил у отца остатки прошлогоднего, уже довольно прелого сена и по окончании ярмарки пригласил к себе в дом.
Дом Марфу потряс. Одни только полати между стеной и большой русской печью оказались такими огромными, что Марфе чудилось, что по размеру они превосходят ее отчий дом целиком. Красавица Василина, жена Степана, споро накрывала на стол, но Григорий Никифорович велел ей показать Марфе подклет.
Нижний этаж, расположенный под жилыми помещениями, выглядел таким же просторным, как весь дом. Марфа, как зачарованная, смотрела на ряды бочонков, в которых хранились соленья, варенья, сало, грибы, моченые ягоды. Была здесь и морошка, и брусника, и клюква, и грибы, а также капуста, морковь, картошка, крупы в мешках, мука и сахар. Под потолком на крюках висела свиная туша. Точнее, то, что от нее осталось. Марфа отродясь столько еды не видывала.
Погостив у Якуниных с полчаса – именно столько потребовалось, чтобы испить чаю с брусничным пирогом, – Марфа с отцом вернулись домой, в Куликово. И вот теперь, спустя неделю, Григорий Никифорович с Никитой наносили Аграфениным ответный визит. Да не простой, а со сватами.
Увидев, как гости вылезают из телеги, запряженной конем с лентами в гриве, Марфа отпрянула от окна, чтобы не быть застуканной за подглядыванием. Может, и хорошо, что батюшка нашел ей жениха. Заманчиво это – обзавестись собственной семьей и перестать горбатиться на всех братьев и сестер. Да вот только в мужниной-то семье тоже вряд ли забалуешь. Вся округа знает, насколько крут нравом Григорий Никифорович. Да и жених-то совсем мальчишка. Вот кабы ее Степан сосватал… Так он уже женат.
Впрочем, Степана с прошлого лета забрили в рекруты. Василина, даже не успев родить первенца молодому мужу, осталась в семье свекра и свекрови одна. Правда, на ее цветущий вид и яркие наряды это совсем не повлияло. Может, и правда, заботятся о невестках в якунинском доме. Может, и ей там хорошо будет.
За накрытым столом, на который гости выставили привезенное с собой угощение, ударили по рукам, назначив свадьбу на весну, сразу после Великого поста. Марфа для порядка проплакала всю ночь из-за юного возраста и невзрачного вида жениха, но к утру смирилась. Да и не спрашивал никто ее согласия. Батюшка сказал замуж, значит, замуж. Вот и весь сказ.
– Жалко мне тебя из отчего дома отпускать, Марфушка, – сетовал он. – Работница ты хорошая, да и любимица моя. Но пора тебе за мужнину спину перебираться. А у Якуниных тебе хорошо будет. Сытно. Никита – парень хороший, добрый. Он тебя не обидит. Да и верх ты над ним быстро возьмешь. Характер у тебя посильнее будет.
Пасха в том году выпала на четырнадцатое апреля, Красную горку отметили двадцать первого. С этого дня впервые с начала Великого поста церковь возобновляла проведение венчальных обрядов. Марфа верила в народные приметы, а потому надеялась, что свадьба станет для нее залогом долгой и счастливой семейной жизни. Недаром же говорят, кто женился и вышел замуж на Красную горку, тот будет счастлив всю жизнь. И венчание, и торжество провели в Глухой Квохте, после чего родня Марфы уехала к себе в Куликово, а она сама осталась в родительском доме молодого мужа, которому отныне предстояло стать домом и для нее.
Наши дни
Саша
Путь Саши лежал в деревню под смешным названием Глухая Квохта. Вернее, с точки зрения лингвиста Александры Архиповой, ничего смешного в названии не было. Квохтой называли северную утку средних размеров, сбивающуюся в многочисленные стаи. Охотники так и говорили: «Квохта пошла». Это Саша вычитала, собираясь в поездку.
В одном из источников она нашла информацию, что в средней полосе России местные жители так называли вальдшнепов из-за того, что птица эта издавала характерное квохтанье. Но вальдшнепы Сашу не интересовали, только утки. Она и в деревенскую глухомань-то отправилась исключительно из-за уток, точнее, из-за их кражи, случившейся, если верить документальным источникам, которые изучала Александра Архипова, в середине двенадцатого века.
Три года назад именно здесь, неподалеку от Глухой Квохты, проводились археологические раскопки. Один из местных (а может, не местных, Александра не уточняла) олигархов намерился построить здесь охотхозяйство, специализирующееся на водоплавающей и лесной дичи. Мужиком он оказался основательным, поэтому нанял специалиста-археолога, чтобы присматривал за извлекаемыми из земли предметами. Государство не требовало, а вот совесть – да.
Серьезный и совестливый подход окупился сторицей, потому что уже через месяц работы на окраине деревни нашли берестяную грамоту. Лингвист Архипова как раз была «берестологом», то есть человеком, специализирующимся на таких грамотах. Последние девять были найдены в Новгороде Великом и еще две – в Старой Руссе. После этого случились четыре года затишья, и вот наконец находка в Глухой Квохте, которая тут же всколыхнула научное сообщество.
Конечно, ничего особенно скандального, типа найденных ранее писем на бересте, в которых описывались драматические ситуации вроде «проданного сына» и злой мачехи, обзывающей падчерицу «вражиной», в ней не было, но кое-что любопытное, причем как в историческом, так и в лингвистическом плане, все же имелось.
Грамота, довольно старательно порванная еще в древности, свидетельствовала о состоявшейся краже уток. Ее пытались уничтожить с особой тщательностью. Грамоту не только порвали на куски, но еще и верхний слой бересты оторвали, и только на нижнем остались глубокие отпечатки надписи, выцарапанной острым предметом.
Из грамоты следовало, что некто украл двадцать (точнее, полсорока) тушек уток. И Александра понимала, что число двадцать не было случайным, ведь многие товары на Руси исчисляли «сороками». Кто именно и зачем украл уток, оставалось неясным, и лингвист Архипова, готовящая к защите кандидатскую диссертацию, охотно включилась в расследование, которое кроме научного оказалось еще и детективным.
То, что утки были именно украдены, подтверждалось хорошо сохранившимся словом «крале», за которым уцелели крохотные фрагменты четырех букв, явно скрывающие имя преступника. Из точек и черточек выходило, что уток украл некий князь, но князь, ворующий уток, да еще и попавший под следствие, плохо укладывался в сознание.
С помощью реконструкции фрагментов и анализа возможных вариантов ученые, в число которых входила и Александра Архипова, пришли к выводу, что обрывок грамоты содержал древнее написание слова «Я». Другими словами, кто-то чистосердечно признавался в письменном виде в том, что «я крал уток».
Сашин научный руководитель, академик Российской академии наук, профессор Розенкранц утверждал, что текст соответствует содержанию так называемых расспросных речей Разбойного приказа. В таких случаях всегда в начале текста содержалась информация о том, что именно украли, а потом записывали, что такой-то тать признался в том, что крал или грабил, а случалось, и убивал. Другими словами, документ, с которым работала Александра Архипова, представлял собой запись допроса пойманных разбойников.
Далее в грамоте упоминались «пять гривен за уток», а также слова про некую «дань». Получалось, что береста представляла собой фрагмент протокола судебного дела, то есть являлась древнейшим образцом древнерусской судебной документации, составленной с помощью писцов.
Разумеется, все работы с бесценным хрупким материалом Александра проводила в специальных условиях, созданных на средства гранта в Высшей школе экономики, где она училась в аспирантуре. Вот только ее почему-то тянуло туда, где была обнаружена грамота. То ли чтобы проникнуться духом этих мест, то ли в надежде найти еще что-нибудь ценное, и в последних числах марта Саша отправилась в Глухую Квохту.
– И что ты будешь делать в этой глуши? – вопрошала подруга, знаменитая писательница Глафира Северцева, с которой Саша училась в школе. Давно это было. Очень давно. – И где ты собираешься жить? В деревенской избе?
Глафира была настроена крайне скептически.
– А если даже и в избе, так что ж с того? – отбивалась Александра. – Зато мое научное исследование будет аутентичным, что не может не сказаться на его качестве. Глашка, не пугай ты меня. Я и так боюсь. Мне летом на защиту выходить. Это, знаешь, как страшно.
– Я просто не понимаю, что ты хочешь там найти. В этой глухомани, – не сдавалась Глафира. – Ты же не собираешься раскрывать преступление, совершенное в двенадцатом веке? И никаких архивов там нет, чтобы попытаться в них найти хотя бы что-то.
– Да не собираюсь я ничего искать, – рассердилась вдруг Саша. – Я собираюсь провести десять дней на свежем воздухе, на натуральных продуктах, побродить по тамошнему лесу, пропитаться атмосферой и закончить работу над текстом диссертации. В тишине и покое. Надоело мне в Москве, понимаешь?
– Понимаю, – проницательно заметила Глафира. – Ты просто никак не можешь отойти от расставания с Данимиром, поэтому хочешь сбежать куда глаза глядят. Глухая Квохта в этом смысле вполне подходящее место.
Сердиться на Глафиру не имело никакого смысла, тем более что подруга была совершенно права. Все Сашины метания были вызваны именно присутствием в ее жизни Данимира. Точнее, его отсутствием. Данимир Козлевич тоже был аспирантом профессора Розенкранца, занимающимся берестяными рукописями, а потому даже после расставания они были обречены встречаться в лабораториях, коридорах, на семинарах и конференциях, а также в библиотеке.
Видеть Козлевича было мучительно и горько, особенно потому, что он делал вид, что ничего между ними никогда не происходило. Хотя, если разобраться, может, и правда не происходило. Подумаешь, три года встречались, из них год и четыре месяца жили вместе, снимая одну квартиру на двоих.
Вернее, это Саша продолжала оплачивать квартиру, которую сняла, когда поступила в аспирантуру, а Данимир просто переехал к ней и раз в месяц выдавал некую сумму на ведение хозяйства. Сумма предусматривала и половину арендных платежей, вот только была она так невелика, что, собственно, на хозяйство почти ничего не оставалось.
Саша не роптала, потому что, во-первых, знала о более чем скромной зарплате Козлевича, а во-вторых, считала пошлым и банальным ссориться из-за денег. Ей их как раз хватало. Помимо работы в университете, где она вела семинарские занятия и была ассистентом профессора Розенкранца, она еще занималась компьютерной лексикографией, то есть участвовала в составлении электронных словарей. За это неплохо платили, вот только нагрузка, конечно, была значительной, особенно если добавить к этому работу над диссертацией и ведение домашнего хозяйства.
На Данимира в этом плане надежды не было никакой. Он к бытовым вопросам был неприменим. Даже купить по дороге из университета продукты по заранее составленному списку оказывалось для него непосильной задачей. Александру Архипову такая неприспособленность к жизни умиляла. Почти полтора года она безропотно тащила этот воз на себе, а потом случилось то, что и должно было случиться.
Данимир, ее Данечка, сказал, что уходит. Он больше не мог жить с ней, вечно занятой распустехой, не имеющей ни времени, ни желания, ни свободных денег на хорошего косметолога и салоны красоты. Саше действительно казались глупостью все ухищрения, направленные на погоню за ускользающей молодостью. В конце января ей исполнилось тридцать четыре года. Не так уж и много, но и немало, особенно если за плечами нет ничего, кроме неплохого образования.
Под «ничего» подразумевалось отсутствие семьи, мужа и детей, что Александру Архипову немного угнетало. Она выросла в большой и дружной семье, где кроме нее было еще два старших сына. Братьев Саша обожала. Старший, кадровый военный, уже вышедший в отставку, обосновался в Калининграде, средний жил в Санкт-Петербурге, и к обоим младшая сестра довольно часто летала на выходные, благо в Москве существовала такая возможность.
Ее отлучки, кстати, тоже немало раздражали Данимира, который любил в выходные сходить на какой-нибудь концерт или спектакль, а потом вернуться домой и с аппетитом съесть приготовленный Александрой ужин. Когда она уезжала, то еду, конечно, оставляла, но довольно простую, подразумевающую разогрев. Пельмени, блинчики с мясом, кастрюлю супа или пюре с котлетами.
Данечкина же душа просила пасту с морепродуктами, запеченную рульку в пиве или картофель с прованскими травами, причем все это великолепие должно было быть свежим, с пылу с жару. А она вместо этого уезжала к братьям. Непорядок и беспредел.
Данимир Козлевич был уверен, что Александра должна относиться к нему как к дару небес. А что? Молодой, красивый, высокий, перспективный ученый, а главное – холостой. Сколько женщин довольствуются жалкими огрызками в виде женатых любовников, украдкой выкраивающих для быстрых соитий какие-то жалкие полтора часа в неделю. Он же был рядом каждый вечер, возвращаясь домой, как будто даря Александре дорогостоящий сувенир, ценный приз, доставшийся не совсем по праву. Скорее, просто из-за нечеловеческой удачи и везения.
С таким определением Саша была согласна, потому что очень Данимира любила. У нее сердце замирало, даже когда она просто смотрела на него, отдыхающего после занятий любовью. Секс, весьма непродолжительный, всегда крайне его утомлял. Данимир откидывался на подушки, лоб его покрывался мелкими бисеринками пота, грудь бурно вздымалась, и Саша каждый раз чувствовала себя чуть ли не преступницей от того, что он так устал.
Она практически никогда не успевала получить удовольствие, но это было совсем неважно. Не заставлять же любимого напрягаться еще больше только из-за того, что она такая медлительная и холодная. Не может завестись с пол-оборота, как нормальная женщина.
Глафира, с которой Саша как-то поделилась расстройством по поводу собственного несовершенства, обозвала Данимира мудаком. Они тогда даже почти поругались, хотя не ссорились никогда с того самого дня, как оказались рядом на линейке, придя в первый раз в первый класс. Их близкому общению не мешало даже то обстоятельство, что после школы Глафира Северцева осталась учиться в родном городе, а Александра Архипова уехала в Москву. Для настоящей дружбы расстояние не имеет никакого значения.
В ту их единственную ссору Саша не стала напоминать подруге, что у той путь к счастью тоже был довольно непростым и тернистым. Довольно долго Глафира встречалась с женатым человеком и совсем иссохла от своей любви, от которой ее спасло неожиданное знакомство с бизнесменом Глебом Ермолаевым[1].
Тот сразу разобрался, каким сокровищем является писательница дамских романов Северцева, быстренько на ней женился, и к настоящему времени Глафира была любимой законной женой и матерью девятимесячной дочки Марфуши. Вообще-то Глафира хотела сына, но Ермолаев утверждал, что выполняет только тонкую работу. От первого брака у него была тоже дочь. Звали ее Таисия, и эта двадцатипятилетняя особа вызывала у Александры чувство, схожее с благоговением, такая она была умная, самостоятельная и решительная.
Тайка жила в Москве, поэтому Глеб и Глафира сразу же их познакомили. Закончила она факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и работала в одной из крупнейших консалтинговых фирм, куда регулярно звала на работу и Александру, уверяя, что лингвисты, разбирающиеся в составлении электронных словарей, им очень даже пригодятся.
Предложение было заманчивым, но Александра отчего-то медлила на него соглашаться. Чтобы Тайка не приставала (а эта молодая леди привыкла всегда добиваться своего), Саша сказала ей, что сначала должна защитить диссертацию, уж слишком много времени она отнимает. Такой подход Таисия Ермолаева сочла справедливым и согласилась подождать.
А вот Данимир ждать не собирался. И смиряться с ее, Сашиным, несовершенством тоже. Ему надоели ее постоянные задержки в библиотеке, на работе или в университете. Надоел свет лампы на рабочем столе, за которым она ночью работала над текстом диссертации. Надоело превосходство в науке, которое постоянно подчеркивал профессор Розенкранц, поездки к братьям, встречи с Тайкой, почти ежедневные телефонные разговоры с Глафирой, и вообще она вся ему надоела, о чем он открыто и сказал Александре, после чего заметался по квартире, собирая вещи.
Данимир ушел в конце января, за два дня до Сашиного дня рождения, который она встретила в постели, отчаянно завывая от горя. Вызванная Таисией верная Глафира сидела рядом, приносила чай, варила куриный бульон, который, по ее мнению, был надежным лекарством от любых болезней, включая сердечные, на чем свет стоит костерила Козлевича, но все это ни капельки не помогало от душевной муки, терзавшей Александру.
С того момента прошло почти два месяца, но легче не становилось. Душевная боль притупилась, отошла куда-то на второй план, но совсем не проходила, оставаясь постоянной спутницей. Саша с ней просыпалась, варила кофе, ехала на работу, занималась берестяными грамотами, писала диссертацию, покупала продукты, готовила нехитрую еду. Она ела, не чувствуя вкуса, разговаривала с близкими, не вслушиваясь в смысл произносимых ими слов, а потом ложилась в постель и засыпала. Снился ей Данимир, и с этим тоже ничего нельзя было поделать.
Профессор Розенкранц, видя ее осунувшееся лицо и истощавшую фигурку, заговорил о том, что его лучшей аспирантке следует отдохнуть. Уехать.
– Куда? – безразлично спросила Александра, думая только о том, что сегодня вторник, а это значит, что она точно увидит Данимира.
Она уже знала, что любимый переехал жить к владелице сети ресторанов Тамаре Плетневой, известной московской предпринимательнице и руководителю элитного женского клуба. Она один раз даже мельком видела их с Данимиром вместе, когда Плетнева заехала за ним после заседания кафедры. Видела и удивилась.
Таким, как Тамара, должны были нравиться тренеры из фитнес-клуба, выносливые в постели и не обремененные излишним интеллектом. Зачем ей легко утомляющийся Данечка, оставалось непонятным. Впрочем, это ей объяснила Глафира, находившая ответы на все вопросы.
– Сашка, ну ты чего как маленькая, – укоряла она. Голос в трубке звенел и переливался, как колокольчик, от переполнявшего Глафиру счастья. – Фитнес-тренеры – это вчерашний день. Они у всех есть, это неинтересно, ей-богу. А вот молодой, подающий надежды ученый, да еще занимающийся такой тонкой сферой, как берестяные грамоты, – это свежачок. Такого у подруг и коллег не встретишь. Раритет, так сказать. Не стыдно выводить в люди.
Все-таки Глашка иногда бывала ужасно циничной. Александра же предпочитала думать, что между Данимиром и Тамарой вспыхнула любовь. А что? Так же бывает. Прожженная бизнес-леди вполне могла влюбиться в неприспособленного и тонко чувствующего Данечку, а тот тоже мог открыть сердце женщине, твердо стоящей на ногах, а не такой безалаберной девице, как Александра Архипова.
– Куда я должна поехать, Алексей Яковлевич? – Саша вынырнула из своих печальных мыслей и взглянула профессору в лицо.
– Да не должна, – с досадой поморщился тот. – Вы вообще ничего никому не должны. Только себе. Вам нужно уехать куда-нибудь в отпуск. На пару недель. В тишине и покое, без ложной суеты подготовить работу к отправке на рецензирование, а заодно проветрить голову и посмотреть на новые места. Турция, Армения, Азербайджан. Сейчас не сезон, поэтому и цены пониже, и нежарко.
Денег на заграничные турне, пусть даже и не в сезон, у Александры Архиповой не было. Да и не хотела она ни в какие турне. Однако мысль уехать засела в голове, потому что казалась спасительной. Уехать. Не видеть Данимира хотя бы две недели. Не приходить в опустевшую квартиру, где на каждом шагу попадаются забытые им вещи.
Его чашка, подаренная Сашей в прошлом году на двадцать третье февраля, его носки, завалившиеся за кресло, – он вечно их раскидывал. Начатая им книга, заложенная подаренной Сашей же серебряной закладкой ровно на середине. Шампунь в ванной. Кучка презервативов в ящике комода. Данимир до обморока боялся, что Саша может забеременеть, поэтому запас презервативов пополнял своевременно.
Решение пришло неожиданно. Глухая Квохта. Затерянная в глубинке деревня, в которой три года назад нашли берестяную грамоту с информацией про украденных уток. Ведь и название деревни отсылает именно к уткам. А что, если это не случайно? В это место ее тянула какая-то неведомая сила. И в какой-то момент ей показалось, что лучше сдаться на милость этой силе, чем сопротивляться. Спокойнее точно. А может быть, и полезнее.
– Ты с ума сошла, – утверждал голос Глафиры в трубке. – Это же деревня. Там отелей нет. Ресторанов тоже нет. И людей нет. Наверное.
– Во-первых, там есть охотничья база. Та самая, при строительстве которой проводились археологические раскопки. Может, я там номер сниму. А что? Интересно же.
– А если не снимешь? – продолжала вопить Глафира.
– Тогда сниму комнату у какой-нибудь бабушки. Как ты выражаешься, в избе. Узнаю историю этих мест. Почему деревню назвали Глухой Квохтой? То-то же. Не знаешь.
– Да мне и не надо, – по снизившемуся накалу в голосе становилось ясно, что Глафира исчерпала запас красноречия и сдается.
Так и получилось, что в последних числах марта, оформив двухнедельный отпуск и собрав чемодан, в котором, помимо нехитрой одежды, лежал ноутбук с практически готовой диссертацией, Александра Архипова отправилась в Глухую Квохту.
* * *
Остановиться на охотничьей базе не получилось.
– Да вы что, девушка? – возмутилась администратор, которую, судя по бейджику, звали Мариной, когда Саша осведомилась о наличии свободных номеров. – Начало сезона. Открылась охота на водоплавающую дичь. У нас уже половина номерного фонда занята, а к выходным и вовсе наплыв посетителей обещается. Все забронировано на месяц вперед.
– И что же мне делать? – с некоторым унынием уточнила Александра. – Вы мне, пожалуйста, посоветуйте, Марина, у кого здесь в деревне можно комнату снять?
– Да вот уж не посоветую, – замотала головой молодая женщина. На голове качнулись белокурые локоны. – Я сама не местная. Мы сюда вахтовым методом приезжаем. Вот я месяц отработаю – и домой.
В голосе ее прозвучал какой-то странный вызов, словно она обращалась не к Саше, а к кому-то другому.
– А что же, местные работать не хотят?
– А какие тут местные? Откуда им взяться? Тут на всю деревню с десяток жилых домов не наберется. Остальные заколоченные стоят. Летом-то, конечно, побольше будет: дачники приезжают. Да тоже в основном пенсионеры. А зимой и того хуже. Вот Александр Федорович нас и завозит сюда вахтами. Кому-то ведь работать надо.
– Александр Федорович?
– Аржанов. Владелец этой базы, – охотно пояснила Марина. Видимо, от скуки ее тянуло поговорить, пусть даже и с первой встречной. – У него три охотхозяйства. Основное-то в Архангельской области, «Медвежий угол» называется. Туда на вахту попасть – мечта. Зарплата там в три раза выше.
– Почему? – машинально спросила Саша.
Она всегда привыкла уточнять информацию, чтобы складывающаяся картинка получалась более целостной. Научный подход, а как иначе.
– Да потому что от цивилизации далече. Туда гости-то на вертолетах прибывают. Как правило, с самой Москвы. Большие гости, знаменитости всякие, политики, чиновники. Из тех, кого каждый день в телевизоре видишь. От того там и спрашивают строже, но и платят больше. А у нас тут все попроще. И номеров всего восемь. Четыре в этом здании, еще столько же в гостевых домиках. И зверья для охоты поменьше. В основном дичь. Ни тебе кабанов, ни оленей с косулями.
– А в «Медвежьем углу», получается, все это есть?
– Есть. И медведи есть, и лоси. Там уж охота так охота. А к нам приезжают любители птиц пострелять. У них капризов меньше, так что и нам доплата за вредность не идет. В прошлом году мне дважды посчастливилось в «Медвежьем углу» побывать, а в этом я сюда снова попросилась.
Странно. Зачем, если в «Медвежьем углу» платят больше?
– Ну ничего. Может, еще сложится, – посочувствовала ей Саша. – Так все-таки где же мне остановиться?
– Вы идите в пятый дом по Рябиновой улице, – вмешался в разговор молодой человек, возившийся в углу с лампочками под потолком. – Это, как из ворот выйдете, так до кромки деревни, там сразу по тропке направо. Прямо-то Березовая улица будет, а направо пройдете – и как раз на Рябиновой окажетесь. По ней чуть вперед надо, и там дом с цифрой пять увидите. Она крупно написана, не промахнетесь. Там тетя Нюра живет. У нее спросите. Она иногда постояльцев пускает. Дом у нее большой, а деньги нужны. Какая у старухи пенсия.
Тетя Нюра, значит. С Рябиновой улицы. А что, красиво.
– Спасибо, – поблагодарила Саша.
Она чувствовала, что устала с дороги. Сначала ехала ночь на поезде, потом час ждала рейсового автобуса, потом еще три часа терпеливо тряслась в нем, смирившись с бесконечными остановками, на которых входили и выходили люди, потом еще с километр шла пешком от остановки с указателем «Глухая Квохта» до поворота на базу с одноименным названием.
Собственно деревня была чуть в стороне, но совсем недалеко. Метров триста от развилки, ведущей к охотхозяйству. С непривычки от ходьбы устали ноги, да и чемодан, хоть и не тяжелый, все равно оттягивал руки. Колесики буксовали на мокрой, разъезжающейся под ногами глине.
Земля здесь еще не просохла с зимы, более того, в пролесках – Саша глазам своим не поверила – встречались съежившиеся островки лежалого ноздреватого снега. В Москве про него уже давно забыли, а здесь он еще лежал, не сдавался на милость победившей весне, играл в партизана.
К усталости примешивалось чувство голода. Завтрак входил в стоимость билета, но какая там еда в поезде, да и было это давно, пять часов назад. Часы показывали десять. Самое время для второго завтрака. Саша представила кружку горячего кофе с молоком, омлет на тарелке, большущий бутерброд с сыром и сглотнула. Вряд ли у тети Нюры она найдет что-либо подобное. Деревенские встают рано, да и не ждет ее никто.
– А поесть тут у вас хотя бы можно? – спросила она у Марины. – Есть тут что-нибудь вроде кафе?
– Девушка, какое кафе? – всплеснула руками женщина. Локоны снова угрожающе качнулись. – Завтрак гостям мы подаем, конечно. Но он у нас порционный. Все заранее рассчитано. Вы ведь не в «Рэдиссоне», ей-богу.
– Мариша, принеси второй прибор, – услышала Саша требовательный мужской голос и повернулась в сторону его источника.
Из двери, за которой угадывался длинный коридор, вышел высокий представительный мужчина с холеным лицом. Такие лица еще принято называть «породистыми». На мужчине был спортивный костюм, видно, что очень дорогой, известной российской марки «Вишневый сад». Очки на носу отливали благородным металлом оправы. Мамочки мои, золотой. На вид мужчине было лет пятьдесят. Саша невольно скосила глаза на его правую руку: есть кольцо или нет, и тут же выругала себя за подобную глупость.
– Я поделюсь с нашей гостьей своим завтраком. Все равно вы подаете столько, сколько не съесть, – распорядился он. – И быстрее, Мариночка, расторопнее. Наша гостья явно голодна, и я тоже. Как вас зовут, прекрасная незнакомка?
Последнее предназначалось уже Саше.
– Александра Архипова, – представилась она. – Я приехала из Москвы для работы над своей диссертацией.
– Кандидатская? Докторская? – осведомился мужчина. – Хотя, что это я. Вы так молоды, что докторскую бы защитить точно не успели.
– Спорный вопрос, – не согласилась Саша.
Одна из коллег профессора Розенкранца, Светлана Погребижская, работающая вместе с Александрой, была моложе ее на два года, но в прошлом сентябре защитила докторскую. Но не рассказывать же незнакомцу про Светлану.
– Кандидатская, – просто ответила она, следуя приглашающему жесту и проходя вслед за мужчиной в просторную комнату-столовую.
Здесь стоял большой стол, кажется дубовый, персон на двадцать, не меньше, и тяжелые стулья, тоже из дуба, с высокими резными спинками. С потолка на металлических крюках свисали хрустальные люстры, выполненные под старину, а может быть, и действительно старинные. В оконных промежутках висели чучела птиц, и Саша невольно завертела головой, разглядывая их. В детстве отдел природы в местном краеведческом музее был ее любимым местом, в котором она могла зависать часами.
– Проходите, Александра, садитесь, – мужской голос вывел ее из созерцания.
Мужчина в золотых очках уже предупредительно отодвинул от стола один из стульев и ждал, пока она усядется на приготовленное для нее место. Саша послушно подошла и села, расправила на коленях белоснежную салфетку.
– Позвольте представиться, Олег Якунин. – Мужчина склонил голову и чуть ли пятками не прищелкнул.
Военный, что ли. Александра знала, что такая привычка – при знакомстве щелкать каблуком о каблук – была частью военного приветствия, этакий намек на стойку «смирно» перед собеседником более высокого ранга. Увидел начальство – сразу пятки вместе, носки врозь, и если сделал это быстро, то обязательно должны звонко щелкнуть каблуки, доложив о должном усердии. Начальством Саша не была, и никакого усердия ей не требовалось.
– Очень приятно, – пробормотала она, чувствуя некоторую неловкость.
Администратор Марина явно дала понять, что ей здесь не рады. И все-таки Саша сидела в этой большой комнате с высокими потолками, огромными окнами и большим столом в ожидании завтрака. Открылась дверь, ведущая в кухню, оттуда выплыли две молодые девушки, одетые в белые накрахмаленные фартуки и наколки, вынесли подносы, с которых начали споро метать на стол тарелки с едой.
Перед Сашей появилась глубокая тарелка с овсяной кашей, плоская с вожделенным омлетом, большое блюдо с тарталетками, начиненными икрой, форшмаком и печеночным паштетом, плетенка с хлебом собственного производства, блюдце с блинчиками, тонкими, ажурными, почти кружевными, плошки с медом и разными сортами варенья, а также огромная кружка с кофе.
Над кофе поднимался пар. На металлическом подносе рядом стоял небольшой кувшинчик со сливками. Саша блаженно зажмурилась.
– Ешьте, Александра, – сказал Якунин, – здесь вкусно готовят.
– А вы, значит, приехали на охоту? – для поддержания разговора спросила Саша, отправляя в рот первую тарталетку. С икрой. Действительно вкусно. – Часто здесь бываете?
– В первый раз, – признался собеседник. – Если честно, охоту я не люблю. Считаю любое убийство дикостью. Но мой бизнес-партнер уверяет, что это лучший вид отдыха для настоящего мужчины, так что я решил попробовать. Бывать здесь часто довольно затруднительно. Это новая база, ее построили только пару лет назад. Но она уже снискала славу отличного места охоты на водоплавающую дичь.
Ну да. Берестяная грамота, представляющая собой протокол допроса татя, укравшего двадцать уток, была найдена четыре года назад на раскопках, которые проводились перед строительством базы по настоянию ее владельца. Господина Аржанова. Кажется, эту фамилию назвала Марина.
Пока закончили раскопки, пока завершили строительство. Получается, что база действительно практически новая. Стоит ли удивляться, что все номера забронированы.
– Удивляться не стоит, – подтвердил сотрапезник ее догадки, когда она высказала их вслух. – Дело в том, что сезон охоты на пернатую дичь крайне короток. Месяц, от силы полтора. Вы знаете, как это происходит?
Саша покачала головой, съела вторую тарталетку с дивным нежнейшим паштетом и приступила к каше.
– Весенняя охота разрешена только на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, а также на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, или манком, и на гусей и казарок, тоже из укрытия и с манком, – начал перечислять Якунин.
Саша слушала, приоткрыв рот, потому что вроде бы знакомые слова складывались в какую-то необычайную вязь, смысл которой оставался для нее неясен. Она любила такие лингвистические тупики, рассказ звучал как музыка, рисунок которой еще предстояло угадать.
– Сроки весенней охоты устанавливаются в каждом регионе по-разному. Это зависит от местных властей. Ясно только, что десять дней, которые разрешены для того, чтобы стрелять боровую дичь, то есть глухарей, тетеревов и вальдшнепов, а также другие десять дней, в которые разрешено охотиться на гусей, уток казарок и прочих водоплавающих, обязательно выпадают на промежуток с первого марта по шестнадцатое июня, – продолжал тем временем ее собеседник.
Оставалось только гадать, зачем лингвисту Архиповой может пригодиться вся эта информация. Олег Якунин вдруг поднял вверх указательный палец.
– Но! Конкретный срок весенней охоты на селезней с использованием подсадных уток, так называемых манков, возможен в охотничьих угодьях на протяжении тридцати календарных дней. И вот сейчас именно такой период и наступил. Охота на боровую дичь уже закончена, все ее любители разъехались по домам, и на базе ждут только тех, кто любит охоту с помощью манных уток.
– А где берут манных уток? – полюбопытствовала Саша.
Ее отличительным качеством было полное погружение в тему любого разговора, да и природное любопытство брало верх. Никогда же не знаешь, какая информация и где сможет тебе пригодиться. Опять же, а что, если в берестяной грамоте речь шла именно о подсадных утках, которых и украл неизвестный тать? Если новая информация еще и пригодится для диссертации, то ее и вовсе полезно получить при случайном знакомстве.
– Неужели не знаете? – удивился ее собеседник. – Это специально выведенная порода домашних уток, внешне похожая на диких уток-крякв. На этой базе их разводят и специально готовят для охоты на водоплавающую дичь. Правда, деталей я не знаю, вы уж меня простите.
Саша сказала, что прощает.
– Охота с подсадной уткой – это один из видов традиционной русской охоты, при которой манных уток высаживают на воду, после чего охотник прячется в укрытие. Манная утка своим голосом привлекает диких селезней, они прилетают и садятся на воду, а охотник по ним стреляет.
Саша поежилась.
– Подлость какая-то, честное слово, – сказала она звонко. – Привлечь самца, который прилетит на твой призыв, а за это его убьют.
– Так ведь и у людей также бывает. – Якунин вдруг засмеялся. Наверное, над ее неуместной щепетильностью. К чему та на охоте, которая в целом занятие аморальное. – Может быть, вам станет легче, если вы узнаете, что у весенней охоты, впрочем, как и у любой другой, существует масса ограничений, которые направлены на сохранение популяции дичи. К примеру, нельзя использовать лодку. Если только в качестве укрытия, но двигаться она не должна. Нельзя стрелять по самкам. Нельзя охотиться на утренней тяге. Нельзя использовать любые световые устройства. Даже фонарик можно включать только тогда, когда ружье полностью зачехлено. А уж про тепловизоры и приборы ночного видения даже говорить не стоит. На одну подсадную утку не может приходиться более двух охотников. Ружье можно расчехлять, только уже находясь в укрытии. Нельзя использовать электроманки, только живых подсадных квохт. Да и собак можно использовать только подружейных.
– Подружейные собаки? – Нет, Александра Архипова сегодня совершенно точно существенно расширит свой кругозор.
– Ну да. Это те, кто натаскан на то, чтобы отыскать раненую или убитую добычу. Легавые, ретриверы и спаниели. Все остальные сидят дома.
– Лучше бы и охотники тоже сидели дома, – в сердцах бросила Саша.
Он снова засмеялся. Видимо, над ее горячностью.
– А в какой области наук у вас диссертация, Саша? – ее собеседник внезапно переменил тему.
– Я лингвист, – ответила она. – Занимаюсь берестяными рукописями двенадцатого века. Точнее, запечатленными на них судебными приказами.
– Это довольно интересно, – согласился Якунин.
У Саши внезапно возникло ощущение, что ее слова его успокоили, что ли. Хотя он вроде и до этого не волновался.
– Понимаете, именно здесь при строительстве была найдена берестяная грамота, представляющая собой судебный приказ, датируемый примерно серединой двенадцатого века. Моя диссертация почти готова, остались последние штрихи, и я приехала сюда, чтобы пропитаться духом этого места. Если вы понимаете, о чем я.
Звучало странно. Это Саша понимала. Но не рассказывать же ему про побег от Данимира Козлевича. Якунин, впрочем, выглядел совершенно безмятежным.
– Я без тени сарказма говорю, – заверил он. – Вы знаете, лингвистика – типично женская профессия, как мне кажется. По крайней мере, такой красивой женщине, как вы, она придает дополнительное изящество.
– А если бы я готовилась к защите кандидатской по кибернетике и вычислительной математике? – Саша невольно вспомнила Тайку. При всем ее четком уме и совсем неженской профессии назвать ту неизящной никому бы в голову не пришло.
– Тогда бы я сказал, что ваша профессия придает вам загадочность и таинственность, – собеседник засмеялся и откинул в сторону салфетку. Закончил завтрак. – Не ловите меня на слове, Александра. Я слишком давно в бизнесе, так что не попадусь даже в более изощренную ловушку.
– А вы, значит, бизнесмен?
Впрочем, об этом можно было не спрашивать. Весь внешний вид Якунина не говорил, а кричал о деньгах. Больших деньгах. Очень больших деньгах. Таких, каких Александре Архиповой за всю жизнь не заработать.
– Да. Владелец завода по изготовлению полипропиленовых труб и еще одного завода по производству оборудования для ультразвуковой очистки воды.
– Надо же. Производите добавленную стоимость, – с уважением отметила Саша. – Сейчас все в основном только воздух продают, делая на этом немыслимые деньги. А у вас настоящее производство.
– Продавать воздух я, девушка, не умею. Возможно, тут стоит добавить «к сожалению», потому что рулить заводом – та еще головная боль. И проблемы неизбежны. Но мне нравится. Ладно, если вы уже поели, то я позволю себе попрощаться. У меня дела.
– Да, конечно. Вы и так меня очень здорово выручили, – спохватилась Саша. – Если бы не вы, я осталась бы голодной. Спасибо, господин Якунин. Я тоже пойду. Мне предстоит найти Рябиновую улицу.
– Найдете, – пообещал новый знакомый. – Тут все рядом.
«Интересно, зачем он ходил в деревню? – подумалось вдруг Саше. – Что может понадобиться там гостю охотничьей базы, на которой и так наверняка все есть. Или Якунин бывал тут раньше? Хотя нет, он же сказал, что здесь впервые». По большому счету ответы на все эти вопросы Александры Архиповой совершенно не касались.
Натянув теплую куртку, которую она сняла, зайдя в столовую, Саша вернулась в холл к скучающей за стойкой Марине, где оставила свой чемодан. Женщина бросила на нее взгляд, достаточно суровый из-за небывалой наглости гостьи. Ей же сказали, что посторонних здесь не кормят, а она все равно позавтракала. Не мытьем, так катаньем.
Это было глупо – чувствовать себя неловко из-за подобной ерунды, но Саша все равно чувствовала. Стараясь не смотреть Марине в лицо, она буркнула что-то среднее между благодарностью и «пошли вы все к черту», застегнула куртку, натянула на голову капюшон, прихватила свой чемодан и вышла на улицу.
Солнце уже вовсю заливало бескрайнюю синь неба, в которую упирались лохматые елки, над талыми полями раздавалось характерное хриплое карканье грачей. Вторым голосом свое звонкое «жжю-жжю-жжю» из всех кустов выводили снегири, уже готовящиеся к отлету в дальний лес. Где-то вдалеке, видимо в районе озер, которых в этих местах было довольно много, перекликались между собой трясогузки. Довольно высоко в небе и на большом расстоянии друг от друга летели полевые жаворонки. Их призывный щебет очень походил на задорную песню. Воздух был наполнен птичьими трелями, как всегда бывает ранней весной. Саша вдруг обрадовалась, что приехала сюда в такое нестандартное для путешествий и отдыха время года.
Потянув за собой чемодан, она вышла за ворота охотничьей базы, вернулась к развилке, повернула в сторону деревни, до которой действительно оказалось рукой подать, прошагала по тропке, ведущей к домам, и очутилась у крайнего, довольно большого, но заколоченного двухэтажного, имевшего явно нежилой вид. «Березовая, 1» – гласила табличка на нем.
Так, это основная улица Глухой Квохты. Сюда Саше, если верить пареньку с базы, не надо. Ей следует повернуть направо и дойти до параллельной улицы, которая называется Рябиновой. И там найти пятый дом, а в нем тетю Нюру.
На параллельной улице, оказавшейся у´же, чем Березовая, было совсем сыро и грязно. Из-за тени, отбрасываемой домами, земля здесь просыхала медленнее, и катить чемодан стало совсем невмоготу. Саша примерилась – и подхватила его за ручку. Ничего, ей недалеко, донесет.
К пятому дому она подошла, изрядно запыхавшись. Табличек с названием улиц здесь не имелось, но одноэтажный ладный домик с резными наличниками и разноцветными ставенками был именно пятым, о чем гласила большая цифра, нарисованная ярко-красной краской. Домик казался уютным и веселеньким. Саша вдруг приободрилась, что будет в таком жить.
Отдуваясь от натуги, она втащила чемодан на крыльцо, поискала глазами дверной звонок, не нашла, а потому постучала в деревянную филенку двери, а потом потянула за оловянную ручку, довольно старую.
– Есть кто-нибудь? Можно к вам?
За дверью оказались сени не сени, что-то походящее на летнюю террасу, где стояли ведра с водой, большой бидон и несколько мешков, по виду с мукой и крупами. На круглом столе, покрытом клетчатой клеенкой, лежали две довольно большие свежие рыбины. Как успела заметить Саша, непотрошеные.
Вторая дверь, ведущая в сени из дома, открылась, и на пороге появился мужик, одетый в ватные штаны на подтяжках и толстую тельняшку с начесом. Мужик был лохмат, небрит и достаточно суров.
– Вы кто? – довольно нелюбезно спросил он у Саши. – Вам чего надо?
– Я тетю Нюру ищу. – Александра хотела попятиться, потому что от мужика исходила какая-то смутная физическая угроза. – Мне сказали, что тут можно комнату снять.
Ни за что на свете она не согласится жить с этим товарищем под одной крышей. Даже если за это ей еще и приплатят. Александра все-таки сделала шаг назад и взялась покрепче за ручку входной двери, чтобы успеть убежать, если возникнет такая необходимость. Ее немного успокаивало то, что мужик обратился к ней на «вы», то есть минимальными социальными навыками обладал.
– Комнату снять можно, но дело в том, что я ее уже снял, – сообщил он и, обернувшись, позвал куда-то вглубь дома: – Клавдия Петровна, выйдите на минуточку.