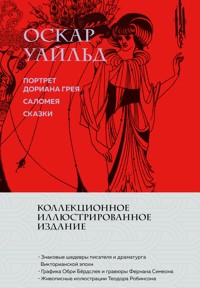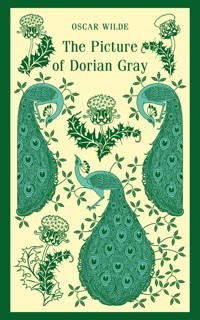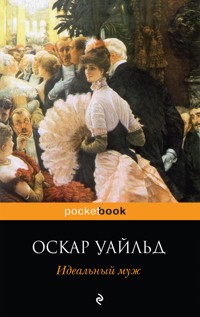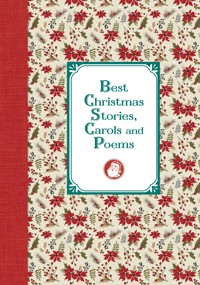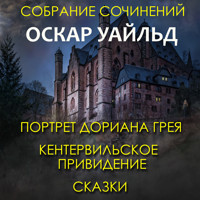Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
На страницах своих произведений Оскар Уайльд обличает лицемерие и несправедливость общественной морали, холодную расчетливость и корыстность большинства людей. Его настоящие герои искренни, способны на высокие чувства и поступки. Именно это подкупает современного читателя в произведениях короля жизни и самого великого остроумца XIX века. Содержание: 1. Портрет Дориана Грея (Перевод: Виктор Лепеха) 2. Сказки Иллюстрации Елены Одарич.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Оскар Уайльд
Сочинения
На страницах своих произведений Оскар Уайльд обличает лицемерие и несправедливость общественной морали, холодную расчетливость и корыстность большинства людей. Его настоящие герои искренни, способны на высокие чувства и поступки. Именно это подкупает современного читателя в произведениях короля жизни и самого великого остроумца XIX века.
Содержание:
1. Портрет Дориана Грея (Перевод: Виктор Лепеха)
2. Сказки
Портрет Дориана Грея
Предисловие
Художник — человек, создающий прекрасное. Задача искусства состоит в том, чтобы показать себя и спрятать художника. Критик — человек, который может по-новому отразить свои впечатления от прекрасного. Высокой и, в то же время, самой бездарной формой критики является автобиография. Люди, которые находят отвратительные значения в прекрасном испорчены. У них самих не осталось ничего прекрасного. Это ужасно.
Те, кто видит в прекрасном только прекрасное — избранные. У них есть надежда. Они одни из немногих, для кого прекрасные вещи означают красоту.
Нет моральных или аморальных книг. Есть хорошо написанные книги, а есть плохо написанные книги. Вот и все.
В XIX столетии людям не нравится реализм, он делает их злыми как Калибан, когда тот видит свое лицо в зеркале.
В XIX столетии людям не нравится романтизм, он делает их злыми как Калибан, когда тот не видит своего лица в зеркале. Мораль человека — это часть работы художника, однако мораль искусства заключается в совершенном использовании несовершенных средств. Художник не хочет ничего доказывать. Даже вещи, которые очень легко доказать. Художник не имеет симпатий в сфере этики. Они приводят к недопустимой манерности стиля. Художник не воспринимает вещи болезненно. Он способен выразить все что угодно. Для художника мысль и язык — рабочий материал. Музыка является прототипом всех искусств с точки зрения формы. Актерская игра — с точки зрения чувств. Любое искусство одновременно лежит на поверхности и таит в себе символ. Те, кто пытаются углубиться в него, рискуют. Те, кто находит символ, также рискуют. На самом деле, искусство отражает зрителя, а не жизнь. Когда произведение искусства вызывает разные мнения, это значит, что это произведение новое, сложное и нужное. Пока критики спорят, художник находится в согласии с самим собой. Мы терпим человека, который сделал что-то полезное, пока она не начинает этим увлекаться. Мы терпим людей, которые делают что-то бесполезное, потому что они очень этим увлекаются.
Искусство, по сути, бесполезно.
Оскар Уайльд
Глава 1
Мастерскую художника наполнял чудесный запах роз, а когда легкий летний ветерок проникал через открытые двери, он приносил с собой из сада насыщенный аромат сирени или легкие нотки тернового цвета. Лорд Генри Уоттон по привычке лежал на персидском диване и одну за другой курил сигареты. Отсюда он мог поймать взглядом блики солнца на золотисто-медовом цвете ивняка, хрупкие ветви которого чуть держали на себе такую красоту, на шелковых портьерах, что закрывали огромное окно, время от времени появлялись странные тени птиц, которые пролетали мимо. Возникало впечатление, что портьеры японские. Это заставляло его задуматься о нефритово-бледных японских художниках, которые пытаются средствами неизменно статичного искусства воспроизвести движение и скорость. Мрачное гудение пчел, которые пробивали себе путь сквозь некошеную траву, или просто настойчиво кружили вокруг цветов в саду, делало тишину невыносимой. Глухой шум Лондона звучал будто орган. На мольберте посреди комнаты стоял портрет невероятно красивого юноши в полный рост, а всего в нескольких шагах перед ним сидел, собственно, автор, Бэзил Голуорд, который несколько лет назад неожиданно исчез, заставив общественность заговорить о себе и придумать самые разнообразные версии событий.
Когда художник смотрел на то, как удачно он сумел отразить красоту и грацию на своем творении, довольная улыбка не оставляла его лица. И вдруг он вскочил, закрыл глаза и прижал пальцами веки, будто в попытке замкнуть в голове сон, от которого он так боялся проснуться.
— Это твоя лучшая картина, Бэзил, лучшее из того, что ты когда-либо делал, — лениво пробормотал лорд Генри. — Ты просто обязан выставить ее в галерее Гросвенор в следующем году. Академия искусств великовата и слишком банальна. Когда бы я туда не пришел, там или так много людей, что я не в состоянии посмотреть на картины, что просто ужасно, или так много картин, что мне некогда смотреть на людей, а это еще хуже. Так что Гросвенор это единственное подходящее место.
— Не думаю, что ее стоит выставлять где-либо, — ответил он и причудливо откинул назад голову, в Оксфорде[1] за это движение друзья смеялись над ним. — Я не буду ее нигде выставлять.
Лорд Генри поднял брови и удивленно посмотрел на него сквозь причудливые облака дыма, которые выделяла его сигарета с опиумом.
— Нигде не выставлять? Друг, почему? У тебя есть на это какие-то причины? Какие же вы, художники, все же, чудаки. Вы идете на все, чтобы заработать репутацию. А только заработав ее, делаете все, чтобы от нее избавиться. Ты делаешь глупость, ведь хуже, чем когда о тебе говорят, бывает только когда о тебе не говорят. Такой портрет возвысил бы тебя над всеми молодыми художниками и заставил старых лопнуть от зависти, конечно, если у них еще остались эмоции.
— Я знаю, тебе это покажется смешным, — ответил он, — но я действительно не могу выставлять его. Я вложил в него слишком большую частичку себя.
Лорд Генри протянулся на диване и захохотал.
— Именно этого я и ожидал, не имеет значения, все равно так оно и есть.
— Слишком большую частичку себя! Честное слово, Бэзил, я и не знал, что ты такой напыщенный, я действительно не могу найти ничего общего между твоим грубым, сильным лицом, твоими черными как смоль кудрявыми волосами и этим юным Адонисом, который, кажется, изваян из слоновой кости и лепестков роз. Действительно, дорогой Бэзил, он же Нарцисс, а ты — нет, ну у тебя, конечно, умное выражение лица и тому подобное. Но красота, настоящая красота заканчивается там, где начинается умное выражение лица. Сам по себе ум — это форма преувеличения, поэтому он разрушает гармонию любого лица. Тотчас, когда человек о чем-то задумывается, его лицо превращается в сплошной нос, сплошной лоб или еще какой-то ужас. Посмотри на людей, достигших успеха в умственной работе. Ну они же абсолютно гадкие! Единственное исключение это, конечно, церковь. Но в церкви им не надо думать. Епископ в восемьдесят лет говорит то же самое, что ему сказали говорить, когда ему было восемнадцать, и поэтому вполне естественно, что он прекрасно выглядит. Твой загадочный юный друг, чье имя ты упорно не желаешь мне говорить, и чей портрет меня действительно захватывает, никогда не думает. Я полностью в этом уверен. Он некое волшебное безмозглое создание, которое следует иметь при себе зимой, когда нет цветов, чтобы порадовать глаз, и летом, когда нужно что-то, чтобы расслабить ум. Не стоит себе льстить, ты на него и близко не похож.
— Гарри, ты меня не понимаешь, — ответил художник. — Конечно, я на него не похож. Я это прекрасно знаю. На самом деле, мне было бы обидно быть таким как он. Почему ты пожимаешь плечами? Я говорю это серьезно. Людей, которые так отличаются физически или умственно, преследуют несчастья, именно те несчастья, которые на протяжении всей истории ставят королей на колени. Лучше не отличаться от других. Дураки и уроды живут лучше всех. Они могут спокойно сидеть сложа руки. Они не знают вкуса побед, но и поражений никогда не испытают. Они живут так, как следовало бы жить нам всем: их ничто не беспокоит, они нейтральны, и главное, в их жизни нет тревог. Они не разрушают чужие жизни и не получают зла в ответ. Твой статус и богатство, Гарри, мой ум, каким бы он ни был, но все же, мои картины, чего бы они не стоили, красота Дориана Грея — за все, что подарил нам Господь нам придется страдать, очень сильно страдать.
— Дориан Грей? Так вот как его зовут? — Спросил лорд Генри подойдя к Бэзилу Голуорду.
— Да, это его имя. Я не хотел тебе говорить.
— А почему было не сказать?
— Я не знаю, как это объяснить. Если человек мне нравится, я никогда никому не говорю его имя. Это как отдать его частичку. Со временем я полюбил таинственность. Кажется, это единственное, что может сделать нашу жизнь загадочной и волшебной. Наиболее обыденная вещь может стать прекрасной, стоит только скрыть ее. Покидая город, я никогда не рассказываю своим близким, куда направляюсь. Иначе, я не получал бы от этого никакого удовольствия. Могу сказать, что это плохая привычка, но, странным образом, она придает жизни романтики. Ты, наверное, считаешь меня полным дураком из-за этого, не так ли?
— Нисколько, — ответил лорд Генри, — нисколько, дорогой Бэзил. Ты, кажется, забыл, что я женат, а одна из прелестей семейной жизни заключается в том, что она делает обман необходимым для обоих. Я никогда не знаю, где моя жена, а она и понятия не имеет, чем я занимаюсь. Когда мы встречаемся, а это приходится делать время от времени, чтобы вместе пообедать или посетить герцога, мы рассказываем друг другу полную чушь с невозмутимым видом. У моей жены это получается просто замечательно, честно говоря, даже лучше, чем у меня. Она никогда не путается в своих рассказах, а вот со мной такое случается всегда. Однако, когда она выводит меня на чистую воду, то не устраивает ссор. Иногда мне даже хотелось бы этого, но она просто смеется надо мной.
— Я не люблю, когда ты так говоришь о супружеской жизни, Гарри, — сказал Бэзил Голуорд, направляясь к двери в сад. — Я считаю, что ты замечательный муж, но ты почему-то упорно стесняешься своих добродетелей. Ты необычный человек. От тебя не услышать моральных слов, но и не дождаться аморальных поступков. Весь твой цинизм — это просто игра на публику.
— Быть естественным это наиболее бездарная игра на публику, — со слезами смеха на глазах сказал лорд Генри, когда юноши вышли в сад и присели на бамбуковую скамью, стоявшую в тени высокого лавра. Солнечные лучи пробивались сквозь гладкие листья. В траве дрожали белые маргаритки. Через некоторое время, лорд Генри достал часы.
— Боюсь, мне пора идти, Бэзил, — пробормотал он, — но перед тем как я уйду ты должен ответить на мой вопрос.
— Какой именно? — Спросил художник, не поднимая взгляд от земли.
— Ты прекрасно знаешь, о чем я.
— Да нет, Гарри.
— Что ж, я повторюсь. Я хочу, чтобы ты объяснил, почему ты не собираешься выставлять портрет Дориана Грея. Я хочу узнать настоящую причину.
— Я уже рассказал тебе настоящую причину.
— Нет, ты сказал, что вложил слишком большую частичку себя в портрет. Не будь ребенком.
— Гарри, — сказал Бэзил Голуорд, глядя ему прямо в глаза, — любой портрет, написанный с чувством — это портрет художника, а не натурщика. Натурщик это лишь случайность. Это не его художник отражает на холсте, а скорее самого себя. Причина, по которой я не буду выставлять эту картину, заключается в том, что я боюсь, что раскрыл на ней тайну собственной души.
— И что же это за тайна такая? — С улыбкой спросил лорд Генри.
— Я расскажу, — смущенно ответил Голуорд.
— Я само внимание, Бэзил, — продолжил его компаньон, не сводя с него глаз.
— На самом деле, здесь нечего долго рассказывать, — ответил художник, — боюсь, ты вряд ли поймешь меня. Вполне возможно, даже не поверишь.
Лорд Генри улыбнулся, наклонился, чтобы сорвать маргаритку с розовыми лепестками и начал рассматривать ее.
— Я уверен, что смогу это понять, — ответил он, внимательно глядя на маленький золотистый диск. — А что до веры, то я могу поверить во что угодно при условии, что это достаточно невероятно.
Ветерок пошевелил цвет деревьев, и звездочки цвета сирени наконец встревожили застывший воздух. В траве вблизи стены трещал попрыгунчик, а мимо, будто голубя нить, на своих кисейных крыльях пролетала бабка. Казалось, лорд Генри слышал, как бьется сердце Бэзила Голуорда. Его интересовало, что же будет дальше.
— Дело вот в чем, — сказал художник через несколько минут. Два месяца назад я посетил прием у леди Брэндон. Ты же знаешь, нам, бедным художникам, приходится время от времени появляться на людях, чтобы не создавалось впечатление, будто мы дикари какие-то. Я был в вечернем пальто и белом галстуке, которые, как ты когда-то говорил мне, могут даже биржевому брокеру придать вид приличного человека. После десяти минут разговоров со многими нарядными вдовами и скучными академиками, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и впервые увидел Дориана Грея. Когда мы встретились взглядами, я почувствовал, как бледнею. Меня охватило странное чувство страха. Я понял, что встретил того, чья личность настолько захватывающая, что если я позволю этому случиться, она может поглотить всю мою природу, мою душу и само мое искусство. Ты же знаешь, Гарри, насколько у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, по крайней мере, пока не встретил Дориана Грея. Затем, не знаю, как это объяснить. Что-то подсказывало мне, что я на пороге страшного кризиса в моей жизни. Я чувствовал, что судьба приготовила для меня удивительные радости и невыносимую боль. Я испугался и отвернулся, чтобы уйти из комнаты. Я это сделал не из соображений здравого смысла, а скорее из трусости. Я считаю, что попытка убежать не делает мне чести.
— Здравый смысл это то же самое, что и трусость, Бэзил. «Здравый смысл» просто лучше звучит. Вот и все.
— Я в это не верю, Гарри. Я не думаю, что ты и сам веришь в это. В конце концов, какие бы мотивы не двигали мной в тот момент, а это могла быть и гордость, ведь я очень тщеславен, я отправился к выходу. А там я, конечно, наткнулся на леди Брэндон. Она сразу закричала: «мистер Голуорд, Вы же не собираетесь покинуть нас в такую рань?» Ты же знаешь, какой у нее удивительно резкий голос?
— Да, она настоящая пава во всем, кроме красоты, заметил лорд Генри, нервно разрывая маргаритку своими длинными пальцами.
— Я не мог от нее избавиться. Она знакомила меня с королевскими особами, людьми со звездами и наградами и пожилыми дамами, которые носят огромные тиары и имеют носы, будто у попугая. Она рассказывала обо мне как о своем лучшем друге. Мы встречались лишь однажды до этого, но она решила сделать из меня знаменитость. Видимо, как раз в то время какая-то моя картина имела большой успех, по крайней мере, о ней писали в дешевых газетенках, что для XIX века является образцом бессмертия. Вдруг, я оказался прямо перед юношей, чья личность вызвала во мне такое странное волнение. Мы стояли очень плотно, практически касались друг друга. Наши взгляды снова встретились. С моей стороны это было опрометчиво, но я все же попросил леди Брэндон представить меня ему. В конце концов, возможно, это было не так уж и опрометчиво. Это было просто неизбежно. Мы поговорили бы и без официального знакомства. Я в этом уверен. Затем Дориан говорил мне то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено познакомиться.
— А как же леди Брэндон описала этого прекрасного юношу? — Спросил его компаньон. — Я знаю, что она любит рассказывать о своих гостях как можно подробнее. Я помню, как однажды она подвела меня к мужчине в возрасте с угрюмым красным лицом, он был весь в лентах и орденах, и начала в трагической манере нашептывать мне на ухо наиболее пикантные детали о нем. Скорее всего, каждый в комнате прекрасно слышал, что она рассказывала. Я просто сбежал. Я люблю открывать для себя людей самостоятельно. А леди Брэндон относится к своим гостям, как аукционист относится к своим лотам. Она или рассказывает о них абсолютно все, или рассказывает все, кроме того, что действительно хотелось бы услышать.
— Ты слишком строго относишься к бедной леди Брэндон, Гарри! — сказал Голуорд в безразличном тоне.
— Дорогой мой, она хотела устроить у себя салон, а смогла сделать только ресторан. И как мне после этого ею восхищаться? Расскажи лучше, что она говорила о Дориане Грее?
— Что-то вроде «Замечательный мальчик — мы с его мамой лучшие подруги. Вылетело из головы, чем он занимается, боюсь, ничем, постойте, он играет на пианино или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Ни один из нас не мог сдержать смех, и мы сразу же стали друзьями.
— Смех — это далеко не худшее начало дружбы и точно лучшее ее окончание, — отметил юный лорд, сорвав еще одну маргаритку.
Голуорд покачал головой:
— Ты не понимаешь, что такое дружба, Гарри, — пробормотал он, — или что такое вражда, а это важно. Ты такой же, как и все, то есть безразличный ко всем.
— Это ужасно несправедливо с твоей стороны! — Возмутился лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и взглянув на мелкие облака, которые плыли в бирюзовой пустоте летнего неба как кусочки шелка. — Да, очень несправедливо. Я четко различаю людей. Я выбираю друзей за их красоту, знакомых — за хороший характер, а врагов — за ум. Нельзя быть слишком осторожным выбирая врагов. Среди моих, например, нет ни одного дурака. Все они достаточно умны, чтобы оценить меня по достоинству. Пожалуй, это слишком высокомерно с моей стороны. Я высокомерен, правда?
— Я должен был бы согласиться, Гарри. Однако, согласно твоей классификации, я должен быть просто знакомым.
— Мой дорогой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем просто знакомый.
— И гораздо меньше, чем друг. Кто-то вроде брата, я прав?
— Братья! Мне нет дела до братьев. Мой старший брат не умрет, а младшие только тем и занимаются.
— Гарри! — Воскликнул Голуорд, нахмурив брови.
— Я шучу, друг. Но мне противны окружающие. Я ничего не могу с этим поделать. Думаю, это потому, что мы не можем терпеть людей с теми же недостатками, что и у нас. Я вполне понимаю гнев англичан из-за того, что они называют грехами высших слоев. Широкая общественность чувствует, что пьянка, тупость и безнравственность должны принадлежать только ей, и когда кто-то из нас попадает в неприятную историю, они расценивают это как посягательство на их права. Было просто удивительно наблюдать их возмущение, когда бедняга Саузварк разводился с женой в суде. И все же, я не думаю, что хотя бы десятая часть рабочих живет безгрешно.
— Я не верю ни единому слову из того, что ты только что сказал. Кроме того, Гарри, я чувствую, что ты и сам во все это не веришь.
Лорд Генри погладил острую бородку и постучал тростью из черного дерева по подошве кожаного ботинка. — Как же это по-английски, Бэзил! Ты уже второй раз обращаешь на это внимание. Если кто-то выскажет идею перед настоящим англичанином, а это всегда опрометчивый поступок, тому и в голову не придет подумать, верна ли эта идея, или, возможно, ошибочна. Единственное, что имеет для него значение, верит ли этот кто-то в то, что он говорит. Смотри, значимость идеи никоим образом не связана с искренностью того, кто ее высказывает. На самом деле, есть большая вероятность того, что чем менее этот человек искренен, тем более интеллектуальной будет эта идея, поскольку на нее не повлияют потребности, желания или предубеждения этого лица. В конце концов, я не хочу обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Я люблю личности больше, чем принципы, а больше всего я люблю личности без принципов. Расскажи мне еще о Дориане Грее. Как часто вы видитесь?
— Каждый день. Если бы я не видел его каждый день, в моей жизни не было бы счастья. Он мне необходим.
— Это невероятно! Я думал, что кроме твоего искусства, тебя ничто не интересует.
— Теперь он стал для меня моим искусством, — мрачно сказал художник. — Иногда я думаю, Гарри, что в истории мира бывает только два важных события. Первое — это появление нового средства искусства, а второе — появление новой личности в искусстве. Однажды Дориан Грей станет для меня тем, чем для Венеции стала живопись масляными красками, или чем лицо Антиноя стало для скульптуры античной Греции. Я не просто рисую его, делаю эскизы. Без сомнения, я этим занимаюсь. Но для меня он гораздо больше, чем просто модель или натурщик. Я не могу сказать, что я не доволен своей работой, или что живопись не может передать его красоту. Нет ничего, что не могла бы передать живопись. И я знаю, что картины, которые я написал с тех пор, как встретил Дориана Грея, хорошие, лучшие за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом, даже не знаю, поймешь ли ты меня, его личность открыла передо мной совершенно новую модель искусства. Я вижу вещи иначе, я осмысливаю их иначе. Я теперь могу воссоздать мир способом, о котором раньше и не догадывался. «Мечта о форме в царстве мысли» — кто это сказал? Неважно, это именно то, чем стал для меня Дориан Грей. Одно только присутствие этого парня, для меня он уже более чем парень, хотя ему всего лишь немного за двадцать, одно только его присутствие, эх! Не знаю, сможешь ли ты понять всю значимость этого. Где-то на подсознательном уровне он указывает мне направление новой школы — школы, которая соединит в себе страсть романтизма и совершенство греческого стиля. Гармония души и тела — вот что это значит! Мы разделили их в порыве безумия и, как следствие, создали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агню предлагал мне довольно таки кругленькую сумму, но я решил не расставаться с ним? Это одна из моих лучших картин. А знаешь, почему? Потому что когда я писал ее, рядом сидел Дориан Грей. Он передавал мне незримую силу, благодаря которой я наконец-то увидел в обычном лесу удивительную красоту, которую всегда искал, но она избегала моего взгляда.
— Бэзил, это невероятно! Я должен встретиться с Дорианом Греем.
Голуорд встал и прошелся садом. Через некоторое время он вернулся. Он сказал:
— Гарри, для меня Дориан Грей это просто источник вдохновения. Ты можешь и не найти в нем ничего примечательного. Для меня же он особенный. Он наиболее присутствует в тех моих картинах, на которых нет его изображения. Как я уже говорил, он указывает мне новое направление. Я вижу его в определенном изгибе линий, в красоте и нежности определенных цветов. Вот и все.
— Почему же ты не хочешь выставлять его портрет? — Спросил лорд Генри.
— Потому что я неумышленно выразил в нем это свое странное идолопоклонство, о котором я, конечно же, никогда не рассказывал Дориану Грею. Он не знает об этом. И никогда не должен узнать. Но люди могут догадаться, а я не хочу открывать душу перед их любопытными глазами. Я не позволю рассматривать собственное сердце под микроскопом. На портрете слишком много меня, Гарри, слишком много меня!
— Даже поэты не так щепетильны как ты. Они знают, что истории разбитых сердец хорошо подходят для публикации. Сейчас их выдают валом.
— Я презираю их за это, — взорвался Голуорд. Художник должен создавать прекрасные вещи, но не вкладывать в них свою жизнь. В наше время люди так относятся к искусству, как будто оно предназначено быть разновидностью автобиографии. Мы потеряли ощущение абстрактной красоты. Когда-нибудь я покажу миру, что это такое, и именно по этой причине мир не должен увидеть мой портрет Дориана Грея.
— Я думаю ты не прав, Бэзил, но я не стану с тобой спорить. Только люди скудного ума прибегают к спорам. Лучше скажи, Дориан Грей увлечен тобой?
Художник задумался на несколько мгновений.
— Я нравлюсь ему, — ответил он после паузы. — Я это знаю. Конечно, я говорю ему огромное количество комплиментов. Каким-то непонятным образом мне нравится говорить ему вещи, которые, я знаю, не следовало бы говорить. Он, как правило, приветлив со мной, мы сидим в мастерской и разговариваем обо всем на свете. Однако, время от времени он ведет себя бездумно и, кажется, ему даже нравится причинять мне боль. В такие моменты я чувствую, что отдал свою душу человеку, который обращается с ней как будто с цветком, который можно прицепить на пиджак, будто с украшением, которым он тешит свое тщеславие летним днем.
— Летние дни медленно проходят, Бэзил, — пробормотал лорд Генри. — Возможно, тебе это надоест раньше, чем ему. Это печальная мысль, но гений, несомненно, живет дольше, чем красота. Об этом свидетельствует тот факт, что мы прилагаем усилия, чтобы получить как можно более обширное образование. В безумной борьбе за существование мы хотим обладать чем-то, что будет оставаться неизменным, поэтому мы забиваем свои головы разным мусором и фактами в отчаянной надежде сохранить место под солнцем. Современный идеал — всесторонне образованный человек. А сознание всесторонне образованного человека это ужасная вещь. Это как антикварная лавка, где полно пыли и чудовищ, а цены на все завышены. Несмотря ни на что, я думаю, тебе первому надоест. Однажды ты посмотришь на своего друга, и он будет казаться тебе несколько неподходящим, чтобы писать с него картину, или тебе не понравится цвет его кожи, или что-то в этом роде. Ты с горечью пересмотришь отношение своего сердца к нему, и поймешь, что он вел себя плохо по отношению к тебе. В следующий раз, когда он появится, ты будешь сухим и безразличным к нему. Жаль, что это произойдет, ведь это тебя изменит. Твой рассказ окутан романтикой, я бы назвал ее романтикой искусства, но хуже всего то, что когда она покидает человека, то от нее не остается ни малейшего следа.
— Гарри, не надо так говорить. Пока я жив, личность Дориана Грея будет владеть мной. Ты не сможешь почувствовать то, что чувствую я. Ты слишком изменчив для этого.
— Эх, дорогой Бэзил, именно поэтому я и смогу почувствовать это. Преданные люди видят банальную сторону любви, а вот предатели способны познать ее трагедию.
Лорд Генри закурил с таким самоуверенным и довольным видом, будто рассказал обо всем мире одним предложением. В ивовых ветках суетились воробьи, а тени от облаков пролетали над травой, будто ласточки. Как же хорошо было в саду! И как же приятно было чувствовать эмоции людей. Эмоции казались ему гораздо приятнее, чем идеи. Наиболее интересными вещами в жизни он считал свою душу и страсти друзей. Он с тихим восторгом представлял скучный обед, который он пропустил, потому что так задержался у Бэзила Голуорда. Если бы он пошел к своей тете, то непременно встретил бы там лорда Гудбоя и они говорили бы только о том, что нужно помогать бедным и о важности аренды жилья. Богачи говорили бы о необходимости экономить и соревновались бы в красноречии на тему достоинства труда. Избежать всего этого было настоящим счастьем! Пока он думал о своей тете, к нему пришла одна мысль. Он повернулся к Голуорду и сказал:
— Дорогой мой, я только что вспомнил.
— Что ты только что вспомнил, Гарри?
— Где я слышал имя Дориана Грея.
— И где же это? — Спросил Голуорд, несколько нахмурившись.
— Не надо сердиться, Бэзил. Это было у моей тети, леди Агаты. Она рассказала мне, что познакомилась с замечательным юношей, который согласился помогать ей в Ист-Энде, и его зовут Дориан Грей. Должен сказать, она ничего не говорила о его красоте. Женщины не знают толк в красоте, по крайней мере, хорошие женщины. Она говорила, что он очень искренний и имеет прекрасный характер. Я сразу представил покрытое веснушками создание в очках, с редкими волосами, которое громко топает своими длинными ногами. Мне следовало бы знать, что это твой друг.
— Я рад, что ты этого не знал, Гарри.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы ты его встретил.
— Ты не хочешь, чтобы я его встретил?
— Нет.
— Мистер Грей в мастерской, — сказал дворецкий, войдя в сад.
— Теперь тебе придется представить меня ему, — сквозь смех сказал лорд Генри.
Художник вернулся к своему слуге, который стоял и щурился от солнца:
— Попроси мистера Грея подождать. Я подойду через несколько минут.
Дворецкий поклонился и пошел по тропинке к дому. Затем он посмотрел на лорда Генри.
— Дориан Грей — мой близкий друг, — сказал он. — У него простой и замечательный характер. Твоя тетя была права по отношению к нему. Не надо его портить. Не пытайся повлиять на него. Твое влияние не пойдет ему на пользу. Мир велик, и в нем есть много прекрасных людей. Не надо отнимать у меня единственного человека, который придает очарование моим произведениям — моя жизнь как художника зависит от него. Помни, Гарри, я тебе доверяю. — Он говорил очень медленно, будто слова вырывались наружу вопреки его воле.
— Какую же чушь ты несешь! — С улыбкой сказал лорд Генри, взял Голуорда под руку и почти силой повел к дому.
Глава 2
Войдя в мастерскую, они увидели Дориана Грея. Он сидел за пианино спиной к ним и листал страницы «Лесных пейзажей» Шумана.
— Ты должен одолжить мне их, Бэзил, — не удержался он. — Я хочу их изучить. Они просто невероятно очаровательны.
— Это полностью зависит от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.
— Мне уже надоело позировать, я не хочу иметь собственный портрет, на написание которого уйдет целая жизнь, — ответил юноша, своенравно повернувшись на стуле. Заметив лорда Генри, он на мгновение смутился и резко встал.
— Простите, Бэзил, я не знал, что ты не один.
— Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый оксфордский приятель. Я как раз рассказывал ему, какой замечательный с тебя натурщик, а ты все испортил.
— Однако, это отнюдь не уменьшило моей радости от встречи с Вами, господин Грей, — заверил лорд Генри, сделав шаг вперед и протянув руку. — Моя тетушка часто рассказывает мне о Вас. Вы один из ее любимцев и, боюсь, жертв в то же время.
— Сейчас я в немилости у леди Агаты, — ответил Дориан, приобретя при этом забавно озабоченный вид. — Я пообещал посетить клуб в Вайтчепел[2] вместе с ней в прошлый вторник, а потом мне это просто вылетело из головы. Мы должны были сыграть дуэт, даже три дуэта. Даже не знаю, что она теперь мне скажет. Я очень боюсь попасться ей на глаза.
— О, я это улажу. Она слишком увлекается Вами, чтобы очень сердиться. Кроме того, я не думаю, что Ваше отсутствие действительно сказалось. Публика, скорее всего, решила, что это и был дуэт. Когда тетушка Агата садится за пианино, она способна наделать шума за двоих.
— Это ужасно по отношению к ней, и не слишком приятно по отношению ко мне, — сквозь смех ответил Дориан.
Лорд Генри посмотрел на него. Действительно, его правильной формы насыщенно красные губы, синие, будто небо, глаза и золотое вьющиеся волосы делали из него просто невероятного красавца. Было в его лице что-то такое, что вызывало доверие с первого взгляда. На нем отразилась вся безупречность и непорочная страсть молодости. Казалось, он не позволял мирским заботам испортить себя. Неудивительно, что Бэзил Голуорд обожал его.
— Вы слишком хороши, чтобы заниматься благотворительностью, господин Грей, слишком хороши. — С этими словами лорд Генри устроился на диване и открыл свой портсигар.
В этот момент художник смешивал краски и готовил все необходимое. У него был взволнованный вид, а когда он услышал последнюю фразу лорда Генри, взглянул на него, и после кратких раздумий сказал:
— Гарри, я хотел бы закончить работу над этой картиной сегодня. Ты ведь не обидишься, если я попрошу тебя уйти?
Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.
— Мне уйти, господин Грей? — спросил он.
— Не надо, лорд Генри, пожалуйста. Я вижу, Бэзил в плохом настроении, а я не могу находиться рядом с ним в такие моменты. Кроме того, я хочу, чтобы Вы объяснили, почему же мне не стоит заниматься благотворительностью.
— Даже не знаю, стоит ли мне рассказывать Вам об этом, господин Грей. Это настолько скучная тема, которую приходится обсуждать серьезно. Однако я точно не уйду после того, как Вы попросили меня остаться. Ты на самом деле не против, Бэзил, не так ли? Ты часто говорил, что тебе нравится, когда твоему натурщик есть с кем поболтать.
Голуорд закусил губу.
— Если Дориан так хочет, то, конечно, ты должен остаться. Прихоти Дориана — закон для всех, кроме него самого.
Лорд Генри взял шляпу и перчатки.
— Как бы ты ни настаивал, Бэзил, боюсь, я должен идти. У меня встреча в Орлеанском клубе. Всего хорошего, господин Грей. Приглашаю Вас посетить меня на Карзон Стрит как-то вечером. Я почти всегда дома в пять часов. Напишите мне, когда решите прийти. Мне будет жаль не встретиться с Вами.
— Бэзил, — закричал Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, то и я уйду. От тебя не услышать ни слова, пока ты работаешь, а это очень скучно — стоять на платформе и еще и хорошо при этом выглядеть. Попроси его остаться. Я настаиваю.
— Останься, Гарри, Дориан и я будем перед тобой в долгу, — сказал Голуорд, глядя на свою картину. — Я действительно никогда не разговариваю, да и не слушаю, пока пишу картины, и это, видимо несносно утомляет моих несчастных натурщиков. Умоляю, останься.
— А как же моя встреча в Орлеанском клубе?
Художник засмеялся.
— Не думаю, что у тебя из-за этого возникнут сложности. Садись, Гарри. А теперь, Дориан, становись на платформу. Постарайся не двигаться и не обращать внимания на то, что говорит лорд Генри. Он очень плохо влияет на всех своих друзей кроме, разве что, меня.
Дориан Грей ступил на платформу с видом юного греческого мученика и разочарованно посмотрел на лорда Генри, который ему достаточно понравился. Он был так непохож на Бэзила. Они создавали приятный контраст. И у него был такой волшебный голос. Через несколько минут он обратился к нему:
— Вы действительно очень плохо влияете на людей, лорд Генри? Бэзил прав?
— Не существует такой вещи, как плохое влияние. Любое влияние — это аморально. Аморально с научной точки зрения.
— Почему же?
— Потому что влиять на человека означает навязывать ему свою душу. Этот человек больше не имеет собственных мыслей и страстей. Его добродетели больше не настоящие. Грехи, если все же существует такая вещь как грехи, одолженные. Он становится эхом чужой музыки, актером, который играет роль, написанную не для него. Смысл жизни заключается в самосовершенствовании. Каждый из нас здесь для того, чтобы полностью понять собственную природу. В наше время, люди боятся самих себя. Они забыли о самой главной из обязанностей — обязанности перед самим собой. Конечно, они милосердны. Они кормят голодных и помогают нуждающимся. В то же время, их собственные души голодны и беспомощны. Наша раса потеряла смелость. А возможно, ее у нас никогда и не было. Страх перед обществом, на котором базируется мораль и страх перед Богом, который является основой для религии, — вот две вещи, которые управляют нами. Но…
— Поверни голову немного вправо, Дориан, будь хорошим мальчиком, — сказал художник. Он был погружен в свою работу и обратил внимание лишь на то, что он раньше никогда не видел такого выражения на лице юноши.
— Однако, — продолжил лорд Генри, сопровождая свой низкий голос, звучавший будто музыка, характерным взмахом рук, который отличал его от других еще со времен учебы в Итоне, — я считаю, что если бы хоть один человек смог прожить свою жизнь целиком и полностью смог почувствовать каждое чувство, выразить каждую мысль и осуществить каждую мечту, то мир получил бы такой огромный заряд радости, что мы смогли бы забыть о чуме средневековья и вернуться к эллинистическому идеалу, или, возможно, даже к чему-то лучшему и более высокому, чем эллинистический идеал. И самые смелые из нас боятся самих себя. То, что осталось у нас от дикарей, отчаянно пытается выжить, несмотря на отказы самим себе, которые разрушают наши жизни. Каждый порыв, который мы сдерживаем, бродит в нашей голове, отравляя наш разум. Тело грешит, и на этом грех заканчивается, ведь действие — это способ очистки. Ничего не остается на потом, кроме упоминания об удовлетворении или роскоши почувствовать угрызения совести. Единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. Если же ему сопротивляться, то душу будет разрушать желание того, что она сама себе запретила, жажда к тому, что она с помощью собственных уродливых правил объявила уродливым и неправильным. Говорят, что самые выдающиеся события случаются в голове. Так же и грехи существуют в голове, и только в голове. Да и Вы, господин Грей в вашей цветущей, будто роза, юности уже чувствовали страсти, которые Вас пугали, к Вам приходили мысли, что вызывали у Вас ужас, вы видели сны, одно лишь упоминание о которых заставляет Вас краснеть.
— Подождите! — Воскликнул Дориан Грей, — подождите! Вы запутали меня. Я не знаю что сказать. Я должен что-то Вам ответить, однако не могу подобрать слова. Не говорите ничего. Дайте мне подумать. Точнее, дайте мне попробовать не думать. Он стоял так, с открытыми устами и огнем в глазах, около десяти минут. Как сквозь туман, он видел, что подвергается воздействию чего-то совершенно нового, однако он чувствовал, что источник этого влияния находился внутри него. Те несколько слов, которые сказал ему друг Бэзила, слова, сказанные, без сомнения, случайно, и в которые лорд Генри намеренно вложил парадокс, задели тайную, не встревоженную ранее, струну в его душе. Однако сейчас он чувствовал, как эта струна вибрирует и пробуждает в нем что-то новое.
Подобным образом его тревожила музыка. Музыка часто его тревожила. Однако музыка была непонятна. Она создавала внутри не новый мир, а, скорее, новый хаос. Слова! Всего лишь слова! Как же ужасны они были! Как же понятны, живы и жестоки! От них не было спасения. И в то же время в них была какая-то едва ощутима магия! Казалось, они могли придать форму бесформенным телам и несли в себе музыку, не менее прекрасную, чем звук скрипки или флейты. Просто слова! Разве существовало что-то более реальное, чем слова?
Да. В его юности были вещи, которых он не понимал. Он понял их теперь. Вдруг, его жизнь словно охватило пламя. Казалось, он шел этим пламенем. Почему же он не знал этого раньше?
Лорд Генри смотрел на него с легкой улыбкой. Он точно знал, когда психология требовала молчать. Ему было очень интересно. Его поразило внезапное впечатление, которое произвели его слова. Он вспоминал книгу, которую прочитал, когда ему было шестнадцать и которая открыла ему глаза на многие вещи, которых он не знал до того, и ему было интересно, переживал ли Дориан Грей нечто подобное в тот момент. Он выпустил стрелу вслепую. Неужели она попала в цель? Как же увлекательно было наблюдать за парнем!
Голуорд, тем временем, рисовал в своей смелой манере, которая дарила картине свежесть и нежность и которая в любом искусстве могла появиться только благодаря силе. Он не обращал внимания на тишину.
— Бэзил, я устал стоять, — вдруг пожаловался Дориан Грей. — Мне надо пойти на улицу и посидеть в саду. Здесь слишком душно.
— Мой дорогой друг, прости меня. Когда я рисую, то не могу думать больше ни о чем. Но ты позировал прекрасно как никогда. Ты был абсолютно невозмутим. И я уловил желаемый эффект — полуоткрытый рот и огонь в глазах. Не знаю, что там тебе наговорил Гарри, но он вызвал очаровательное выражение на твоем лице. Видимо, он делал тебе комплименты. Тебе не следует верить ни одному его слову.
— То, что он сказал — точно не комплименты. Наверное, именно поэтому я ему и не верю.
— Вы знаете, что во все это верите, — сказал лорд Генри, направив свой лениво-мечтательный взгляд на него. — Я пойду с Вами в сад. В мастерской невероятно жарко. Бэзил, дай нам чего-то попить, чего-то со льдом и клубникой.
— Конечно, Гарри. Позвони в колокольчик и когда придет Паркер, я скажу, что вам нужно. Мне надо поработать над фоном, так что я присоединюсь к вам позже. Не задерживай Дориана надолго. Я еще никогда не был в такой прекрасной форме, как сегодня. Это будет мой шедевр. Это уже шедевр.
Лорд Генри вышел в сад и нашел там Дориана Грея, который утопил лицо в цветы сирени и жадно упивался их ароматом, будто бы вином. Он подошел ближе и положил руку ему на плечо.
— Вы все делаете правильно, — пробормотал он. Только ощущения могут исцелить душу, и только душа может исцелить ощущения.
Юноша выпрямился и отступил на несколько шагов. На нем не было шляпы, поэтому листва встревожила его мятежные кудри и запутала их позолоченные кончики. В его глазах читался страх, который испытывает человек, если его вдруг разбудить. Его будто высеченные из мрамора ноздри расширились, а скрытое напряжение украло красный цвет его губ и оставило их дрожать.
Именно так, — продолжил лорд Генри, — в этом состоит один из величайших секретов жизни — исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души. Вы удивительный. Вы знаете больше, чем Вы думаете, но меньше, чем Вам хотелось бы.
Дориан Грей нахмурился и отвернулся. Ему нравился высокий, грациозный молодой человек, стоявший перед ним, и он ничего не мог с этим поделать. Его романтичное лицо оливкового цвета с несколько усталым выражением вызвало в Дориане Грее интерес. В его низком равнодушном голосе было что-то захватывающее. Даже его холодные белые руки несли в себе очарование. Пока он говорил, они двигались, будто в такт музыке, будто говорили на своем собственном языке. Но он все больше боялся его и чувствовал стыд за свой страх. Почему незнакомец должен открыть ему глаза на самого себя? Он знал Бэзила Голуорда уже несколько месяцев, однако дружба с ним не меняла его. Вдруг в его жизни появился кто-то, кто, кажется, раскрыл перед ним тайну жизни. И все же, чего же тут бояться? Он был уже не школьник. Пугаться было бессмысленно.
— Давайте пойдем присядем где-то в тени, — сказал лорд Генри. — Паркер уже принес напитки, если мы еще немного постоим под солнцем, то это Вас испортит, и Бэзил больше никогда не станет Вас рисовать. Вам действительно следует избегать солнечных ожогов. Это было бы недопустимо.
— Какое это имеет значение? — Со смехом воскликнул Дориан Грей, приседая на скамью на краю сада.
— Это должно иметь огромное значение для Вас, господин Грей.
— Почему же?
— Потому что Вы владеете очарованием молодости, а молодость, это единственная вещь, стоящая того, чтобы ее иметь.
— Я не чувствую этого, лорд Генри.
— Конечно же нет, сейчас Вы этого не чувствуете. Но однажды, когда Вы уже будете старый, сморщенный и уродливый, когда мысли оставят полосы на Вашем лбу, а страсть обожжет Ваши уста своим губительным огнем, Вы это почувствуете, вы это невыносимо почувствуете. Сейчас, куда бы Вы ни пошли, Вы очаровываете весь мир собой. Но будет ли так всегда?… У вас на удивление красивое лицо, господин Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота — это форма гениальности, на самом деле, она даже выше гениальности, ведь ее не нужно объяснять. Это одно из величественных явлений природы, таких как солнечный свет, весна, или отражение серебристой луны в темных водах. Ее невозможно подвергнуть сомнению. Она удивительна в своей независимости. Она превращает тех, кто ею владеет, в принцев. Вы смеетесь? Что ж, если Вы ее потеряете, Вам будет не до смеха… Иногда люди говорят, что красота поверхностна. Может и так, но она не столь поверхностна, как о ней думают. Люди, которые не судят по внешнему виду, не способны на глубокие суждения. Настоящая тайна мира состоит скорее в видимых вещах, чем невидимых… Да, господин Грей, боги сделали Вам щедрый подарок. Но боги быстро забирают свои подарки. У Вас есть всего несколько лет, чтобы жить настоящей, совершенной и полной жизнью. Когда Ваша молодость пройдет, Ваша красота пройдет вместе с ней, и потом Вы вдруг поймете, что для Вас больше не осталось побед, или же Вам придется довольствоваться подлыми победами, которые воспоминания о Вашем славном прошлом сделают даже горче поражений. Каждый уходящий месяц на шаг приближает Вас к ужасу. Время Вам завидует и идет войной на цвет Вашей юности. Вы станете бледным, с впалыми щеками и пустыми глазами. Вы будете несказанно страдать… Эх! узнайте свою молодость, пока не поздно. Не теряйте богатство Ваших дней, прислушиваясь к скучным людям, пытаясь исправить безнадежные ошибки, или отдавая свою жизнь неблагодарным, простым и пошлым людям. Это неправильные цели, фальшивые идеалы нашего времени. Живите! Живите собственной прекрасной жизнью! Не упустите ничего в ней. Всегда ищите для себя новые ощущения. И ничего не бойтесь… Новый Гедонизм[3] — вот что нужно людям нашего века. Вы можете стать его живым символом. Для такой личности, как Вы, нет ничего невозможного. На данный момент, мир принадлежит Вам. Тотчас, когда я Вас увидел, я понял, что Вы не знаете, кто Вы такой на самом деле, кем можете стать. Вы так захватили меня, что я почувствовал необходимость рассказать Вам кое-что о Вас. Я подумал о том, какой трагедией это стало бы, если бы Вы потеряли себя. Ведь Ваша молодость продлится так недолго, так недолго. Обычные цветы вянут, но цветут снова. В следующем июне так же зажелтеют эти волшебные цветы. Через месяц зацветет ломонос, и его зеленые листья будет поддерживать пурпурные звездочки год за годом. А вот наша молодость никогда не вернется к нам. Радость, что пульсирует, когда нам двадцать, постепенно ослабевает. У нас отказывают конечности, наши чувства притупляются. Мы превращаемся в неуклюжие куклы, которых преследуют воспоминания о страстях, которых мы боялись, и искушениях, подвергнуться которым нам не хватало смелости. Молодость! Молодость! Нет в мире ничего лучше чем молодость!
Дориан Грей слушал с широко открытыми глазами и был поражен. Веточка сирени, которую он держал в руках, упала на гравий. Пушистая пчела некоторое время кружила вокруг нее. Затем она решила залезть на маленький шарик из звездочек. Он наблюдал за этим с тем странным интересом, с которым мы относимся к обыденным вещам, когда какие-то более важные вещи пугают нас, когда нас возбуждает новая эмоция, которую мы не можем выразить, или когда ужасная мысль берет наше сознание в осаду, требуя капитуляции. Через некоторое время, пчела улетела. Он увидел, как она пытается залезть в пурпурный цветок березки. Она задрожала, а потом легонько заколыхалась.
Вдруг, в дверях мастерской появился художник и коротким взмахом руки позвал их к себе. Они обернулись друг к другу и улыбнулись.
— Я жду, — крикнул он. — Идите уже сюда. Освещение просто замечательное, так что забирайте свои напитки.
Они поднялись и вместе пошли к мастерской. Мимо пролетело несколько белых с зеленым бабочек, а где-то на краю сада спел дрозд.
— Вы рады, что познакомились со мной, господин Грей. — Сказал лорд Генри, взглянув на него.
— Да, сейчас я рад. Не знаю, буду ли я радоваться этому всегда?
— Всегда! Это ужасное слово. Когда я слышу его, меня всего прям передергивает. Женщины так любят его использовать. Они портят каждый роман, пытаясь заставить его продолжаться всегда. К тому же, это слово не имеет значения. Единственная разница между прихотью и страстью на всю жизнь состоит в том, что прихоть длится несколько дольше.
Когда они вошли в мастерскую, Дориан Грей положил руку лорду Генри на плечо.
— В таком случае, пусть наша дружба будет прихотью, — пробормотал он, пораженный собственной смелостью. Затем он встал на платформу в той же позе, что и раньше.
Лорд Генри устроился в большом кресле и наблюдал за ним. Единственными звуками, наполнявшими тишину, было трение кистей о полотно и шаги Голуорда, когда тот отходил, чтобы взглянуть на свое творение на расстоянии. Золотистыя пыль кружила в солнечных лучах, которые посетили мастерскую через открытую дверь. Насыщенный запах роз, казалось, проник повсюду. Примерно через четверть часа Голуорд прекратил рисовать. Он долго смотрел на Дориана Грея, а потом долго смотрел на картину, прикусив кончик кисти и нахмурив брови.
— Готово! — Сказал он, в конце концов, и наклонился, чтобы подписать левый нижний угол картины ярко-красными буквами.
Лорд Генри подошел и осмотрел портрет. Это было действительно выдающееся произведение искусства, кроме того, юноша на нем был поразительно похож на прототип.
— Дорогой мой, прими мои искренние поздравления, — сказал он. — Это лучший портрет нашего времени. Господин Грей, подойдите и посмотрите на себя.
Юноша оглянулся, будто только что проснулся.
— Уже готово? — Спросил он, ступая вниз с платформы.
— Именно так, — ответил художник. — А ты сегодня просто прекрасно позировал. Я твой должник.
— Это все благодаря мне, — перебил лорд Генри. — Правда, господин Грей?
Дориан ничего не ответил. Он молча подошел к портрету и обернулся к нему. Увидев его, он отошел, а его щеки укрылись румянцем от удовольствия. В его глазах появилась радость, как будто он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно и очарованно, он понимал, что Голуорд обращается к нему, но не мог уловить смысл его слов. Ощущение собственной красоты стало для него откровением. Раньше он никогда этого так не чувствовал. Комплименты Голуорда всегда казались ему просто дружескими преувеличениями. Он слушал их, смеялся над ними и забывал о них. Они не влияли на его сущность. А потом появился Лорд Генри Уоттон с его странной речью над могилой молодости, с его ужасным предупреждением о ее быстротечности. Это взволновало его тогда, а теперь, когда он смотрел на тень собственной красоты, он осознал всю правдивость слов лорда Генри. Да, однажды его лицо покроют морщины, глаза потеряют свой цвет, его грациозная осанка покинет его. Его уста потеряют свои красные краски, так же, как волосы — золотые. Жизнь, призванная создать его душу, уничтожит его тело. Он станет гадким, ужасным и неуклюжим.
Когда он подумал об этом, острая боль пронзила его, будто нож, заставив дрожать каждую толику его нежной души.
— Тебе что, не нравится? — В конце концов, воскликнул Голуорд, несколько пораженный молчанием юноши, ведь он не понимал, что это значит.
— Конечно, ему нравится, — сказал лорд Генри. — Кому это может не понравиться. Это же одно из величайших произведений современного искусства. Я готов отдать за него все, что пожелаешь. Портрет должен быть моим.
— Он принадлежит не мне, Гарри.
— А кому же он принадлежит?
— Конечно, Дориану, — ответил художник.
— Он просто счастливчик.
— Как же жаль! — воскликнул Дориан Грей, не сводя глаз с собственного портрета. — Как же жаль! Я состарюсь, стану противным и страшным. А этот портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше этого июньского дня… Если бы все было наоборот! Если бы это я всегда оставался молодым, а портрет старел! За это я отдал бы, я отдал бы все, что угодно! Именно так, во всем мире нет вещи, которой мне было бы жаль за это! Я за это свою душу отдал бы!
— Ты вряд ли имел бы что то против такого соглашения, Бэзил, — засмеялся лорд Генри. — Тебя больше беспокоят линии на твоих картинах.
— Я бы очень возражал, Гарри, — сказал Голуорд.
Дориан Грей обернулся и посмотри на него.
— Думаю, именно так и произошло бы, Бэзил. Твое искусство для тебя важнее, чем твои друзья. Я для тебя не более, чем бронзовая фигурка. Я бы даже сказал, гораздо меньше.
Художник смотрел на него в изумлении. Это было не похоже на Дориана, так разговаривать. Что произошло? Он выглядел рассерженным. Его лицо покраснело, а щеки горели.
— Именно так, — продолжил он, — я для тебя вешу меньше, чем твой Гермес из слоновой кости, или серебряный фавн. Они нравиться тебе всегда. Как долго тебе буду нравиться я? Подозреваю, что до первой морщины. Теперь я знаю, что как только человек теряет свою красоту, какой бы она ни была, он теряет все. Твоя картина рассказала мне об этом. Лорд Генри Уоттон абсолютно прав. Молодость — единственная вещь, которую стоит иметь. Когда я пойму, что старею, я покончу с собой.
Голуорд потускнел и схватил его за руку.
— Дориан! Дориан! — Воскликнул он, — не говори так. У меня еще никогда не было такого друга, как ты, и уже никогда не будет. Ты же не можешь завидовать вещам, правда? Ты же прекраснее любой вещи!
— Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую собственному портрету, который ты написал. Почему он будет иметь то, что я потеряю? Каждое мгновение отнимает что-то у меня и отдает это ему. О! Если бы это было наоборот! Если бы портрет мог меняться, а я мог оставаться таким, какой я есть сейчас! Зачем ты его написал? Наступит день, когда он станет смеяться надо мной, безжалостно насмехаться надо мной. Горячие слезы наполнили его глаза, он вырвался и упал на диван, нырнув в подушки, будто хотел помолиться.
— Это ты во всем виноват, Гарри, — с горечью сказал художник.
Лорд Генри пожал плечами.
— Это настоящий Дориан Грей, вот и все.
— Нет.
— Если нет, то какое я имею к этому отношение?
— Тебе стоило уйти, когда я просил, — процедил он.
— Я остался, когда ты меня просил, — ответил лорд Генри.
— Гарри, я не могу ссориться сразу с двумя своими лучшими друзьями, но вы заставили меня возненавидеть лучшую картину из тех, что я написал, и я ее уничтожу. Это же только полотно и краски. Я не позволю ей испортить жизнь нам троим.
Дориан Грей поднял голову. Лицо его было бледное, а глаза — полны слез. Он увидел, как Бэзил подошел к рабочему столу, который стоял под высоким завешенным окном. Что он там делал. Его длинные пальцы перебирали тюбики и кисточки в поисках чего-то. Да, он искал нож с длинным стальным лезвием. В конце концов, он его нашел. Он собирался искромсать полотно.
Приглушенно всхлипнув, он вскочил с дивана, подбежал к Голуорду, вырвал нож из его руки и бросил его в противоположную сторону мастерской.
— Нет, Бэзил, нет! — Кричал он. — Это будет убийством!
— Я рад, что ты, наконец, оценил мою работу по достоинству, Дориан, — холодно ответил художник, после того, как он справился с удивлением. — Я уже думал, не дождусь этого.
— Оценил по достоинству! Да я просто влюблен в этот портрет, Бэзил. Он — часть меня. Я это чувствую.
— Что же, в таком случае, когда ты высохнешь, тебя покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. А потом можешь делать с собой все, что пожелаешь. — С этими словами он пересек комнату и позвонил в колокольчик, чтобы Паркер принес чая. — Ты выпьешь чаю, Дориан? Ты тоже, Гарри? Или ты пренебрегаешь простыми удовольствиями?
— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — наше последнее убежище от сложных удовольствий. А вот сцены, разыгранные передо мной не в театре, мне не нравятся. Какие же вы оба абсурдные создания! Мне интересно, кто назвал человека рациональной животным. Это наиболее несовершенное определение из всех. Человек имеет множество качеств, но он никак не рационален. В конце концов, я даже рад этому, однако, я хотел бы, чтобы вы, ребята, не ссорились из-за портрета. Лучше бы ты отдал его мне, Бэзил. Этот глупый мальчишка не хочет иметь его на самом деле, а вот я хочу.
— Если ты не отдашь его мне, я тебе никогда этого не прощу, Бэзил! — Воскликнул Дориан Грей, — и я не позволю называть себя глупым мальчишкой.
— Ты же знаешь, портрет твой, Дориан, я подарил его тебе, еще до того как написал.
— Кроме того, господин Грей, Вы понимаете, что вели себя глупо, и не возражаете против напоминаний о Вашем весьма юном возрасте.
— Сегодня утром мне стоило отрицать, лорд Генри.
— Сегодня утром! С тех пор прошло уже много времени.
В дверь постучали, и вошел дворецкий. Он поставил поднос с чаем на маленький японский столик. Раздавался звон чашек и блюдец, старинный чайник все еще шипел. Лакей принес две фарфоровые тарелки в форме шара. Дориан Грей подошел к столику и принялся наливать чай. Остальные двое неторопливо подошли и заглянули под крышки тарелок.
— Давайте сходим в театр сегодня вечером, — сказал лорд Генри. — Где-то должны показывать что-то интересное. Правда, я уже пообещал одному старому другу, что пойду вместе с ним на ужин к Уайту, но я могу написать ему телеграмму, что я заболел, или у меня появились другие планы. Думаю, благодаря своей неожиданной откровенности это станет прекрасным оправданием.
— Как же это надоедает, когда кто-то надевает на себя театральный костюм, — пробормотал Голуорд. — И именно этот наряд выглядит ужасно.
— Ты прав, — мечтательно ответил лорд Генри. — Наряды девятнадцатого века просто отвратительные. Они такие тусклые, такие мрачные. Грех — это единственная яркая вещь, которая осталась в нашей жизни.
— Тебе не следует так говорить в присутствии Дориана, Гарри.
— В присутствии которого из Дорианов? Того, что наливает нам чай, или того, что на портрете?
— В присутствии обоих.
— Я бы с радостью сходил с Вами в театр, лорд Генри, — сказал юноша.
— Тогда пойдемте, ты пойдешь с нами, Бэзил, правда?
— Я не могу, честно. И еще не скоро буду иметь такую возможность. У меня много работы.
— Что же, в таком случае, мы с Вами пойдем вдвоем, господин Грей.
— Я был бы этому очень рад.
Художник прикусил губу и подошел к портрету с чашкой в руке.
— Я останусь с настоящим Дорианом, — мрачно сказал он.
— Это настоящий Дориан? — Воскликнул оригинал, приблизившись к портрету. — Я действительно именно такой?
— Да, это твоя точная копия.
— Это прекрасно, Бэзил!
По крайней мере, ты точно такой снаружи. Но он никогда не изменится, — вздохнул Бэзил. — Это многое значит.
— Ну почему люди так помешаны на верности! — Воскликнул лорд Генри. — Но даже в любви это просто вопрос физиологии. Наша воля никак на это не влияет. Молодые люди стремятся быть верными, но предают, старые хотели бы изменить, но не в состоянии, вот и все.
— Дориан, не ходи в театр сегодня вечером, — сказал Голуорд. — Останься и поужинай со мной.
— Я не могу, Бэзил.
— Почему?
— Потому что я пообещал лорду Генри Уоттону пойти с ним.
— От того, что ты будешь сдерживать свои обещания, он не станет относиться к тебе лучше. На самом деле, он всегда нарушает собственные обещания. Пожалуйста, не ходи.
Дориан Грей засмеялся и покачал головой.
— Умоляю тебя.
Юноша засомневался и посмотрел на лорда Генри, который наблюдал за ними из-за чайного столика с довольной улыбкой на устах.
— Я должен пойти, Бэзил, — ответил он.
— Что ж, — сказал Голуорд, вернувшись к столику и поставив свою чашку на поднос. — Уже довольно поздно, а вам еще нужно собраться, поэтому лучше не теряйте времени. Пока, Гарри. Пока, Дориан. Приходи навестить меня в ближайшее время. Приходи завтра.
— Конечно.
— Ты не забудешь?
— Конечно же нет, — заверил Дориан.
— И… Гарри!
— Что, Бэзил?
— Помни, о чем я просил тебя сегодня утром в саду.
— Я уже забыл об этом.
— Я тебе доверяю.
— Если бы я мог доверять себе, — засмеялся лорд Генри. — Пойдемте, господин Грей, мой экипаж ждет на улице, я отвезу Вас домой. Пока, Бэзил, это был очень интересный вечер.
Когда дверь за ними закрылась, художник упал на диван, а его лицо исказилось от боли.
Глава 3
На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон следовал из Карзон Стрит в Албани, чтобы навестить своего дядю, лорда Феримора, приветливого, хотя иногда и грубоватого, холостяка, которого общество в целом считало самовлюбленным, поскольку не имело от него никакой пользы; а вот бомонд считал его щедрым, ведь он обеспечивал людей, способных его поразить. Его отец был послом в Мадриде во времена, когда Изабелла была еще юной, а о Прим никто и понятия не имел, но уволился с дипломатической службы из прихоти и обиды на то, что ему не предложили должность посла в Париже — должность, которая, по его мнению, должна была принадлежать ему по праву рождения, лени, прекрасно написанных дипломатических писем и безграничной жажды наслаждений. Его сын, который работал секретарем у отца, также подал в отставку, что на тот момент казалось глупостью. А унаследовав титул через несколько месяцев после этого, он с головой погрузился в изучение высочайшего искусства аристократов — безделья. Он имел два больших дома, однако предпочитал жизнь в квартире, ведь там было меньше хлопот, а ел, как правило, в клубе. Он интересовался делами на своих угольных шахтах в центральных графствах, объясняя свой нездоровый интерес к промышленности тем, что джентльмен, который владеет углем, может позволить себе топить свой камин дровами. Что касается политических взглядов, он поддерживал консерваторов всегда, кроме тех времен, когда они были в правительстве. В эти периоды он поливал их грязью за то, что они — стая радикалов. Он был героем в глазах своего дворецкого, который мог на него накричать и ужасом в глазах своей родни, на которую он сам срывался. Он мог родиться только в Англии, хотя и говорил, что страна катится к черту. У него были устаревшие принципы и целая куча предубеждений.
Войдя в комнату, лорд Генри увидел, как его дядя в охотничьем жакете сидит с сигарой в зубах и грозно бормочет что-то в ответ на очередную публикацию Таймс[4].
— О, Гарри, — сказал пожилой джентльмен, — что привело тебя ко мне в такую рань? Я думал, что денди, вроде тебя, не просыпаются раньше двух и не выходят в люди раньше пяти.
— Только любовь к своей семье, дядя Джордж, уверяю Вас. Мне от вас кое-что нужно.
— Я так понимаю — деньги, — сказал лорд Фермор, скосив взгляд. — Ну что же, садись и расскажи что к чему. Сейчас молодые люди считают, что деньги это самое главное в жизни.
— Действительно, — согласился лорд Генри, поправляя пуговицу на своем жакете, — а с годами они убеждаются в этом. Но мне нужны не деньги. Деньги нужны тем, кто выплачивает свои долги, дядя Джордж, а я этим не занимаюсь. Кредит — это богатство младшего сына, он позволяет жить на широкую ногу. Кроме того, я имею дело с торговцами с Дартмура, поэтому они меня никогда не беспокоят. Мне нужна информация, но не какая-то полезная. Мне нужна ненужная информация.
— Что ж, я могу рассказать тебе все, что написано в английской Синей Книге[5], Гарри, хотя, в последнее время там пишут много глупостей. Когда я работал дипломатом, дела с этим были намного лучше. Но я слышал, что сейчас их принимают по результатам экзаменов. Чего же еще ожидать? Экзамены, сэр, это полнейшее очковтирательство от начала и до конца. Если человек — джентльмен, то он знает достаточно, если же нет — то сколько бы он не знал, с него не будет никакого толку.
— В Синей Книге не пишут о мистере Дориане Грее, дядя Джордж, — вяло сказал лорд Генри.
— Мистер Дориан Грей? А кто это? — Спросил лорд Фермор, нахмурив свои седые брови.
— Я пришел как раз для того, чтобы об этом узнать, дядя Джордж. Точнее, я знаю, кто он. Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне о его матери. Какой она была? За кого вышла замуж? В свое время, Вы знали практически всех, поэтому могли быть знакомы и с ней. Меня сейчас очень заинтересовал мистер Грей. Я только недавно с ним познакомился.
— Внук Келсо! — Повторил пожилой джентльмен. — Внук Келсо!.. Конечно… Мы были близко знакомы с его матерью. Кажется, я даже присутствовал на ее крестинах. Маргарет Девере была сногсшибательной красоткой. Мужчины просто взбесились, когда она сбежала с практически голым и босым мальчишкой — он был никто — младший офицер в пехотном полку, или что-то вроде того. Действительно. Я помню все, как будто это было вчера. Бедняга погиб на дуэли в Спа, всего через несколько месяцев после свадьбы. Об этом ходили отвратительные слухи. Поговаривали, что Келсо нанял какого-то подонка из Бельгии, чтобы тот публично оскорбил его зятя, заплатил ему, и тот прибил несчастного юношу, как муху. Это дело замалчивали, однако, Келсо с тех пор обедал в одиночестве. Мне рассказывали, что он забрал дочь к себе, но она так и не заговорила с ним больше. Да, это очень темная история. Менее чем через год, девушка тоже умерла. Так что после нее остался сын, правда? Я уже и забыл об этом. Что он за парень? Если он похож на мать, то должен вырасти прекрасным парнем.
— Он очень красив, — подтвердил лорд Генри.
— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжил старик. — Скорее всего, его ждет приличное наследство, если только Келсо поступил с ним по совести. У его матери также были деньги. От ее деда ей досталось имение Селби. Ее дед ненавидел Келсо. Называл его скупердяем. Таким он и был. Однажды он приехал в Мадрид, когда еще я там был. К сожалению, мне было стыдно за него. Королева расспрашивала меня об английском дворянине, который всегда спорил с погонщиками о цене за проезд. Это стало целой историей. Я целый месяц не решался появиться при дворе. Надеюсь, он поступил с внуком лучше, чем обходился с теми беднягами.
— Даже не знаю, — ответил лорд Генри. — Думаю, с ним все будет в порядке. Он еще не совершеннолетний. Я знаю, что он владеет поместьем. Он рассказывал мне. А… его мать была красавицей?