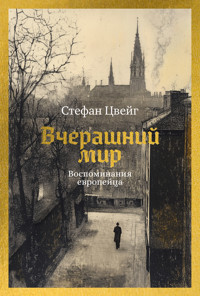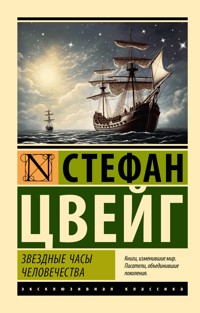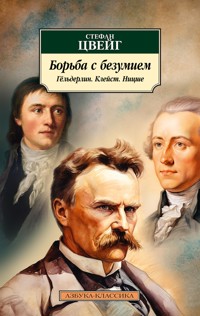Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского психологического реализма начала XX века. Их экранизировали гении европейского и американского кино времен его «золотого века»: Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак. На них выросли поколения европейских и российских читателей. Каждая из этих новелл и сейчас восхищает, повергает в ярость, заставляет спорить с автором и его героями, любить их и ненавидеть, осуждать и прощать. Секрет подобного «нестарения» новелл Цвейга прост — автор неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, исступленной, болезненной любви, не важно, к мужчине или к женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к приключениям или к власти над другими. Есть чувства и желания, которые не меняются никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Стефан Цвейг
Письмо незнакомки
Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского психологического реализма начала XX века.
Их экранизировали гении европейского и американского кино времен его «золотого века»: Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак.
На них выросли поколения европейских и российских читателей.
Каждая из этих новелл и сейчас восхищает, повергает в ярость, заставляет спорить с автором и его героями, любить их и ненавидеть, осуждать и прощать.
Секрет подобного «нестарения» новелл Цвейга прост — автор неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, исступленной, болезненной любви, не важно, к мужчине или к женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к приключениям или к власти над другими.
Есть чувства и желания, которые не меняются никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их…
Когда известный романист Р. после трехдневной экскурсии в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый — быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай, Р. удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений; после этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо.
В нем было около тридцати страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, — скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», — подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении… К нему ли это относилось или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство. И он начал читать.
Мой ребенок вчера умер, — три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его неспокойные маленькие ручки. На третий вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. Три или четыре часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти; только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, — теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.
Я взяла пятую свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплакав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все! Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня, — голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар, может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах, я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.
С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне, — если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть действительно конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов, — мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя: чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка.
Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканных паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, вдову скромного чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, — мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый; но я — о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя; и как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала, и пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававшей всю жизнь любить тебя.
Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, — кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, — и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя.
Через два-три дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне, во время переезда, еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры.