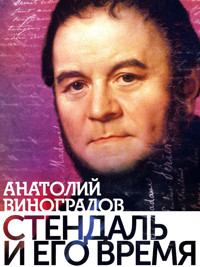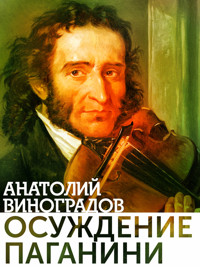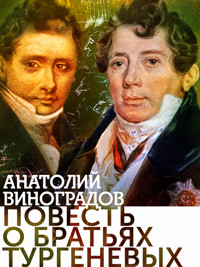
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Союз
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Семья – отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Он стал в молодые годы «преступником царской России» и пережил на своем большом сложном и интересном пути всех братьев, его судьба, выступила в этой повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции – молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти, а умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра – двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений – глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века? Обо всем этом в книге «Повесть о братьях Тургеневых».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Аннотация
Семья – отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Он стал в молодые годы «преступником царской России» и пережил на своем большом сложном и интересном пути всех братьев, его судьба, выступила в этой повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции — молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти, а умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра – двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений — глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века? Обо всем этом в книге «Повесть о братьях Тургеневых».
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
W W W . S O Y U Z . RU
Анатолий ВиноградовПОВЕСТЬ О БРАТЬЯХ ТУРГЕНЕВЫХ
Предисловие
Проблема исторического романа по-прежнему остается проблемой в силу того, что наша поэтика, теория жанров и стилей пока ограничивается лишь общими теоретическими указаниями, исходящими от максимы ученого исследователя: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». Это недостаточно и не во всем верно.
Мы не намерены касаться здесь теоретических вопросов: нас интересует литературная практика. Пользуясь доступностью частных, семейных и государственных архивов, мы берем нетронутый угол прошлого и пытаемся практически разрешить на микроскопическом сегменте задачу воссоздания этого прошлого в той мере, в какой малый сегмент является частью огромного круга проблем, объясняющих необходимость сегодняшнего дня. Объяснение не есть оправдание. Нынешний блестящий день человечества, организовавшегося на гигантских пространствах, равных одной шестой части всей суши, в социалистическое общество, не нуждается в оправдании. Скорее обратно: качество прошлых дней мы оправдываем готовностью к нынешнему. Именно с этой точки зрения мы с интересом останавливаемся на некоторых фигурах прошлого.
Семья — отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Старик Иван Петрович Тургенев, воспитанный в идеях гуманности масонов, друг республиканца Радищева, его жена Екатерина Семеновна — крепостница и кнутобоица, красавица с арапником, щадившая борзую и налагавшая красные полосы на спины малолетних детей, — вот первая коллизия, мучившая первое сознание молодых Тургеневых. А дальше «нищета миллионов и богатство счастливой тысячи», александровская сентиментальность и аракчеевское зверство, истинно русское «хамство, блевотина расейского вихрастого парня с гармошкой» и «блестящие интеллекты Германии, Франции и Англии» — все эти противоречивые впечатления не могли не произвести переворота, мучительного и долговременного, в умах тургеневской молодежи. Но каждый из четырех братьев по-разному воспринимал жизнь; по-разному предъявлял ей требования. По мере сил изображая эту неодинаковость, автор стремился к равновесию, но уже в силу того, что Николай сделался в молодых годах «преступником царской России» и пережил на своем большом сложном и интересном пути всех братьев, его судьба, естественно, выступила в нашей повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции — молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти. Тургенев умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра — двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений — глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века?
Несколько слов по поводу «исторической правды». В тех случаях, когда события двух-трех лет не находились во взаимной причинной связи, мне приходилось описывать их в плоскости одновременной, чтобы необходимым материалом не растягивать излишне повествования. Кроме того, по ряду композиционных соображений мне необходимо было свести в одном месте персонажи, которые в данном году фактически отсутствовали в Петербурге. Еще двум второстепенным лицам пришлось прибавить возраст года на три; я сделал это для того, чтобы не прибавлять к повести лишних страниц — главы на четыре. Это существенно не изменило той внутренней правды, которая является обязанностью пишущего. На эту тему я не желаю спорить. Я не желаю также спорить на тему о том, нужно или не нужно было вводить в мою повесть всю массу неудобоваримых и еще на многие годы дискутабельных характеристик разных групп «исторического декабризма», групп, составляющих предмет школьного исследования.
Я не проводил своих героев через «Знаменитые годины» XIX века, стараясь не попасть в положение cicerone — проводника туристов по знаменитым местам и историческим зданиям.
Я согласен спорить и защищать свою характеристику Николая и Александра Тургеневых. Я настаиваю на связи русского масонства и политических обществ с «большой европейской Карбонадой», вслед за Кампером. Идеи и практика, сущность и ритуалы тургеневской конспирации были и оставались «импортными моментами». Николай Тургенев, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина. Документы прочитанного мною тургеневского архива настойчиво говорят о том, что оба брата были и оставались «поздними розенкрейцерами» — масонами высоких степеней.
Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, давшее такую яркую картину истории, ни в какой мере не было делом рук Николая Тургенева, тем менее Александра. Трудно сказать, как сложились бы события, будь Николай Тургенев в России. При его жесткой прямолинейности, большой и отчетливой планомерности действий, «14 декабря» или не было бы вовсе, или династия Романовых могла бы найти себе конец. Политическая потенциальная сила Тургенева волею истории была лишена проявления и динамики.
«Опыт теории налогов», по мнению М.И. Покровского, был сводкой классических воззрений «политической экономии, на которых воспитался и Маркс». Но политическая система Н.И. Тургенева, при всей своей жизненной новизне, имела перед собой действительность, ставшую против. Из этого нельзя делать отрицания системы, как из неуспеха какой-нибудь паровой машины Герона Александрийского в рабовладельческом эллиноримском мире нельзя делать ни отрицания самого факта изобретения, ни значения повторного ее изобретения в другую, более благоприятную эпоху. Меня, беллетриста, заинтересовала вся семья Тургеневых как трагических личностей. В одном случае они обогнали свое время и оторвались от широкой среды, в другом — после 14 декабря они роковым образом оказываются позади тех, кого когда-то звали за собой. Сделав свое дело, Н.Тургенев не только не увидел осуществления своих замыслов, но даже вынужден был от них отречься отречением Галилея. В истолковании этого явления мы видим глубоко поучительный пример того, с какой легкостью иногда выпадает ценное и необходимое звено при механически понимаемом процессе и как это звено закономерно укладывается в исторические связи при диалектическом понимании истории.
Я не считаю возможным спорить о правильности и пригодности для беллетриста так называемой «Оправдательной записки» 1827 года. Эта (равно как и другая редакция «оправданий») всецело вынужденная записка Николая Тургенева представляет собою смесь юридической софистики французского адвоката Ренуара, стилистических двусмысленностей Проспера Мериме и, самое главное, психологической беспомощности большого человека, попавшего в страшную николаевскую западню. Трудно судить о человеке вообще, если брать только то, что он напишет под дулом револьвера или под топором палача в свое «оправдание». Во всяком случае, такая запись никак не может считаться исчерпывающим документом всей жизни Николая Тургенева. Достаточно с меня того, что его «Оправдательная записка» оправдана исторически как документ научный и нисколько не оправдывает возлагаемых на нее надежд, как только дело идет о живых образах для бытописателя-беллетриста.
Я не имею нужды утруждать читателя перечнем материалов, которыми я пользовался. Некоторые из них все еще малодоступны. Публикуемое в ближайшее время исследование дает мне несколько большие возможности коснуться вопроса о материалах.
Последнее сомнение, которое довелось мне услышать по поводу моей повести: Александр Тургенев якобы «расстался с дворянскими симпатиями и ринулся навстречу молодой буржуазии». Надо сказать, что Александр Тургенев был довольно сложной фигурой, несмотря на черты поверхностные и неглубокие. После тяжелой семейной катастрофы Александр Тургенев в качестве скитальца искал самых разнообразных европейских встреч — он записывал анекдоты Проспера Мериме, любезничал с Виктором Гюго, спорил с Бальзаком о Сведенборге, дружил с карбонарием Андрианом, часами беседовал с бабувистом Буонарроти, путешествовал со знаменитым Стендалем, вместе с Лерминье посещал беседы сенсимонистов. Однако в день скандала на лекции Лерминье, произнесшего контрреволюционную фразу, Тургенев под натиском возмущенных студентов принужден был выскочить из окна вместе в лектором и с приятелем своим Петром Андреевичем Вяземским. Александр Иванович бывал всюду, но христианнейшие салоны Свечиной или Рекамье с Шатобрианом, или легитимный салон Виргинии Ансло всегда притягивают его отовсюду, несмотря на то что Николай пишет ему: «Шатобриан бредит… не хочу помощи Гизо». После Июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Одилон Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атенеум», с какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, захлебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры — «соль земли», стали у власти! Это презрение к буржуазии, сменившей феодальную Францию, звучит в устах Александра Тургенева реакционно. Можно было отводить душу даже с представителями европейской Карбонады новой формации: спасшимся из тюрьмы Андрианом или учеником Бабефа, Буонарроти!
Для тех, кто заинтересуется судьбою тургеневского наследства, сообщаю, что последний представитель тургеневской семьи Петр Николаевич Тургенев передал весь архив Академии наук уже в нынешнем столетии.
Пострадавший на вилле Вербуа в год франко-прусской войны от солдатского сапога, этот архив еще более пострадал от рук неряшливых представителей науки: один, работая над несданной частью архива у себя на дому многие годы, так и умер, не пожелав сдать документов, а другой, бежав за границу, частью бросил на произвол судьбы, а частью украл ценнейшие документы из тургеневской переписки. Автору настоящей повести известно, что третий ученый виделся в Париже с беглецом, но желательных для нашей родной советской науки последствий это свидание, очевидно, не имело.
В заключение считаю радостным для себя долгом выразить горячую благодарность М.Горькому, без внимательной заботливости которого я не мог бы осуществить замысел этой повести.
Анатолий Виноградов
Глава первая
Верстовые столбы мелькают по дорогам. Пошатнувшиеся и истертые осями почтовых карет и брик, они меряют версты за верстами от Москвы до самого Симбирска. А посмотришь из окон Тургеневки на другую сторону Волги, и кажется, что кончилась Россия, или уж, во всяком случае, географическая Европа кончилась. Дальше, от заволжских степей, где-то несутся сухие пески. Кончаются леса, и глядят через широкую плавную Волгу глаза азиатского Востока. Там и москвич, и ловкий ярославец, и калужанин, и туляк, и Рязань хоть и чванятся как хозяева, но все-таки они чужаки. Чуваш и черемис, татарин и старые, непонятно откуда ведущие свой род болгары, а иногда киргизы, пригоняющие конские косяки в десять — двадцать табунов, — вот настоящие хозяева края.
Когда маленькие Тургеневы вышли, заспанные и усталые, из старой екатерининской дормезы, они не сразу огляделись и не сразу признали Тургеневку своею.
— В Киндяковку поедем завтра, — сказал отец. — Да и то, ежели кости ломить не будет.
— Уж ты посиди хоть недельку, я сама поеду, — ответила своенравная супруга Катерина Семеновна, рожденная Качалова. — Тебе, Иван Петрович, спешить некуда. Раз ты меня однажды не послушал и своих масонов не бросил, за что пострадал, то уж хоть теперь-то возьмись за ум, — все равно Москвы не видать тебе, как ушей своих.
Одиннадцатилетний Андрей, старший сын Ивана Петровича Тургенева, внимательно вслушивался в родительские пререкания. Немец Тоблер, учитель, подошел и сурово приказал ему подниматься в мезонин.
Вид оттуда чудесный. Зеленые степи на другой стороне с озерами и песчаным берегом Волги. А здесь огромные фруктовые сады над крутым и обрывистым берегом перемешиваются с дубовыми рощами, бегущими лентой от самого Нижнего и дальше к западу окаймляющими берега Оки.
— Здесь очень красиво, — сказал маленький Саша Тургенев по-немецки.
— Александр, раздевайтесь, идите умываться, потом успеете насмотреться в окна. Боюсь, что окна будут мешать занятиям, — сказал Тоблер.
— Здравствуйте, дорогой барин, отец меня к вам послал на услужение, — сказал красивый четырнадцатилетний мальчик, останавливаясь в дверях.
— А как тебя зовут? — спросил Александр.
— Василий, — отвечал мальчик. — Мы вашего батюшки рабы.
— Нет, Вася, у моего батюшки рабов нету.
— Как же так нет? — отвечал Василий. — Они на Волге, можно сказать, главный хозяин. Весь Симбирск их знает.
— А ты меня, Вася, барином не зови. Будем играть вместе, — сказал Андрей.
Александр подхватил слова старшего брата, и трое мальчиков пошли переодеваться с дороги.
* * *
Перед обедом, часа за полтора, Катерина Семеновна вошла в кабинет Ивана Петровича. По решительному виду жены Иван Петрович почувствовал, что разговор будет серьезный. И действительно, с первых слов тон Катерины Семеновны был самый решительный.
— Хочу тебе, Иван Петрович, по душам словечко сказать. В Москве не до того было. Я уж видела, что государынин гнев тебя к земле пригнул. Ну, тут не Москва и не Петербург, тут ты согласись к делам не подступать и моих холопов не портить.
— Что вы, что вы, Катерина Семеновна, разве я вашему хозяйству перечил? Об одном лишь вас попрошу — не забывайте о милосердии и справедливости к рабу, ибо раб есть не меньше человек, нежели члены других сословий государства, а в послании Иоанна-масона сказано…
— Ну, батюшка, — резко оборвала Катерина Семеновна, — я думала, что ты свою масонскую белиберду в Москве за Рязанской заставой оставил, ан выходит, до самого Симбирска довез! Мало тебе, что как ссыльного в деревню согнали; мало тебе, что друга-приятеля Новикова в крепость посадили, а этого крамольника Радищева в Сибирь под конвоем отвезли; мало тебе того, что уж совсем хороший человек Иван Владимирович Лопухин под надзором полиции в Москве живет; мало того, что ты с семьею Москвы, как ушей своих, не увидишь, — ты еще здесь мне мужиков вольнодумством портить хочешь! Какое ж это будет хозяйство, ежели у тебя в голове крамольное настроение вместо дворянского ума…
— Катерина Семеновна, оставьте, матушка, перебранку. Нравственное совершенствование есть истинный долг человеческий, и я об одном прошу вас, чтобы в имении нашем не было телесных наказаний.
— Как? Что? — наступала Катерина Семеновна. — Я и твоего любимца, пропойцу Пафнутку, выпороть не могу? Да ты, Иван Петрович, ума рехнулся? Знаешь ли ты, что Щербатова рассказывала мне в самый день прощания нашего с Москвою, что вот из-за этих самых вольностей в мыслях французы короля сместили, что у них бунт и резня, что голоштанники в правители полезли. Мало тебе Пугачева?
— Эх, матушка, пороли б меньше, Пугачева бы не было. А французы от нас далеко.
— Далеко, говоришь, старик, а знаешь, какие мысли Александр в голове держит, что он-де во Франции учиться наукам будет. Это мне Тоблер сказал. На горох мальчишку поставлю. Жаль, что тебя, старого, на горох поставить нельзя.
Иван Петрович беспомощно развел руками, словно сам удивляясь невозможности стояния на горохе.
Катерина Семеновна, когда-то замечательная красавица, дама сухая и строгая, отличалась свободною плавностью манер и полновластной осанистостью. Иван Петрович, сияющий, как солнце, в кругу своих друзей — Карамзина, Дмитриева, Радищева, Новикова, Лопухина Фонвизина, — угасал при малейшем выражении недовольства своевластной супруги. И в Москве и в деревнях он пытался всячески облегчить участь крепостных, попавших под тяжелую руку Катерины Семеновны, но делал это тайком, с боязливостью, не внушавшей никаких надежд его невольным подзащитным. Для крестьян Иван Петрович был просто приживальщиком и нахлебником, не смевшим перечить истинной хозяйке — Катерине Семеновне. Хуже всего было то, что мысли о заграничном воспитании детей были взлелеяны самим Иваном Петровичем и он знал, что рано или поздно придет время для серьезного разговора об осуществлении этого воспитательного плана.
Гнев императрицы Екатерины обрушился как снег на голову и был истинной катастрофой. В Европе закачались троны. Герцог Брауншвейгский приглашал государей к походу на Париж и к сожжению мятежного города. «Вольтерьянские цветочки» превратились в «красные ягодки» французской революции. И многим приходилось расплачиваться за увлечение Вольтером. Плохо пришлось и самой Екатерине. Вольтер был ее корреспондентом. В глазах царицы и крепостного дворянства именно Вольтер и авторы Энциклопедии были отцами революции. Катерина Семеновна с негодованием видела в словах Ивана Петровича зародыши мятежа в ее собственном семействе, а спокойный и благодушный член общества вольных каменщиков, масон Иван Петрович Тургенев, отставной полковник Ярославского пехотного полка, конечно, ни о какой революции не думал. Страшился он ее так же, как и другие дворяне. Масонское стремление к нравственному совершенствованию казалось ему необходимой помощью христианской религии, и ни о каком переустройстве не только мира, но и своей усадьбы Иван Петрович не думал. Одного он хотел добиться, это — чтобы Катерина Семеновна запретила побои и отменила телесные наказания. В Москве это ему удалось, в деревне опальный масон почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Что можно было сделать? Детям внушить отвращение к рабству. Делать это надо исподволь, не тревожа Катерины Семеновны педагогическими домыслами, благо она сама науками мало интересовалась, предоставив это дело целиком Ивану Петровичу. Он все-таки пытался слабо возражать, но Катерина Семеновна решила нанести главный удар.
— Хорошо ли старику говорить неправду? Я еще в Москве тебя спрашивала о причине царского гнева — ты все от меня укрыл. Ну, так знай же, что мне доподлинно все ваше безумство известно. Пожалел бы семью, старик!
Глава вторая
То, что было предметом двухлетнего молчания между супругами, внезапно стало темой неприятного разговора. Приятель Ивана Петровича Тургенева, Александр Николаевич Радищев, пропутешествовал из Петербурга в Москву, побывал в сотый раз у Тургеневых, потом приехал к себеи описал свое путешествие. Да даже не одно путешествие. Чего тут только не было! Тут была и ненависть к царям, и оправдание крестьянских восстаний против помещиков. В этой книжке Радищев выступал как пламенный республиканец. Он призывал к разрушению царской России, к ниспровержению огромной империи, из развалин которой должны, как малые светила, возникнуть свободно соединившиеся в большой союз вольные республики.
Из недр развалины огромнойСреди огней, кровавых рек,Средь глада, зверства, язвы темной,Что лютый дух властей возжег, —Возникнут малые светила.Незыблемы свои кормилаУкрасят дружества венцом,На пользу всех ладью направятИ волка хищного задавят,Что чтил слепец своим отцом.
Итак, слепой народ, по слепоте своей, самодержавного волка считал своим отцом. Но, проснувшись и прозрев, он неминуемо этого волка задавит. Так писал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву».
Как могла появиться такая книга при царице Екатерине II? Для многих потом это было непонятно. Для Катерины Семеновны непонятно было, как с этаким человеком мог дружить Иван Петрович. Правда, книги она тогда не видала. О Радищеве слышала очень коротко и смутно, знала, что он арестован.
А происходило это вот как. Императрица любила поиграть с огнем. Вступила она на престол, прикончив своего слабоумного мужа, в надежде, что из незнатной немецкой принцессы воля истории превратит ее в либеральную царицу азиатской страны. То, что едва успела она прочесть в библиотеке своего отца, немецкого генерала, довольно сильно вскружило ей голову. Приехав в Россию в качестве супруги Петра III, больше всего любившего потехи с деревянными солдатиками на огромном столе и расстрелы горохом крыс, повешенных за лапки, Екатерина Ангальт-Цербтская почувствовала некоторое головокружение от обилия власти и применения личных способностей. Сбить с престола своего супруга было делом легким. Чем дальше, тем больше убеждалась принцесса, ставшая императрицей, что управлять страною неученых дворян тоже чрезвычайно легкая и забавная штука. Но хотелось прославиться. На Западе не было крепостного права, не было холопства. И вот она затевает переписку с философами, Вольтером и Дидро. Дидро приезжает в Петербург, осматривает все диковинки екатерининских построек и говорит, что уж очень велико несоответствие между счастьем одного человека и несчастьями миллионов. Екатерина созывает своих дворян, пишет им наказ для составления проекта нового государственного уложения. Небывалый случай в Европе: в варварской стране, построенной по образцу древних восточных деспотий, императрица созывает депутатов для того, чтобы после многих веков молчания населения услышать какой-то его голос. Екатерининский наказ печатается на многих языках и, как это ни странно, царский наказ, пришедший из России, получает полное запрещение и сожжение в странах Западной Европы.
В 1766 году двенадцать молодых дворян отправляют в Лейпциг учиться для того, чтобы впоследствии сделать из них усердных и знающих чиновников царской России. Среди них — приятель Ивана Петровича, молодой Саша Радищев. Двенадцать молодых дворян едут в сопровождении фельдфебеля Бокума, который смотрел на своих питомцев, как на клетку путешествующего зоологического сада. Он сажал их в карцер, лишал обедов, заставлял голодать по суткам и по двое. Однако он не мог влезть к ним в головы и не мог остановить течения свободолюбивых мыслей своих воспитанников. Однажды, применив к молодому Александру Радищеву способ физического воздействия, он в ответ получил звонкую пощечину и упал на пол. В городе Лейпциге Бокум в ответ на оскорбление потребовал применения к русским ученикам военной силы. Все студенты были арестованы и наказаны как государственные преступники заключением в темных казематах, пока не узнали о всех кражах и жестокостях Бокума и его не сместили. Самая главная наука, которую прошел Саша Радищев, была наука о том, что люди родятся равными, что у них есть естественные, прирожденные и неотъемлемые права, что государство образовалось путем общественного договора вольных людей, которые свою неограниченную свободу, данную от природы, ради общего блага ограничивают законами гражданскими, но лишь до той поры, пока эти установленные людьми гражданские законы не обращаются во зло людям, и тогда граждане имеют право насильством и кровопролитием эти законы низвергнуть. Законы человеческой массы и свобода человеческого общества столь же естественные вещи, как дыхание воздухом или глядение на свет солнца. Два философа были любимым чтением молодого Радищева. Это — Руссо и Мабли. С этими мыслями, с их учением возвращался он в 1771 году в Россию. Он был охвачен безумным и пламенным порывом «всего себя отдать на пользу отечества», он был уверен, что раз их, двенадцать, послали учиться этим наукам, то, значит, несмотря на казематы Бокума (которого все-таки сместили — справедливость восторжествовала!), возложена на них трудная, но почетная задача. Вернулся, снова встретился с сердечными друзьями — Иваном Тургеневым, Лопухиным, Новиковым. Подал им знак посвящения в масонскую ложу, встречен был как брат младшей степени без особых клятв и церемоний, а дальше начались путешествия из Петербурга в Москву.
Через два года любознательная императрица создала «Общество переводчиков», чтобы переводить любопытнейшие сочинения с иностранных языков на русский. Опять приглашен Саша Радищев. Вызвали его, спросили: «Что хочешь переводить?» — «Хочу перевести «Размышления о греческой истории «аббата Мабли». Любимые мысли Радищева — полное равенство людей, передача земли в национальную собственность, одинаковые законы для всех. Не довольствуясь переводом, Радищев дает примечания, в которые вкладывает гораздо больше, чем думал сам автор. Иван Петрович читает и выхваляет: «Хорошо, Саша, правильно пишешь, но как мы с тобой слово „деспотизм“ объясним?» Не спеша очинив гусиное перо, Радищев пишет: «Деспотизм есть самодержавство — наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
… И, откинув перо, берет очередной номер «Ведомостей» и читает газетные объявления:
Продается малосольная осетрина, семь сивых меринов и муж с женою.
А дальше в следующей колонке не менее красноречивое объявление:
Продаю одиннадцати лет девочку и пятнадцати лет парикмахера. Да сверх сего четыре кровати, перины и прочий домашний скарб.
— Каковы объявленьица! — восклицает Радищев, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу.
В эту минуту вошел Лопухин и сказал:
— Товарищ, и ты, брат, в стране нашей неблагополучно, неведомый поднялся за Волгой и возмутил вихрем вольности столетия дремавших рабов.
То были первые вести о страшной, кровавой грозе пугачевской. Радищев и Тургенев встали.
— В стране, где две трети населения в законе мертвы, разразится гроза опасности и гибели. Ждут случая и часа, колокол ударит, и пагуба зверства разольется быстротечно. Что ты хочешь, Лопухин, смерть и пожигание будет ответом на нашу суровость и бесчеловечье.
С этого дня начались тревоги и волнения. Под именем Петра III, убитого мужа императрицы, поднялся старый, вековечный самозванец русский и пошел жечь города и села, протянув кровавую руку призрака к императорской короне. Вольтер и Дидро посмеивались тихо. Нахмуренная царица, выходя утром из опочивальни, приказала Вольтерову статую выбросить в подвал. Потом, позвавши Анну Степановну Протасову, спросила:
— Ну, что, каков?
— Не годится, матушка, второй ночи не выдержал.
— Отправь его тогда на съезжую.
Разговор короткий, но многозначительный. Анна Степановна — крепкая и свирепая женщина — по приказу царицы всегда брала на трехночное испытание намеченных императрицей людей, прежде чем допустить их к царской опочивальне в китайском шлафоре и с книжечкой в руках, якобы для чтения у благочестивейшего царского ложа.
Эта неудача с избранником огорчала императрицу не меньше, чем слух о взятии Казани Пугачевым.
«Что это за несчастье! — думала она по-немецки. — В один день две неприятные вести. Одно дело — красиво сказать, а другое дело — затеять мятеж. Никто не может сказать, какой ад живет в душе русского мужика».
Императрица стояла в Мельбрунском павильоне; перед окнами кипела, покрываясь белыми барашками, широкая Нева. Золотой тончайший шпиль Петропавловской крепости купался в ясном, светло-синем воздухе. Мягкий свет тысячею брызг дробился в хрустальных подвесках тридцати тысяч граненых хрусталинок на люстрах Мельбрунского павильона. Белые стены, белые мраморы пола, белые раковины под фонтанами, ручейками нежно журчащей воды, — все купалось в том же воздухе двусветного павильона. Ажурные мраморы перил легко взлетали на верхнюю галерею, зеленые мирты, штамбовые розы и шары лавровых деревьев смотрели на мраморах, словно поздняя зелень на раннем снегу. Под роскошным стеклянным балдахином огромный золотой павлин с часами князя Потемкина-Таврического махал крыльями и выкрикивал полдень. Пушка на крепости стрельнула точно, правильно. Механизм государства идет безошибочно. А вот Казань взята, и фаворит оказался непригоден. А какой широкоплечий, красивый и стройный! Что же это за напасть такая — Протасихи не выдержал! Что же это за напасть такая — умерший в Ропше супруг вдруг ожил и двинулся с войском на Москву. Императрица была очень недовольна. Перекусихина Мария Саввишна и камердинер, Захар Константиныч, по нечаянности вместе вошли в Мельбрунский павильон. Оба, причастные к ночным бдениям царицы, не имели других намерений, как отремонтировать закусочный столик, застрявший по дороге и не ушедший под пол. (А полагалось, чтобы прислуга по ночам не входила в Мельбрунский павильон. Все подавалось механизмами из-под полу.) Императрица разгневалась нечаянным посещением. Звонкая пощечина Перекусихиной обратила в бегство также и ее сотоварища.
— Не смей неделю в Эрмитаж показываться, паскудница! — закричала царица.
Политическая катастрофа охладила эту женщину к ночным приключениям, но потом начались успехи. Неорганизованные пугачевские массы таяли в заволжских степях. Вместе с жестокостью, проявленной к помещикам, появилась крестьянская холопливая угодливость, спасавшая господ и выдававшая пугачевцев. Шли с именем «законного» царя против «незаконной» царицы. А императрица, почитавшая себя законной государыней, разбивала беспорядочные группы повстанцев и овладевала важнейшими местами их сборов. Вместе с тем какая-то счастливая истома овладевала молодой царицей. Любовные удачи ее были неисчислимы. Молодой называла она себя не только сама, но и те, кого в китайском шлафоре приводил Захар Константиныч к опочивальне царской. Месяцы проходили, и портной не успевал пошивать золоченые флигель-адъютантские мундиры, шляпы с плюмажем и брильянтовым аграфом едва успевали отвалять искусные шляпники. Каждое утро Захар Константиныч являлся в новые покои нового фаворита, поднося ему флигель-адъютантский мундир и шляпу с брильянтовой застежкой. Так прошли годы.
Глава третья
Наступил 1790 год. Обстоятельства во Франции были раздражающие. Пришла весть, что парижские горожане гурьбой пошли на старинную Бастилию — мрачную крепость в середине Парижа, в которой издавна томились политические заключенные, мечтавшие о республике и свободе. С оружием в руках овладев крепостными валами, потребовав спуска крепостного моста, они ворвались втюремные камеры в надежде освободить заключенных. К тому дню их всего оказалось два человека, но тюрьма внушала так много ненависти, что парижане решили ее разрушить. Оказалось, что в самый трудный момент осады Бастилии двое молодых людей с фузеями и байонетами [С ружьями и штыками. — Примеч. автора] кинулись в перестрелку. Русская императрица гневалась, так как эти двое оказались князьями Голицыными. Гнев ее был безграничен, когда, в размышлениях о голицынской измене, она взяла книжечку, забытую лектором-любовником на мраморном столике опочивальни. Книжечка в ярко-зеленом сафьяновом переплете, тисненная золотом, называлась «Путешествие из Петербурга вМоскву». Захар Константиныч не позаботился узнать, что за книжка, просто вложил в руки фавориту самую последнюю книжную новинку безыменного автора, новинку, посвященную вопросу о простых вояжах, так как императрица «зело любила путешествия». Ночью было не до чтения, а утром, когда Перекусихина осторожненько, за ручку, вывела фаворита, книжка оказалась на мраморном столике, неподалеку от царского ложа. В размышлении о суетности своих успехов и о превратности судьбы французов, Екатерина взяла в руки эту книжечку. С вечера было у нее плохое настроение. Петербургские дворяне без всякого стыда и совести иллюминовали свои дворцы и пускали фейерверки «поповоду взятия Бастилии и падения тиранства». Пора переменить политику. Но вот, читая строчка за строчкой красиво описанный сон Радищева, она скидывает одеяло и в сорочке, почти упавшей с плеча, встает гневная и яростная. Писателю представилось, что он «царь, шах, король, бей, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле». К престолу подходит женщина-истина. Подошед к царю, сняла с глаз его толстую пелену и заявила, что доселе ей не приходилось бывать в царских чертогах. «Ведай, — говорит истина царю, — ты первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если запустеет мир».
— Да ведь это оскорбление величества! — восклицает, читая, Екатерина и читает дальше:
— «Военачальники, посланные на завоевания, утопают в роскоши. Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И казна, отпускавшаяся солдатам, прилипает к рукам начальства. Флот, отправленный против неприятеля, бездействует, а начальник его нежится на мягкой постели с любовницей. Народ называет верховную власть обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом».
Голубые глаза царицы загорелись яростью, дыхание стало затрудненным, нижняя губа отвалилась, румянец, покрывавший щеки после горячей ночи, вдруг сменился смертельной бледностью. Тридцать страниц прочитала — и никакой пощады. Швыряет книгу на пол, дергает сонетку с таким гневом, что шнур обрывается. Сонетка, как разбитая склянка, звучит коротко и падает на пол с жалким звуком. Календарь показывает 26 июля. Испуганный Захар, не умея скрыть выражение ужаса на лице, показывается из-за портьеры.
— Прикажи Храповицкого, — сдавленным голосом говорит царица.
Секретарь царицы пришел в сильном волнении. Царица не могла говорить. Слезы бегут у ней из глаз. Из непонятных слов царицы Храповицкий понял, что нужно послать за обер-полицмейстером. Обер-полицмейстер Никита Рылеев и Храповицкий, трясясь всем корпусом, вошли в опочивальню царицы.
— Ты что же, беззубый хам, делаешь, ежели даешь разрешение на такие книги?! Кто сочинитель оной? — спросила Екатерина.
— Думаю, что не иначе, как Радищев…
И прежде чем Никита Рылеев и Храповицкий успели опомниться, она приказала разобрать это дело кнутобойце Шешковскому.
Шешковский был фигура страшная. Ему истинное наслаждение доставляло зрелище человеческих страданий. Но сердце его смягчалось всякий раз, когда родственники человека, попавшего к нему в лапы, помахивали перед его носом замшевым мешочком со звенящими червонцами. Шешковский был самым крупным взяточником из всех воров и расхитителей, окружавших престол Екатерины. Однако Шешковский запротестовал.
— Радищева я знаю, он всегда мимо Экспедиции (так называлась тайная полиция Екатерины) проходил без отягощения. Это не он, — говорил Шешковский.
Дело в том, что Радищев не принадлежал к числу тех людей, которые могли бы дать доход Шешковскому. Шешковский метил выше, он хотел замести в это дело молодого красавца, парижанина Строганова — приятеля известной якобинки Теруань де Мерикур, революционной амазонки, скакавшей по правому берегу Сены во фригийском колпаке и с обнаженной левой грудью.
Но улики оказались слишком явными. Арестован был Мейснер, носивший в цензуру книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Арестован был Зотов — книгопродавец и сафьянный переплетчик. Оба они показали, что книга была напечатана в домашней типографии Александра Радищева. Делать было нечего, пожива была плохая, оставалось только одно– натешиться вдосталь страданиями безденежного дворянина. Деревянные колышки под ногти можно былозапускать на четверть вершка, ежели в чем запрется. Все равно денег от этого Радищева не получишь. За правильные показания Зотова и Мейснера можно было освободить. Освобожденные явились к семьям своим, порадовались, что дешево отделались и спаслись, а поутру Зотов вышел до ближайшей чайной за кипятком и исчез бесследно. Мейснера супруга его Амалия Федоровна нашла поутру в постели холодным. Колпак свисал на нос, слезинка застыла на левом глазе, руки скрючились и закоченели, так что даже при положении в гроб невозможно было сложить крестного знамения из пальцев.
Александр Николаевич Радищев, узнавши, что справлялся о нем Шешковский, два часа не мог прийти в себя. Сознание к нему не возвращалось. Пробовал писать — выходили каракули. Бежать невозможно. Набрался мужества, решил потребовать свидания с императрицей, чтобы ей доказать свою правоту. Но опять помутнело сознание, прилег на диване, а проснулся в камере Шешковского. По первой просьбе увидеть царицу был сбит с ног ударом кулака в лицо. Грязным ручником повязал нос и разбитую челюсть. Отвечать отказался. Собственноручной пометкой Екатерина говорила: «Вход не имеет в чертоги, родился с необузданной амбицией, готовился к высшим степеням, но до них не дошед, желчь с нетерпения разлилась у него». Шешковский прямо тычет в глаза Радищеву книгу, где собственной рукой было написано: «Скажи сочинителю, что читала я его книгу от доски до доски и, прочтя, усомнилась, не сделана ли ему какая обида».
— Что скажешь? — спросил Шешковский.
— Скажу, что первейшая мне обида сделана, как человеку и гражданину, рабским состоянием страны Российской, чего ни в одной стране нет и к чему человек не рожден.
После этих слов тяжелый кнут сбил парик Радищева, и снова погрузился он в тяжкое, бессознательное состояние. Сильный запах нашатыря привел его в себя. Разъяренный Шешковский потирал правую руку, словно после большого ушиба, и говорил:
— Мне с тобою, смерд, разглаголать нечего. Царская воля мне известна. Признаешь ли книгу своею?
— Признаю, — ответил Радищев.
— Сколько штук ты пустил в продажу через Зотова?
— Восемьдесят, — ответил Радищев.
— Сколько напечатал?
— Шестьсот пятьдесят, — ответил Радищев.
— Где остальные?
— Пожег.
— А где рукописание твое?
— Пожег, — ответил Радищев.
— Укрыться хотел, крамольник, — заорал Шешковский. — Царицу оскорбил, а потом концы в воду. Это ты писал? — и подставил к самым глазам Радищева лист синей картузной бумаги, на котором были написаны полные строфы, частично вошедшие в «Путешествие», радищевской песни о вольности. — Ты писал?
— Я, — ответил Радищев хрипло и снова от головокружения и боли потерял сознание.
Когда он проснулся, то вместо Шешковского сидел неизвестный ему человек. На листе было написано канцелярской скорописью:
«Я, подписавшийся ниже, коллежский советник и бывший ордена святого Владимира кавалер, Александр Радищев, оказавшись в преступлении противу присяги должности и подданства, ныне обязуюсь яко государственную тайну хранити ныне учиненный мне допрос и ни о чем мною испытанном никому николи ни словом не обмолвиться, храня сие как государственную тайну под угрозою потери головы чрез отсечение».
Радищев машинально подписал, после чего надели на него кандалы и служительский тюремный тулуп, вывели и посадили в кибитку. Через два с половиной месяца тяжелых мучений проснулся Радищев в далекой Сибири, к северу от Иркутска, на поселении.
* * *
Катерина Семеновна, уставившись на мужа, пытала его:
— Что ж? О Радищеве неверно я рассказываю?
Рассказ ее был, конечно, неверен, но, казалось, злоба оскорбленной царицы нашла себе отклик в голове хозяйки крепостной вотчины: симбирская помещица негодовала не меньше, нежели российская императрица.
— Да тебе-то что до Радищева, матушка? Я же ведь к этой истории не причастен.
Звонкая пощечина была на это ответом. Иван Петрович вздрогнул и медленно опустился на старое потертое кресло.
Он был, конечно, прав. В деле ссылки Радищева имя Тургенева не фигурировало. Но Катерина Семеновна, как мастерской следователь, осуществила только первую часть допроса. Ей важно было узнать, не растеряется ли Иван Петрович, видя ее чрезвычайную осведомленность. Существо дела по обвинению она решила изложить во второй части своего допроса и таким образом отыграться за двухлетний силанум супруга. Силанум — это приказ о молчании, объявляемый периодически в тайных масонских обществах, когда все члены секретного братства обязуются многие месяцы, а иногда и годы, хранить полное молчание и не узнавать друг друга при встрече.
Не давши опомниться Ивану Петровичу, она продолжала уже на деревенской воле, зная, что никто из друзей не прервет беседы, свой допрос с пристрастием.
— Ты бы отца Илию, приходского батюшку, пригласил да вымолил бы у святых угодников прощение твоей проклятой ереси. Ты уже годов восемь в церковь не ходил, а причина сего мне теперь известна. Видишь ли, православный обряд отрицаешь и молитвой внутренней занимаешься. Так знай же, Иван Петрович, что из Симбирска ты ни в какой Орел не поедешь на собрания твоих масонов.
Иван Петрович молчал.
Он очень хорошо помнил выезды в Орел с Николаем Ивановичем Новиковым. Ехали на долгих из Москвы до самого Орла. Новиков был разговорчив и радостен, так как, помимо московской университетской типографии, которую он арендовал, открыл он у себя в подмосковной деревенскую типографию, в которой начал печатать многие «человечеству полезные» книги.
— Ценсировать я их не посылаю, ибо книги сии печатаны токмо для своих братьев и в продажу не поступают.
На откидной скамейке, против Тургенева и Новикова, сидел молодой архитектор Баженов, бывший братом четвертой степени той же масонской ложи. Баженов дремал, голова, склоненная на левое плечо, дышала необычайной легкостью, профиль, нежный и мужественный, хранил черты старинного итальянского типа — не то венецианский кондотьер, не то рафаэлевский ангел. А в этой голове, под густыми каштановыми кудрями, носились удивительные картины зданий, еще не существующих, но таких реальных, как будто художник видел их в незнакомом городе в чужих краях. Творческая легкость Баженова была совершенно необычайной. На месте старой развалины, в Москве, на углу Моховой улицы, там, где заступ землекопа выкидывал на свет божий черепа, пробитые круглым отверстием всегда в одном и том же месте (старинный застенок царя Ивана IV Грозного), Баженов построил для отставного поручика Пашкова новый дом: оранжевый, с белыми колоннами, с бельведером, на котором воздвиг статую Минервы, с фонтанами, прудом и огромными фонарями на столбах, узор на металлической изгороди. Баженов три недели ходил к церкви Николы Стрелецкогослушать говор восхищенных москвичей, приезжавших со всех концов столицы смотреть на эту генуэзскую сказку, воздвигнутую на Моховой улице.
В этом самом Пашковом дворце князь Прозоровской рассказал князю Репнину о том, что им получен приказ арестовать Николая Новикова и разгромить московских мартинистов. Тайные общества ненавистны стали императрице, тем более тайные общества, главари которых находятся за пределами империи. Во Франции ярится Конвент. Головы падают на эшафоте, благородные дворянские головы. Доктор Гильотэн, как истинное исчадие ада, разыскав миланские чертежи рубильной машины, заказал парижским слесарям и столярам такую же машину для рубки человеческих голов. Дух мятежа и вольнолюбия черни распространился по Европе. А тут эти ученики Сен-Мартена — французского свободолюбца — мартинисты, собираются на тайные собрания и затевают заговоры и козни. В те дни, когда сугубо нужно оберегать границы сословий, они собираются вместе со своими рабами, коих называют братьями, целуются с ними, поют совместные песни.
«Пригоже ли дворянину драть глотку вместе с холопом?» — спрашивает Прозоровской у Репнина.
— Так ты, батюшка Иван Петрович, думаешь, что пригоже? — спрашивает Катерина Семеновна, продолжая допрос супруга.
Иван Петрович молчит.
— Молчишь, помещик Тургенев, молчишь, ссыльный дворянин? — кричит Катерина Семеновна, наступая.
Иван Петрович, приосаниваясь и разглаживая бороду, в негодовании трясет головой.
«Не драться же мне с супругою, — думает он. — Уж терпеть так терпеть». И, приосанившись, решил испить чашу до дна.
Катерина Семеновна видит, что перед ней каменная стена. Кричит о том, что он-де Иван Петрович, которому поручено благородное дело воспитания юношества, он — директор Московского университета — развратил целое поколение учащихся чтением богопротивных, вольнодумных книг, которые печатал он в деревенской типографии вместе с Новиковым секретно.
— Как тебе не стыдно! Мне все теперь известно. Ежели Новикова сослали, в Шлиссельбург посадили — туда ему и дорога, но ежели тебя Шешковский пожалел и после допроса отпустил, то уж в этом, батюшка, особое божье милосердие и милость императрицы, тобою не заслуженная. А потому потрудись, батюшка, в хозяйство носу не совать и крепостных холопей мне не портить. Здесь тебе не Орел и не Москва, я тебе не Новиков и не Баженов.
Вошел Тоблер с плачущим Колей Тургеневым. Трехлетний мальчик с нахмуренными бровями и красным личиком тщетно старался удержаться от стонов.
— Каждый раз как из кроватки ступает левой ножкой, он падает и ушибается, — сказал по-немецки Тоблер.
— И сын-то у тебя коротконогий, в год французского восстания родился. За грехи отца левая нога короче правой, — сказала Катерина Семеновна.
Звонким голосом крича и напевая, влетел в комнату Александр Тургенев. Увидя плачущего братишку, остановился.
— Ты зачем? — строго крикнула на него мать и, взявши за ухо, долго мяла это ухо в руке.
Красный, молчаливый, надутый, Александр выскочил из комнаты.
Иван Петрович гладил головку белокурого, кудрявого плачущего ребенка.
— Ну, хроменький, ну поди ко мне на ручки, — говорил он Николаю.
Бурмистр вошел с докладом. Катерина Семеновна сделала знак рукою, и все удалились.
Как величавая Минерва, воссела она на кресло. Бурмистр с клоками синей бумаги, на которой корявым почерком были сделаны хозяйственные записи, подобострастно глядя на Катерину Семеновну, ждал барского приказа. Катерина Семеновна «были гневны», и ноги у бурмистра дрожали, коленки тряслись, и так хотелось бухнуть в ноги, как перед иконой Владимирской божьей матери в местной церкви.
Тяжелая и трудная житейская обстановка Тургеневки давала себя знать и в Киндяковке по соседству. Крестьяне стонали. Иван Петрович трепетал. Дети боялись грозной матушки. Но тайком возникали ребячьи союзы, вольные и беспечные, насколько это было можно. Силки и тенета, расставленные в тенистых и огромных симбирских садах, фантастичных по запущенности и плодоносных как сады Шехерезады, приносили ежедневно разнообразных и пестрых птиц. Попадались иволги и длиннохвостые синицы, дубоносы и микроскопические птицы, вроде крапивчиков, населявшие кустарники, свисавшие в самые воды Волги. Когда Тоблер вел с Андреем сосредоточенные и серьезные беседы, в это время Александр и Сергей Тургеневы, вместе с Васей-крепостным, подкрадывались тихонько к зарослям и крепям в трепетном ожидании, что вот судьба подарит им нового пленного певца. На черном дворе была голубятня. В ясные дни Иван Петрович садился в кресло, перед которым ставили огромный, двухсаженный, серебряный таз и наливали его водою. Безумные турманы, коричневые, жесткоперые бухарцы и нежные египетские голуби поднимали свой спиральный полет к самому синему небу. Не поднимая головы, Иван Петрович наблюдал, как отражается их полет в прозрачной воде серебряного газа. Но у маленьких Тургеневых была своя забава. Вася отгородил часть деревенской клети, получилась целая комната, населенная всевозможной дикой птицей.
Глава четвертая
Прошло два года. Голубоглазый и не в меру задумчивый мальчик Коля Тургенев начал учиться. Старшие братья относились к нему с некоторой нежностью и снисхождением. Все могли резво бегать и веселиться, а Николай не мог — одна нога была короче другой.
Однажды, очень рано утром, Тоблер, умываясь, заметил, что кроватка Коли Тургенева пуста. Немец не нашел своего питомца нигде в доступных в утренние часы комнатах Тургеневки. Он вышел на крыльцо, надеясь встретить Николая в цветнике, но и там его не нашел. Мальчик вернулся только к утреннему чаю, хмурый, и отказывался отвечать на вопросы. Глаза, голубые и холодные, говорили, что этот маленький человек думает гораздо больше, чем говорит.
После занятий обнаружилось, что у Васи птичник сломан и все пленные птицы, пойманные братьями Тургеневыми и Васей, улетели. Огорчению не было пределов. Искали преступника и решили, что это Петька-черемис созорничал из зависти к Василию, допущенному к барскому дому. Как только было высказано это предположение, так было прервано молчание маленького Николая.
— Я выпустил птиц, — сказал он громко.
Александр надул губы, Вася заплакал. Наступило неловкое молчание.
— Я не хочу, чтобы птицы сидели в клетках, — заявил Николай твердо.
— А мы хотим, — сказали братья, — и будем ловить.
— А я буду выпускать, — заявил Николай.
— Придется сказать отцу, — заявил Андрей.
Перед самым обедом маленький Николай был вызван к Ивану Петровичу.
Объяснение было очень короткое.
— В клетках тесно и грязно, — сказал Коля, — а кроме того, там полет «невозможен».
Тоблер восхитился, слушая, как мальчик отчетливо произнес слово «unmoglich» [Невозможно (нем.)].
— Колька прав, — сказал Иван Петрович. — Прекратить мучить птиц!
Оставалась еще одна инстанция, но об ней никто не подумал. Это была Катерина Семеновна.
Петька-черемис ликовал. Один раз только пытался он устроить клетку для птиц и был за то нещадно избит своим отцом. А тут Ваське такая воля!
Через несколько дней наступило внезапное огорчение у других Тургеневых. Катерина Семеновна проиграла в преферанс соседнему помещику Дудареву одного подростка. Выбор Дударева пал на Васю. Карточные долги — дело чести, здесь никаких не может быть колебаний. На этот раз Александр Тургенев, с глазами, широко открытыми от ужаса, вбежал к матери и, зная, на что идет, все-таки закричал:
— Матушка, не продавайте Васю. Вася такой же человек, как и твои сыновья.
Катерина Семеновна кормила борзую, держа наготове свернутый кольцом арапник. Развернувшись, этот арапник лег во всю спину на Александра Тургенева. Глаза Катерины Семеновны горели, как голубые льдинки. Она не говорила ни слова, но вся была полна яростью от сознания того, до какой степени несчастное и скудоумное поколение, воспитанное развратными масонами, может забыть о долге дворянской чести. Еще было у нее огорчение: княгиня Щербатова прислала письмо с оказией и сообщила, что во Франции революционная чернь казнила короля и королеву.
* * *
Тоблер и четыре мальчика выехали на берег Волги, взяли с собой завтраки, самовар и чашки, большие удочки, дворового человека Федора, по выражению Катерины Семеновны, «весь домашний скарб». На берегу рыбацкие выселки. Сохнут невода, а на плетнях развешаны верши. Около самого берега топко. На кольях, вбитых в дно, толстые веревки, тонущие в воде. К ним привязаны садки, большие, похожие на дощаники деревянные ящики, просверленные и пропиленные узкими отверстиями для свободного обмена воды. Чумазые ребятишки бегают по улицам, вернее — по грязному, покрытому лужами проходу между двумя рядами курных изб. Старый рыбак, позевывая и глядя на солнце, чинит сеть. При проезде барской коляски встал и почтительно поклонился. На берегу Волги, около песчаных отмелей, где посвистывают сотни куличков и со стоном поднимаются пестрые пигалицы с хохолками, Тургеневы остановились.
— Если бы так на лодке до Астрахани, — сказал Александр Тургенев.
— Ну и что же — вода да вода, — благоразумно заметил Андрей.
— Перед Колумбом тоже была одна вода, однако открыл новые страны, — заметил Александр Тургенев.
— Никаких новых стран на Волге не откроешь, все уже открыто, — сказал Андрей.
— А может быть? — возразил Александр. — Может быть, еще не все. Каспийское море велико, персы географию плохо знают.
— Тебя всегда тянет из дому, сказал Николай Александру. — А вот я бы так не уехал из Тургеневки.
Татарские ребятишки, по просьбе Тоблера, натаскали хворосту. Зажгли костер, стали готовить чай. Справляли пятнадцатилетие Андрея Тургенева. После официального домашнего праздника разрешен был праздник ребячий. Редкий случай, когда с одним только Тоблером, без родительского глаза, разрешали отлучиться далеко. После таких поездок не обращали внимания на запачканный костюм, на грязные руки, на взъерошенные волосы и громкий голос.
На Волге было широко и привольно. Красивая большая река, с обрывистым берегом около Симбирска, здесь текла плавно между низкими берегами. На берегу были мелкие заводи и затоны, богатые всякой птицей. Когда после чая дети побежали в кустарник на голос какого-то пернатого существа, вылетела целая стайка дергачей, а те, что были помоложе, разбежались в разные стороны, забавно вытягивая вперед длинные шейки и на бегу раскачиваясь в обе стороны; как маятник. Птичка, за которой бежали Александр и Николай Тургеневы, перепархивала с куста на куст. Мальчики бежали за ней, то крадучись, то напролом через кусты большими шагами, до тех пор, пока внезапно густые заросли не кончились, и на другой стороне маленькой песчаной косы снова показалась красивая, спокойная Волга. На берегу горел костер. Совсем у кустов лежала на воде длинная узкая беляна. Перед костром сидели двадцать человек в лаптях, измученные, волосатые. Лямки и канаты неподалеку говорили о том, что люди, сидевшие у костра, — бурлаки.
Мальчики подошли поближе и спросили:
— Что вы здесь делаете?
— Беляну тянем, — ответил хриплый голос.
Говоривший посмотрел на Александра Тургенева единственным глазом и вдруг ухмыльнулся.
— А я думал — и не приведет бог свидеться, — заметил он неожиданно.
Александр Тургенев узнал не сразу до такой степени Вася, товарищ его детских игр, изменился за ушедшие четыре года.
— Как ты сюда попал, Вася?
— А так. Был в Москве у господина Дударева. В кузнечных учениках на каретном дворе служил. Вон, видишь, окривел, когда ободья ковал, а теперь в оброке в бурлаках.
— Куда ж ты идешь?
— Вот с нижнего плеса тянем беляну до Кунавина.
— Хочешь, пойдем с нами, Вася?
— Никуда ему, барин, идти нельзя, — прервал сердито старый бурлак. — Эй, ребята, поворачивайся, бери лямки.
— Через полгода, коли живы будем, увидимся, Сашенька, — сказал Вася. — Оброк мой кончается перед тем, как ехать в Москву.
Саша протянул руку, хотел обнять товарища, но тот боязливо отшатнулся и, не оглядываясь, пошел к берегу.
Мальчики медленно возвращались. Александр только теперь заметил, что Николай во все время беседы не проронил ни слова. Тоблер сделал выговор. Андрей и Сережа смотрели хмуро.
— Я не для того отпросил вас у матушки, — сказал Андрей, — чтобы вы гуляли отдельно. Уж вместе так вместе.
Сережа надул губы и повторил: «Уж вместе так вместе».
Александр сначала хотел рассказать о встрече с Васей, но, услышав суровый тон Андрея, решил молчать. Маленький Николай никак не мог выразить словами, почему костер здесь у ног Тоблера и там — костер бурлацкий внушают ему столь разные чувства. Тут хорошие завтраки в чистых салфетках, блюда, разложенные на траве, чайник, подаваемый дворовым человеком. А там — разбитый синий полуштоф и плесневелый хлеб.
Началась непогода. Откуда-то из-за Волги нашли тучи, и, прежде чем мальчики успели сесть в открытую коляску, загрохотал гром и застучали крупные капли дождя. Огромные темно-синие тучи покрыли небо. Холодок вместе с каплями дождя, бегущими за ворот, заставил ребят Тургеневых теснее прижаться друг к другу. Тоблер сидел хмурый, сняв очки, с носу у него падали на оливковый редингот крупные капли дождя.
— Подмокло твое совершеннолетие, — сказал Александр Андрею Тургеневу.
— А все благодаря тому, что ты убегал надолго, — возразил Андрей.
— О чем ты задумался, Коленька? — спросил Тоблер Николая.
— Я думаю о том, как можно тащить беляну в такую погоду, — сказал мальчик.
— Что такое беляна? — спросил Тоблер.
Николай не ответил.
Приехали. Встретили их охами и ахами. Катерина Семеновна, ради совершеннолетия Андрея, выдрала его за уши. Щеки у нее горели, она была очень возбуждена, соседи еще не разъезжались, и пир стоял горой. Мальчики приехали, казалось, несмотря на непогоду, не вовремя: родители были заняты не ими. Вишневки, сливянки и смородиновки вместе со стерляжьей ухой разогрели патриотизм Ивана Петровича. Стоя посреди комнаты, он громко говорил о пользе самодержавия. Катерина Семеновна, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, взволнованно понтировала за круглым зеленым ломберным столом, и в этот день ей не везло. Не играя на деньги из соображений бережливости, она играла на крестьян и проиграла шестьдесят душ. Иван Петрович этого не знал, был весел и смотрел на супругу подобострастно. Она победила в хозяйстве и в семье, а победителей не судят. Минутами, мигая глазами, он силился понять, что с ним происходит. Симбирские помещики, отставные штаб-ротмистры и дворяне, не чуждающиеся откупщичества, казались ему «дурачьем, верноподданным набитым дурачьем», и временами так и подмывало крикнуть на всю залу Тургеневки так, чтобы задрожала зеленая штофная мебель из карельской березы, что, дескать, «вон идите отсюда, дурачье», что «вы», дескать, «неученые хамы, позорящие дворянское сословие». Но каждый раз, поглядывая на разгоряченные щеки и горящие глаза супруги, Иван Петрович ее волнение о проигрыше приписывал энергии и хозяйственной распорядительности, затихал и старался изобразить перед гостями благополучный и законопослушный круг мыслей своей супруги. Старый гусар Зубакин притоптывал и приплясывал, держа на плешивой голове большой бокал иностранной мальвазии. В минуты случайного прекращения разговоров он поднимал двумя пальцами бокал высоко над головой и кричал: «Здравие императрицы, матери отечества, царицы цариц!»
Гости подхватывали, по анфиладам Тургеневки неслись нестройные крики «ура!», тонные гости из города Симбирска начинали напевать английский гимн «Бог да хранит короля!», ходивший в то время в качестве благонамеренной патриотической песни.
На мезонине четверо ребят Тургеневых переодевались и пили чай с малиной, чтобы не простудиться. Тоблер, омраченный и сердитый, помогал своему любимцу Николаю, не прекращая с ним разговора.
— Aber warum sind Sie traurig, Kola? [Но почему вы так печальны, Коля? (нем.)]
— Скажите, дорогой учитель, кто переодевает бурлаков, которые тянут беляну?
— Но, мой мальчик, я второй раз спрашиваю вас, что такое беляна?
Николай объяснил, равно как и объяснил все свои мысли и чувства по поводу встречи с окривевшим товарищем детских игр.
Тоблер, длинный, сухопарый, подняв брови, смотрел на Николая молча, потом, после длинной тирады своего питомца, произнес полушепотом по-немецки:
— Ты недаром сын своего отца, но знай, мальчик, что наступит такое время, когда не будет ни рабов, ни господ и когда один человек перестанет угнетать другого.
— Как сделать, чтобы это время наступило поскорее? Увижу ли я это время? — спросил Николай.
— Не знаю, — сказал Тоблер. — Нужно много знать и многому учиться, чтобы на это ответить.
— Я буду много знать и буду учиться, я хочу это видеть, — сказал Николай Тоблеру.
Глава пятая
Матушка Екатерина, императрица всероссийская, отправившись за нуждой в уборную, вдруг почувствовала себя плохо и, заслонивши грузным своим корпусом дверь, скончалась. Долго искали ее по всему дворцу. Наконец генерал Волховской осмелился открыть дверь. Это было чрезвычайно трудно. Поправивши государыню от зазорного вида, приступили к похоронам.
* * *
Из Гатчины, загнав лошадей, прискакал наследник цесаревич Павел Петрович. Первым делом простил Баженова и Новикова, которые звали его в масонство. За Волгой зима была ранняя в этот год. Снег в 1796 году выпал в самом начале октября, и ударили ранние морозы. По Волге плыло сало. Плакучая ива, заиндевелая и омертвевшая в неподвижных формах, спускала свои ветви в прозрачные осенние воды. Белые, украшенные льдинками, они превращались в зеленые, как только попадали под воду. Из мезонина Тургеневки виднелись побелевшие сады и обширные белые замороженные заволжские степи. Небо было красное, красные тучи, и над ними ослепительное зимнее солнце.
Первым проснулся Николай Тургенев и босыми ножками подбежал, прихрамывая, к окну. Он громко захлопал в ладоши и закричал:
— Виват, виват! Зима наступила. Уже настоящая зима — снег не тает.
Александр, в длинной рубашке до пят, вскочил на этот крик и опрокинул табуретку с сальной свечкой. Толстая книга комедий Гольдони, читанных им на сон грядущий, свалилась на пол. Сергей и Андрей проснулись за ним. Александр, не говоря ни слова и закинув руки под затылок, сладко потягивался, думая о том, что хозяйка гостиницы, выведенная Гольдони, очень похожа на дворовую девушку Марфушу, — должно быть, такая же веселая, так же заливисто хохочущая и показывающая ослепительно белые зубы. Каждый раз, когда проходил мимо Марфуши, Александр испытывал непонятное смущение. Сергей, оглядывая комнату, натопленную, светлую и веселую, глядя на снег, чувствовал понятную только ребятам радость от этого уюта, теплоты, яркого света красных облаков, освещенных ранним солнцем, и бесконечных степей, покрытых снегом и уходящих куда-то далеко, к востоку, за Урал, в сердце непонятной и таинственной Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в древности по зимам неслись на лихих конях дети Чингисхана. Теперь покорные, красивые татарчата едва помнят о своих предках-победителях. Вокруг Тургеневки мир и прекрасная зимняя тишина, совершенно такая же, как в душе Сережи Тургенева. Николай быстро одевался без посторонней помощи. Тоблер, не обращая внимания на детей, лежа в постели, читал какую-то толстую книгу. Ворота заскрипели. Раздался громкий лай дворовых собак, им ответило тявканье борзых.
— Какой сегодня день? — спросил Николай Тургенев.
— Пятнадцатое ноября, — произнес Тоблер, не меняя позы. — Сегодня двойной урок математики и истории.
Заскрипели ворота еще раз.
— Вкатила кибитка, — закричал Николай Тургенев.
Тут все братья подбежали к огромному тройному окну мезонина и стали смотреть, как кибитка на широких полозьях с подрезами заворачивала за угол и в облаках пара лошади остановились у крыльца.
— Военная форма, — произнес Андрей.
Усатый фельдъегерь, шашкой стряхивая снег с валенок и держа в руках с величайшей осторожностью кожаную сумку, входил на крыльцо. Через секунду громкие крики ликованья понеслись подому. Император Павел Петрович требовал возвращения Ивана Тургенева в Москву.
Иван Петрович плакал, как большой ребенок. Он сидел на тяжелом вольтеровском кресле, спрятав голову в подушки. Высочайшая грамота лежала перед ним на столе. Коленка в подштанниках выставилась неуклюже из-под шлафора, и старые плечи Ивана Петровича вздрагивали. Катерина Семеновна осанисто и серьезно, ни на минуту не теряя своего достоинства и спокойствия, распоряжалась угостить фельдъегеря водкой и соленой рыбой.
Быстро молва пронеслась по Киндяковке. Тургеневские и киндяковские мужики и бабы толпились во дворе. В таких случаях вторжение челяди в барские комнаты не считалось дерзостью. Добрые полторы-две сотни народу заполнили двор, крыльцо и прихожую. Катерина Семеновна, поднеся «бодрительную» кружку с мальвазией супругу, вышла в прихожую и, высокомерно подняв голову, произнесла:
— Ну, холопы, государь требует барина в столицу. Пафнутьича слушайтесь, оброк платите исправно, и чтоб жалоб не было!
— Слушаем, матушка барыня, слушаем, Катерина Семеновна! — раздались голоса.
Сборы были короткие. Выехали на зимних дормезах, пересаженных на полозья. Ехать решили на долгих, так как самые лучшие лошади почтовых станций были переброшены на Питерский тракт. На следующий день двинулись в дальний путь. Четверо мальчиков, немец Тоблер и Федор Пучков, дворовый человек, сели в переднюю дормезу, выпивши чаю, помолившись на дорогу и присевши со всей семьей и челядью в большой зале Тургеневки, подальше от печки, на прощание.
Первые дни хорошо спали и вкусно ели. Зимние дороги легки и коротки. Нет ни болот, ни гатей, все закрыто снежным покровом, нет ни оводов, ни проклятой строки, которая нападает на лошадей, покрывая их сплошным покровом отвратительных, копашащихся насекомых. Маленькие окна кибиток заиндевели. Николай Тургенев рукавицей старается отодрать ледяную корку, чтобы видеть окружающие дорогу леса и деревни.
— Что интересного? — говорит Андрей, видя, как кусочки оттаявшего снега сваливаются на медвежью полость под рукой Николая. — Ну, увидишь деревню, только и всего, не мешай лучше спать.
— Нет, я хочу видеть, — говорит Николай. — Деревни разные, а лица одинаковые. Я хочу найти разные лица.
— Какая глупость, — говорит Андрей. — Лица у мужиков разные, а глупость одна.
— Знаете, Андрей, — говорит почтительно Николай, — высамый старший, а говорите вещи совсем необдуманные.
Андрей не спорил, зевнул, задремал снова.
В лесу, на поляне, насторожившись и мягко ступая, легко, почти не вдавливая рыхлый снег и выставив голову вперед, с опущенным хвостом пробиралась лисица. Горностай, почти невидимый на березе, кидался головой вниз и прятался в снегу. Изредка, около деревни, испуганные движением больших экипажей, поднимались из-под одинокой сосны среди поля огромные, как телята, матерые волки. На постоялых дворах отец приходил навещать сыновей. Держа в руках серебряный стакан с медом, распущенным в кипятке, Иван Петрович расспрашивал детей, не устали ли в дороге, помнят ли Москву. Почти никто хорошо не помнил. Хотят ли ехать в Москву? По-видимому, не очень.
— Где будем жить? — спросил Андрей.
— На Моховой, при университете, — ответил Иван Петрович.
По ночам не ездили, хотя Катерина Семеновна торопила и не всегда давала лошадям выстоять. Одно время даже требовала она отправить лошадей в Киндяковку и ехать на перекладных. Но Иван Петрович, приобретя уже в дороге самостоятельность, запротестовал решительно. Встречный курьер с письмом привез ему радостное известие о прощении Радищева. Катерина Семеновна, нарезая индейку за обедом на постоялом дворе, пыталась было вырвать у него из рук письмо. Но, неожиданно для самого себя, Иван Петрович, поднимая письмо высоко в руке, опалил свою супругу таким грозным взглядом, что она остановилась не столько от испуга, сколько от удивления.
— Ты что, батюшка, сумасшедшими глазами на меня смотришь? Знаю, что новая метла чисто метет. А все-таки ты носа не задирай.
— Катерина Семеновна, вы бы хоть при челяди… — начал было Иван Петрович и протянул супруге письмо.
Катерина Семеновна прочла его, осторожно сложила и, возвращая, произнесла:
— Апостол Павел сказал, что жена да боится мужа своего. Я, Иван Петрович, никогда у тебя из повиновения не выходила.
— Что вы, что вы, Катерина Семеновна! — произнес Иван Петрович, поднимая руку. — Я совсем не про то!
— Да и я тоже не про то, — сказала Катерина Семеновна.
К вечеру брали глиняные плошки, наливали их водой, ставили ножками походные кровати в воду. Хорошие кровати, старый офицерский инвентарь Ярославского полка. И все-таки под утро все стонали и охали от огромного количества укусов. Меньше всего страдала Катерина Семеновна.
— Клоп тебя не любит, барыня, — говорил старый дворецкий. — Это ндрав у тебя такой! А вот у барина ндрав мягкий, и клоп его язвит. Вон и Николая Ивановича тоже не трогают — ндравом в матушку идет.
Катерина Семеновна, снисходительно относившаяся к суждениям старика, качала головой и произносила по-французски:
— Характером-то в меня, а вот затеи-то у него отцовские. Готова клятву в этом дать. Оттого и молчит много мальчуган.
К югу от Мурома сломалась хозяйская дормеза. Едва нашли кузнеца. В крутую гору села, за шесть верст от большойдороги, едва втащили проселком тяжелый экипаж. Кузнец возился два дня. Маленькие Тургеневы бродили по деревне, смотрели, как в речке на багор надевают через прорубь рыбу крестьянские мальчики в островерхих шапках и коричневых лохмотьях, когда-то бывших отцовскими армяками. «Непонятный гонор, совсем не русский, — думал Андрей. — Пробовали объясняться — ничего не выходит. Десятки чужих слов, разговор быстрый, окающий, невнятный, словно каши в рот набрали».
Но Тургеневы восхищались сноровкой и ловкостью, с какой мальчуганы занимались рыбной ловлей. Александр пробовал действовать багром, приморозил руки и едва не упустил снасть. Мальчуганы, разговаривая между собою, рассказывали о Рощине, который будто бы залег своей разбойничьей шайкой неподалеку от Мурома. Леса глухие, дороги дальние, ни жилья, ни огонька кругом. Разговоры эти были переданы старшим. Никто не обратил на них внимания, и, к ужасу мальчиков, решили даже выехать ночью, так как поломка заставила задержаться в дороге лишних двое суток.
Ночные леса необычайно красивы при лунном свете. Месяц то прятался за тучи, то ярко освещал огромные пространства.
— Луна восхитительна, — говорил Александр Тургенев.
— А спать чертовски хочется, — говорил Андрей. — Ну ее к… твою луну.
— Андрей, где научились таким словам? — спросил проснувшийся Тоблер.
— Не у вас за пюпитром, дорогой учитель, — ответил Андрей с хохотом.
— Да, я думаю, что не у меня, — сказал Тоблер.
— А вы у кого научились? — спросил Андрей.
— Во всяком случае, не у тебя, — ответил немец.
— Я думаю, — ответил ему в тон Андрей.
Мороз крепчал. Под утро задул ветер. Луна ушла с горизонта. В лесной чаще замелькали, как синие свечки, парные огни волчьих глаз. Ехать становилось жутко, и томительное чувство охватывало путников. В совершенно глухом месте огромная сосна перегородила дорогу. Пришлось остановиться. Лошади храпели и били копытами в снег. Все вышли из экипажа. Дормезы сгрудились, форейтор пошел искать обходной дороги, кучера взяли топоры и тщетно пытались рубить твердую, как сталь, замерзшую древесину. Она звенела, стонала и пела и еле-еле поддавалась топору.
Катерина Семеновна одна не вышла из дормезы. Через Марфушу она выспрашивала, как обстоит дело с дорогой, и Александр Тургенев подробно рассказывал Марфе, в чем состоит затруднение. Марфа скалила зубы, Саша Тургенев смеялся, говоря, что через неделю разрубят дерево и поедут дальше, как вдруг по лесу раздался протяжный свист. Топор выскочил из рук кучера. Все остолбенели. По хрусту ветвей можно было думать, что на дорогу выходит целый полк пехотинцев с обозом.
Десять рослых фигур вышли на дорогу из леса и остановились по другую сторону срубленной сосны.
Тургеневский поезд мгновенно замер. Разговоры и шутки Саши Тургенева прекратились. Форейторы и кучера, прошептав только одно слово: «Рощин», остановились и замолчали.
— Кажись, они самые, — раздался голос с дороги.
Потом наступила пауза, и в темноте трудно было понять, что намереваются делать лесные разбойники.
Иван Петрович пошел по направлению к ним.
— Ой, батюшка, не ходи! — закричал старый дворецкий.
Саша Тургенев думал о сказочных разбойниках. Марфуша взвизгнула и бросилась к барыне в экипаж. Андрей, стиснув зубы, заметил:
— Как жаль, что нас не послушались, а теперь да будет во всем воля божия.