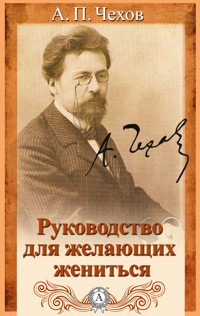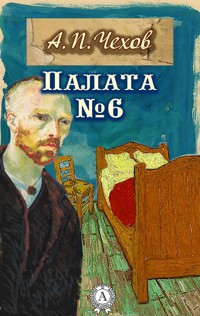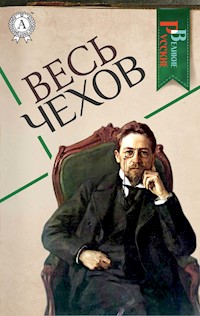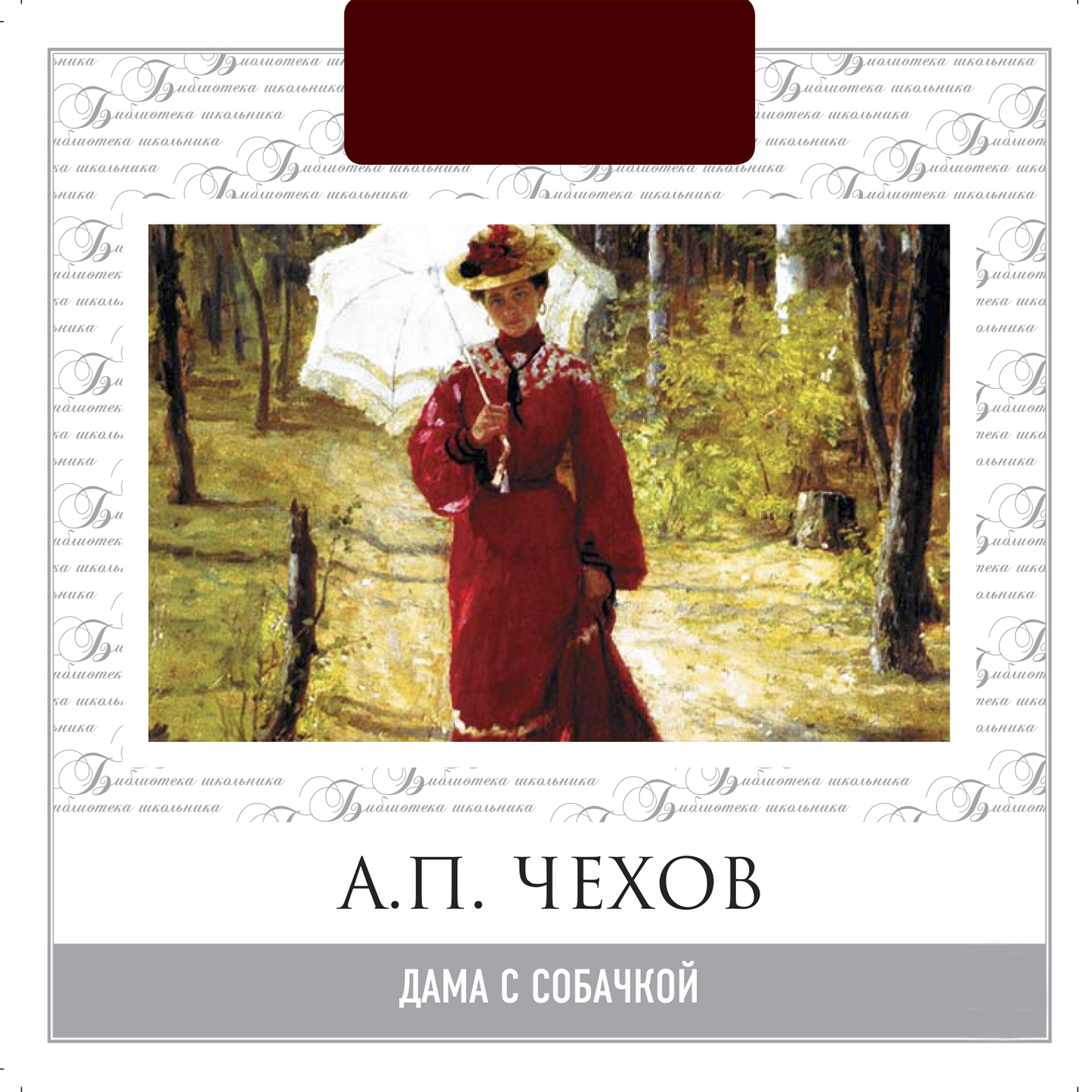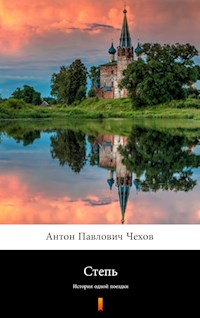Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Время
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Проверено временем
- Sprache: Russisch
Антон Павлович Чехов (1860—1904) — прозаик и драматург, безусловный классик мировой литературы. В этом томе собрана часть наиболее известных рассказов Чехова, представляющих разные периоды его творчества. Блестящий мастер короткой литературной формы, Чехов создал узнаваемый и достоверный мир, в котором, как и в реальной жизни, добру, красоте и любви противостоят пошлость, бездарность и зависть. "Если говорить о литературной моде — Чехов ничей современник, он всем посторонний, и, будучи вполне ясным, был понят не сразу и во многом не понят до сих пор. Однако же, все как-то сразу согласились и убеждены до сих пор, что Чехов — на все времена. Навсегда" (Андрей Дмитриев). При выпуске классических книг нам, издательству "Время", очень хотелось создать действительно современную серию, показать живую связь неувядающей классики и окружающей действительности. Поэтому мы обратились к известным литераторам, ученым, журналистам и деятелям культуры с просьбой написать к выбранным ими книгам сопроводительные статьи — не сухие пояснительные тексты и не шпаргалки к экзаменам, а своего рода объяснения в любви дорогим их сердцам авторам. У кого-то получилось возвышенно и трогательно, у кого-то посуше и поакадемичней, но это всегда искренне и интересно, а иногда — неожиданно и необычно. В любви к творчеству Антона Павловича Чехова признаётся писатель и сценарист, обладатель премии "Русский Букер" Андрей Дмитриев — книгу стоит прочесть уже затем, чтобы сверить своё мнение со статьёй и взглянуть на произведение под другим углом
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Художественное электронное издание
Чехов, А. П.
Скрипка Ротшильда : повести и рассказы / Антон Павлович Чехов ; сопроводит. статья Андрея Дмитриева. — М. : Время, 2017. — (Проверено временем).
ISBN 978-5-0011-2012-4
Антон Павлович Чехов (1860—1904) — прозаик и драматург, безусловный классик мировой литературы. В этом томе собрана часть наиболее известных рассказов Чехова, представляющих разные периоды его творчества. Блестящий мастер короткой литературной формы, Чехов создал узнаваемый и достоверный мир, в котором, как и в реальной жизни, добру, красоте и любви противостоят пошлость, бездарность и зависть. «Если говорить о литературной моде — Чехов ничей современник, он всем посторонний, и, будучи вполне ясным, был понят не сразу и во многом не понят до сих пор. Однако же, все как-то сразу согласились и убеждены до сих пор, что Чехов — на все времена. Навсегда» (Андрей Дмитриев).
При выпуске классических книг нам, издательству «Время», очень хотелось создать действительно современную серию, показать живую связь неувядающей классики и окружающей действительности. Поэтому мы обратились к известным литераторам, ученым, журналистам и деятелям культуры с просьбой написать к выбранным ими книгам сопроводительные статьи — не сухие пояснительные тексты и не шпаргалки к экзаменам, а своего рода объяснения в любви дорогим их сердцам авторам. У кого-то получилось возвышенно и трогательно, у кого-то посуше и поакадемичней, но это всегда искренне и интересно, а иногда — неожиданно и необычно.
В любви к творчеству Антона Павловича Чехова признаётся писатель и сценарист, обладатель премии «Русский Букер» Андрей Дмитриев — книгу стоит прочесть уже затем, чтобы сверить своё мнение со статьёй и взглянуть на произведение под другим углом.
© А. В. Дмитриев, сопроводительная. статья, 2017
© Состав, оформление, «Время», 2017
ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…
— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
ХАМЕЛЕОН
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
— Так ты кусаться, окаянный? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал!
— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…
— Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафую его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная… Чья это собака, спрашиваю?
— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!
— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!
— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандармах… ежели хотите знать…
— Не рассуждать!
— Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше лягавые…
— Ты это верно знаешь?
— Верно, ваше благородие…
— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…
— А может быть, и генеральская… — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видели.
— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.
— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
— Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.
— Это не наша, — продолжал Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господа! А я и не знал! Погостить приехали?
— В гости…
— Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцык этакий…
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.
— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ
Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».
— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!
Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».
— У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка… Вот так… Ну-с, дело вот в чем… Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский… человек, между нами говоря, прелестнейший… Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?
— Это ничего… Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!
— Человек прекраснейший… Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет… В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат… Семейство, могу вас уверить… отец, мать и прочие… люди превосходные, радушные такие, религиозные… Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге…
Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?
— Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду?
— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!
— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю…
— Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и всё! А что насчет приличия, то даже обидно… Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!
— Пожалуй… Как знаешь…
— Так я за вами вечерком заеду… Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть… по-аристократически…
В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.
— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, всё равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много…
Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал… Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками… За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.
— Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андрюша.
Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.
— Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою… Иван Иваныч Ять, служащий на телеграфе… Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба… Федор Яковлевич Наполеонов и… прочие… Садитесь, ваше -ство!
Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.
— Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого… как его… котр… конр…
— Контр-адмирала… Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику… Разница только в ведомствах, суть же — один черт… Одна цена.
— Да, да… — подтвердил Наполеонов. — Это верно…
Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.
— Кушайте, ваше -ство! Извините только, пожалуйста… У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!
— Да-с… — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны… Я человек, который в чинах, и то живу просто…
— Вы давно в отставке, ваше -ство?
— С 1865-го года… В старину все просто было… Но…
Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.
— Вы тово… во флоте, стало быть? — спросил он.
— Точно так, ваше -ство!..
— Ага… Так… Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было… Белотелые всё пошли, пушистые… Впрочем, флотская служба всегда была трудная… Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия… В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что… А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься… Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное… ээ… недоумение… Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой смысл… Хе-хе… Тонкость, что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром… дай бог память… На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом… дай бог память… расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете? — в это самое время! — люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы…
— За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених.
— Да-с, — перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. — Мало ли разных команд… Да вот хоть бы эту взять… дай бог память… брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимааай!!. Хорошо-с… Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы… все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопятся соответственно направлению ветра…
— Дядюшка! — шепнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и… скучно.
— Постой… Я рад, что молодого человека встретил… Молодой человек! Я всегда желал и… желаю… От души желаю! Дай бог… Мне приятно… Да-с… А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай бог память… Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе…
— Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша.
Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:
— В сегодняшний, так сказать, день… Гм… в который мы, собравшись для чествования нашего любимого…
— Да-с… — перебил его адмирал. — И ведь все это надо помнить! Например… дай бог память… бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!
— Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее…
— Вы не понимаете, потому что… термины! Конечно! А молодой человек понимает… Да. Старину с ним вспомнил… А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и…
Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:
— Например… дай бог память… Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!
Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:
— Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня… Пла… плачу… Рад…
— Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!
— Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал.
— Известно какие… Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать…
Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и все понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости… В один миг слетел с него хмель… Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел…
Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.
ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ
У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.
— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он,— лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена…
— Где же он теперь?
— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает… Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.
— Ерунда! Шарлатанство!
— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин.
— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.
— Ну ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?
Генерал сел за стол и взял перо в руки.
— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Васильичу… Васильичу…
— Ну?
— Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Черт… Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…
Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
— Ну что же? Скорей думай!
— Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Такая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло…
— Жеребятников?
— Никак нет. Постойте… Кобылицин… Кобылятников… Кобелев…
— Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
— Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лошаков… Жеребкин… Всё не то!
— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!
— Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…
— Коренников? — спросила генеральша.
— Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!
— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!
Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:
— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылянский…
Немного погодя его позвали к господам.
— Вспомнил? — спросил генерал.
— Никак нет, ваше превосходительство.
— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?
И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию…
Приказчика то и дело требовали в дом.
— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?
— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко… Конченко… Жеребеев… Кобылеев…
— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами…
— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!
Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал… В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.
— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
— Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!
— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная… Это очень даже отлично помню.
— Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!
Утром генерал опять послал за доктором.
— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть…
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны…
— Буланов… Чересседельников… — бормотал он. — Засупонин… Лошадский…
— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой…
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу.— Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!
— Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!
ЗЛОУМЫШЛЕННИК
Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.
— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?
— Чаво?
— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?
— Знамо, было.
— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?
— Чаво?
— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?
— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.
— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…
— Кто это — мы?
— Мы, народ… Климовские мужики, то есть.
— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!
— Отродясь не врал, а тут вру… — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.
— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?
— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…
— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?
— А то что же? Не в бабки ж играть!
— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздик какой-нибудь…
— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.
— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!
— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, царица небесная… Что вы-с!
— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!
Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.
— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!
— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
— Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…
Денис зевает и крестит рот.
— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему…
— Чего изволите?
— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!
— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.
— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?
— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?
— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?
— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.
— С каким Митрофаном?
— С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять…
— Послушай… 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.
— Конечно, вы лучше знаете… Мы люди темные… нешто мы понимаем?
— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!
— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.
— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.
— Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.
— Ну, молчи…
Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.
— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.
— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.
Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…
— Молчи, не мешай.
— В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь… За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…
— Молчи!
— Я и так молчу… — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…
— Ты мне мешаешь… Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!
— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…
СВЯТОЮ НОЧЬЮ
Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.
Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей… Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно… Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо… Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней…
В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.
— Как, однако, долго нет парома! — сказал я.
— А пора ему быть, — ответил мне силуэт.
— Ты тоже дожидаешься парома?
— Нет, я так… — зевнул мужик, — люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет.
— Я тебе дам пятачок.
— Нет, благодарим покорно… Ужо на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь… Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!
Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:
— Иероним! Иерони-им!
Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.
— Христос воскрес! — сказал он.
Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.
— Иерони-м! — послышался глухой протяжный крик.
— С того берега кричат, — сказал мужик. — Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.
Огни и бархатный звон колокола манили к себе… Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.
— Скорей! Иероним! — крикнул мой мужик. — Барин дожидается!
Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.
— Отчего так долго? — спросил я, вскакивая на паром.
— Простите Христа ради, — ответил тихо Иероним. — Больше никого нет?
— Никого…
Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня — значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была все та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное «ура».
— Как красиво! — сказал я.
— И сказать нельзя, как красиво! — вздохнул Иероним. — Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?
Я сказал, откуда я.
— Так-с… радостный день нынче… — продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. — Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?
Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:
— А какие, батюшка, у вас скорби?
— Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай…
— Что ж, это божья воля! — сказал я, подделываясь под монашеский тон. — Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться… Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное.
— Это верно.
Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.
— И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, — прервал молчание Иероним, — но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?
Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:
— Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу!
Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.
— Ваше благородие, а ум какой светлый! — сказал он певучим голосом. — Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!
— Какой дар? — спросил я.
Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся.
— У него был дар акафисты писать… — сказал он. — Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!
Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:
— Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!
— А разве акафисты трудно писать? — спросил я.
— Большая трудность… — покрутил головой Иероним. — Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»… Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творче и господи сил», в акафисте к пресвятой богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суща естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»
Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.
— Древо светлоплодовитое… древо благосеннолиственное… — пробормотал он. — Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим…» — сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» — сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения»! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!
— Да, в таком случае жаль, что он умер, — сказал я. — Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем…
Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.
— Николай печатал свои акафисты? — спросил я Иеронима.
— Где ж печатать? — вздохнул он. — Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!
— С предубеждением к ним относятся?
— Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.
— Для чего же он писал?
— Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать…
Иероним оставил канат и подошел ко мне.
— Мы вроде как бы друзья с ним были, — зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. — Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но… ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное…
Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.
— Сейчас запоют пасхальный канон… — сказал Иероним, — а Николая нет, некому вникать… Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!
— А вы разве не будете в церкви?
— Мне нельзя-с… Перевозить нужно…
— Но разве вас не сменят?
— Не знаю… Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь…
— Вы монах?
— Да-с… то есть я послушник.
Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром…
Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма… Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!
По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.
«Какая беспокойная ночь! — думал я. — Как хорошо!»
Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.