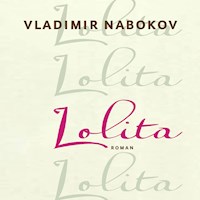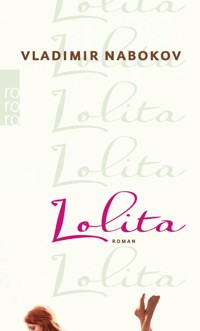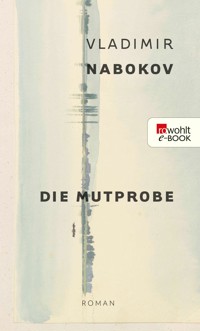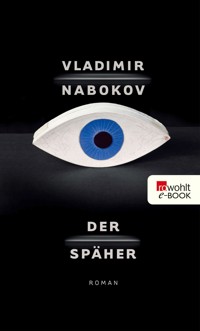Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Набоковский корпус
- Sprache: Russisch
«Сквозняк из прошлого» (1972) — следующий после «Ады» швейцарский роман Владимира Набокова, в котором восприимчивость сознания и отзывчивость души становятся без преувеличения вопросами жизни и смерти. Трагическая любовная история героя книги Хью Пёрсона, помощника главного редактора в крупном американском издательстве, переплетается с писательскими и личными обстоятельствами его колоритного клиента мистера R. и как никогда близко подводит читателя к «главной теме» Набокова. Роман, впервые озаглавленный по авторизованной версии русского названия, публикуется в новом переводе и сопровождается послесловием, комментариями и дополнительными материалами, освещающими его замысел.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Владимир Набоков Сквозняк из прошлого
Vladimir Nabokov
Transparent Things
Перевел и составил комментарии Андрей Бабиков
First published in 1972
Copyright © 1972, Dmitri Nabokov
All rights reserved
© А. Бабиков, перевод, статья, комментарии, перевод интервью, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Издательство CORPUS®
Сквозняк из прошлого
Посвящаю моей жене
1
Вот персона, которая мне нужна. Салют, персона! – Не слышит.
Если бы будущее существовало, определенно и персонально, как нечто, что мог бы различить более развитый мозг, то прошлое, возможно, не было бы столь соблазнительным: его притязания уравновешивались бы притязаниями будущего. Люди в таком случае, рассматривая тот или иной объект, могли бы восседать на середине качельной доски. Было бы, пожалуй, превесело.
Но будущее не имеет такой реальности (какой обладают воспроизводимое прошлое и воспринимаемое настоящее); будущее – всего лишь фигура речи, фантом мысли.
Салют, персона! В чем дело, отстаньте от меня! Нет, я не пристаю к нему. Ну хорошо, хорошо. Салют, персона… (в последний раз, очень тихим голосом).
Когда мы фокусируем внимание на материальном объекте, независимо от его положения, самый акт концентрации способен нас невольно погрузить в его историю. Новички должны научиться поверхностному скольжению по материи, если хотят, чтобы материя оставалась на точном уровне данного момента. Проницаемые предметы, сквозь которые просвечивает прошлое!
Объекты рукотворные, как и природные, сами по себе нейтральные, но много послужившие беспечной жизни (вам пришел на ум, и совершенно справедливо, камень на склоне холма, по которому несчетное число лет снует несметное множество мелких тварей), особенно трудно удерживать в поверхностном поле внимания: новички, радостно мурлыча себе под нос, проваливаются сквозь эту поверхность и вскоре уже с детским самозабвением упиваются историей этого камня и этой пустоши. Поясню. Природное и искусственное вещество покрыто тонкой оболочкой непосредственной реальности, и всякий, кто желает оставаться в настоящем, с настоящим, на настоящем, пусть, пожалуйста, не прорывает ее натянутой плевы. В противном случае неопытный чудотворец обнаружит, что больше не ходит по воде, а стойком идет на дно в окружении глазеющих рыб. Вскоре продолжим.
2
Когда наша персона, Хью Пёрсон (искаженное «Петерсон», иные произносят «Парсон»), выпрастывал свое угловатое тело из такси, которое доставило его из Трюкса на этот претенциозный горный курорт, он – со все еще склоненной головой в проеме, предназначенном для появляющихся на свет карликов, – взглянул вверх, – не из признательности за любезность шофера, открывшего ему дверцу, а чтобы сравнить облик отеля «Аскот» («Аскот»!) со своим воспоминанием восьмилетней давности – одна пятая его жизни, полная скорби. Уродливое строение из серого камня и бурого дерева щеголяло вишнево-красными ставнями (не все были закрыты), которые в силу некоего мнемоптического подвоха запомнились ему яблочно-зелеными. Ступени крыльца с двух сторон обрамлялись парой электрифицированных каретных фонарей на стальных опорах. По этим ступеням сбежал лакей в фартуке, чтобы унести два чемодана и (под мышкой) обувную коробку – всё, что шофер проворно выставил из пасти багажника. Пёрсон заплатил проворному шоферу.
Неузнаваемый холл был, несомненно, таким же убогим, как всегда.
Оставляя у стойки подпись и паспорт, он спросил по-французски, по-английски, по-немецки и вновь по-английски, по-прежнему ли здесь старик Крониг, управляющий, толстое лицо и фальшивую жовиальность которого он так хорошо помнил.
Консьержка (светлые волосы собраны в узел, красивая шея) сказала нет, мосье Крониг стал управляющим, представляете, «Мужестика в Фуле» (во всяком случае, так это прозвучало). В виде иллюстрации или подтверждения она показала открытку с зеленой травой, синим небом и разлегшимися в шезлонгах постояльцами. Подпись была на трех языках, без ошибок лишь на немецком. Английская гласила: Лжачая Лужайка – и как нарочно ложная перспектива растянула лужайку до чудовищных размеров.
«Он умер в прошлом году», прибавила девушка (анфас нисколько не походившая на Арманду), лишая фотохромный снимок «Мажестика в Куре» даже того незначительного интереса, какой он собой представлял.
«Выходит, не осталось никого, кто бы мог меня помнить?»
«Сожалею», сказала она с интонацией его покойной жены.
Девушка, кроме того, сожалела о том, что, поскольку он не помнил, какой именно номер он занимал на третьем этаже, она, в свою очередь, не могла его предоставить, тем более что все номера на третьем этаже заняты. Сжимая лоб ладонью, Пёрсон сказал, что то был один из трехсот пятидесятых, окнами на восток, солнце встречало его на коврике у кровати, хотя никакого вида из комнаты не было. Она ему очень нужна, эта комната, но закон требовал, чтобы записи уничтожались, если управляющий, даже экс-управляющий, совершал то, что сделал Крониг (самоубийство, по-видимому, считалось формой служебного подлога). Ее помощник, красивый юноша в черном, с прыщами на подбородке и горле, сопроводил Пёрсона в комнату на четвертом этаже, с увлеченностью телевизионного зрителя глазея, пока они поднимались в лифте, на скользящую вниз сплошную голубоватую стену, в то время как, с другой стороны, не менее увлеченное зеркало лифта в продолжение нескольких ясных мгновений отражало джентльмена из Массачусетса, с продолговатым, худым, печальным лицом, слегка выступающей челюстью и парой симметричных морщин по сторонам рта, что могло бы создать впечатление сурового, с резкими чертами альпиниста, кабы скорбная сутулость не спорила с каждым вершком его королевской мужественности.
Окно выходило на восток, в самом деле, но вид из него определенно открывался, а именно на громадный кратер, полный землеройных машин (смолкавших с вечера субботы до утра понедельника).
Носильщик в яблочно-зеленом фартуке принес два чемодана и картонную коробку с надписью «Впору» на обертке, после чего Пёрсон остался в одиночестве. Он знал, что гостиница пришла в упадок, но это уже было слишком. Belle chambre au quatrième[1], хотя и довольно просторная для одного (но слишком тесная для нескольких человек) была лишена всякого комфорта. Он вспомнил, что комната этажом ниже, в которой он, тридцатидвухлетний крупный мужчина, рыдал чаще и горше, чем даже в годы своего печального детства, тоже была несуразной, но хотя бы не такой вытянутой и захламленной, как его новое обиталище. Кровать была ужасна, как дурной сон. В «ванной комнате» имелся подмывальник (такой широкий, что на него мог бы сесть цирковой слон), но самой ванны не было. Стульчак не удерживался в вертикальном положении. Кран некоторое время протестовал, с напором испуская струю ржавой воды, прежде чем уняться и покорно зажурчать приемлемой жидкостью, которую мы недостаточно высоко ценим – а ведь это текучая тайна, заслуживающая того, чтобы в ее честь, о да, возводить монументы, святилища прохлады! Покинув эту жалкую уборную, Хью благовоспитанно прикрыл за собой дверь, но она, как глупое домашнее животное, заскулила и тут же последовала за ним в комнату. А теперь позвольте нам вернуться к проницаемым предметам.
3
Ища комод, чтобы разложить свои вещи, Хью Пёрсон, человек аккуратный, заметил, что средний ящик старого письменного стола, отставленного в темный угол и служащего подставкой для лампы, лишенной лампочки и абажура и похожей на остов сломанного зонтика, не был задвинут как следует постояльцем или лакеем (на самом деле ни тем ни другим), – последним, кто проверил, пуст ли он (никто не проверял). Мой добропорядочный Хью расшатывающим движением попробовал вдвинуть его на место; ящик сперва артачился, а затем в ответ на обратное действие случайного рывка (который не мог не воспользоваться накопленной энергией нескольких толчков) резко открылся и выбросил карандаш. Хью оглядел его, прежде чем положить обратно.
Предмет не принадлежал к разряду великолепных шестиугольных изделий из виргинского можжевельника или африканского кедра, с оттиснутым серебряной станиолью именем производителя, а представлял собой круглый, совершенно обыкновенный, технически безликий старый карандаш из дешевой сосны, окрашенный в тускло-лиловый цвет. Его забыл плотник, который не только не починил старый стол, но даже не закончил осмотра, уйдя за инструментом, которого он так и не нашел. Теперь приступим к акту концентрации.
В мастерской плотника и задолго до этого в деревенской школе карандаш потерял две трети своей длины. Голая древесина его конусообразного кончика потемнела до сливово-свинцового цвета, сливаясь таким образом по оттенку с притупленным грифельным острием, матовый блеск которого только и позволял отличить его от дерева. Нож и латунная точилка немало поработали над ним, и, если бы в том была нужда, мы могли бы проследить запутанную участь обрезков, каждый из которых был лиловым с одной и желтоватым с другой стороны, когда они были свежими; теперь же они распались на атомы пыли, от широкого, широчайшего рассеивания которых захватывает в панике дух, но нужно быть выше этого, к этому довольно скоро привыкаешь (есть страхи и похуже). Будучи изготовленным по старинке, он в целом был обструган гладко и без натуги. Возвращаясь на столько-то лет в прошлое (правда, не столь далекое, как год рождения Шекспира, когда был открыт графит), а затем снова прослеживая историю этой вещи в направлении «настоящего», мы видим мелко перемолотый графит, который девушки и старики смешивают с влажной глиной. Эту массу, эту паюсную икру, помещают в металлический цилиндр с голубым глазком, сапфиром, просверленным насквозь, и через это отверстие серая икра проталкивается. Она выходит одним непрерывным аппетитным стерженьком (следите за нашим маленьким другом!), который выглядит так, как будто сохранил форму пищеварительного тракта дождевого червя (но следите, следите, не отвлекайтесь!). Теперь его режут на отрезки той длины, которая предназначена для этих карандашей (мельком мы замечаем резчика, старого Илию Борроудейла, и собираемся разглядеть его предплечье при боковом осмотре, но останавливаемся, останавливаемся и резко отступаем назад, спеша распознать интересующий нас сегмент). Смотри, как он запекается, смотри, как он варится в жиру (кадр с разделываемым шерстистым жиродателем, кадр с мясником, кадр с пастухом, с отцом пастуха, мексиканцем) и вставляется в древесную оболочку.
Теперь, пока мы готовим древесину, не будем терять из виду наш драгоценный отрезок графита. Вот дерево! Та самая сосна! Вот она срублена. В дело идет только очищенный от коры ствол. Мы слышим вой недавно изобретенной мотопилы, мы видим, как сушат и обстругивают бревна. Вот доска, которая послужит интегументом карандаша в неглубоком ящике (все еще открытом). Мы распознаем его присутствие в бревне, как распознаем бревно в дереве, дерево в лесу, а лес в мире, который построил Джек. Мы распознаем это присутствие по чему-то совершенно ясному для нас, но безымянному, что так же затруднительно описать, как улыбку тому человеку, который никогда не видел улыбающихся глаз.
Таким образом вся эта маленькая драма, от кристаллизованного углерода и срубленной сосны до этого скромного орудия, этой сквозистой вещи, разворачивается во мгновение ока. Увы, сам воплощенный в конце концов карандаш, побывавший у Хью Пёрсона в пальцах, почему-то продолжает ускользать от нас! Но Хью не ускользнет, о нет.
4
Это была его четвертая поездка в Швейцарию. Первая состоялась восемнадцать лет тому назад, когда он с отцом провел несколько дней в Трюксе. Десять лет спустя, в тридцать два года, он вновь посетил этот старинный городок на берегу озера, и по пути в гостиницу, в которой они тогда останавливались и которую он хотел снова увидеть, стремился ощутить (что ему удалось) сентиментальный трепет – полуудивленье, полураскаянье. От нижнего, озерного уровня, где находилась безликая станция, на которую его доставил местный поезд, к ней вели крутой проулок и пролет старой лестницы. Он запомнил ее название, «Locquet», потому что оно походило на девичью фамилию его матери, канадской француженки, которую Пёрсон-старший пережил менее чем на год. Еще Хью помнил, что гостиница была унылой и дешевой и унизительно соседствовала с другим, гораздо лучшим отелем, сквозь rez-de-chaussée[2] окна которого виднелись призраки белых столиков и подводные официанты. Оба отеля теперь исчезли, а на их месте вырос Banque Bleue[3], громадное строение из стали, сплошь полированные поверхности, зеркальное стекло и растения в кадках.
Он спал в чем-то вроде полуалькова, отделенный аркой и напольной вешалкой от кровати отца. Ночь всегда чудовище, но та была особенно ужасной. Хью, дома спавший в собственной комнате, возненавидел эту общую могилу сна, он мрачно надеялся, что обещание отдельных спален будет исполнено на следующих стоянках их швейцарского путешествия, смутно рисовавшегося впереди в цветистой дымке. Его отец, шестидесятилетний человек ниже его ростом и к тому же более плотный, за время своего недавнего вдовства отталкивающе состарился. Его вещам сопутствовал характерный душок, слабый, но безошибочно узнаваемый, и он всхрапывал и вздыхал, видя во сне громоздкие глыбы тьмы, от которых нужно было расчистить дорогу или через которые приходилось перебираться в страдальческих положениях немощи и отчаяния. Нам не удалось сыскать в анналах европейских туров, рекомендованных семейными докторами пожилым пенсионерам как верное средство развеять скорбь одиночества, ни единой поездки, которая достигла бы этой цели.
Руки у Пёрсона-старшего ловкостью никогда не отличались, но в последнее время то, как он шарил в пенной воде пространства, нащупывая прозрачное мыло ускользающей материи, или тщетно пытался завязать или развязать те части фабричных изделий, которые нужно было застегнуть или отстегнуть, становилось положительно комичным. Хью унаследовал долю этой неуклюжести; ее теперешнее преувеличение раздражало его, как повторная пародия. В то утро последнего дня вдовца в так называемой Швейцарии (т. е. прямо перед тем событием, после которого все для него должно было стать «так называемым») старый увалень схватился с жалюзи, чтобы посмотреть, какая выдалась погода, и, успев лишь мельком увидеть мокрую мостовую, перед тем как пластинчатая штора грохочущей лавиной вновь сошла вниз, решил взять зонтик. Свернут он был кое-как, и старик принялся складывать его заново. Хью с молчаливым отвращением наблюдал за этим, его ноздри раздувались и подрагивали. Презрение не было заслуженным, поскольку существует множество вещей, от живых клеток до мертвых звезд, которые время от времени претерпевают случайные маленькие аварии в не всегда умелых или осторожных руках анонимных формовщиков. Нахлесты черной ткани легли как попало, и рулон пришлось сворачивать по новой, но когда застежка ленточки уже была готова к использованию (крошечный осязаемый кружок между большим и указательным пальцами), кнопка исчезла в складках и бороздах пространства. Понаблюдав некоторое время за беспомощными шарящими движениями отца, Хью так резко вырвал у него зонтик, что старик еще мгновение разминал руками воздух, прежде чем ответить на внезапную грубость мягкой извиняющейся улыбкой. Все так же не говоря ни слова, Хью яростно сложил и застегнул зонтик, который, говоря по чести, едва ли приобрел лучший вид, чем тот, какой в конце концов придал бы ему его отец.
Чем они собирались заняться в этот день? Позавтракать там, где обедали накануне, а потом отправиться за покупками и вдоволь наглядеться на достопримечательности. Местное чудо природы, водопад Тара, был нарисован на двери ватерклозета в коридоре и вдобавок воспроизведен на громадной фотографии, украшавшей стену вестибюля. Д-р Пёрсон остановился у стойки, чтобы с присущей ему суетливостью спросить, нет ли для него какой-нибудь почты (едва ли он ждал писем). После недолгих поисков нашлась телеграмма для миссис Парсон, но для него не было ничего (кроме легкого потрясения от неполного совпадения). Рядом с его локтем случайно оказалась свернутая портняжная лента, и он принялся обматывать ее вокруг своей бокастой талии, раз за разом теряя конец и объясняя при этом мрачному консьержу, что собирается купить в городе пару летних штанов и намерен взяться за дело с толком. Его болтовня вызвала у Хью такое раздражение, что он направился к выходу еще до того, как серая лента вновь была свернута.
5
После завтрака они подыскали подходящий с виду магазин. Confections. Notre vente triomphale de soldes[4]. Наши опавшие плоды триумфально распроданы, – перевел отец, и Хью поправил его с усталым презрением. Перед витриной на железной треноге стояла полная корзина сложенных рубашек, не защищенная от дождя, пошедшего пуще прежнего. Раздался раскат грома. Зайдем-ка сюда, нервно сказал д-р Пёрсон, чей страх перед грозовыми разрядами был для его сына еще одним источником раздражения.
Так вышло, что в то утро Ирма, изнуренная и издерганная продавщица, одна заправляла захудалым магазином одежды, в который Хью неохотно последовал за отцом. Двух ее сотрудников, супружескую чету, только что поместили в госпиталь после пожара в их тесных апартаментах, хозяин уехал по делам, а посетителей оказалось больше, чем обычно бывает по четвергам. В эту минуту она помогала трем пожилым дамам (часть полного автобуса из Лондона) совершить покупки, одновременно объясняя блондинке-немке в черном, как пройти к тому месту, где можно сделать снимки для паспорта. Старые англичанки по очереди прижимали к груди одно и то же цветочных узоров платье, и д-р Пёрсон с увлечением принялся переводить их кокни-кудахтанье на плохой французский. Девушка в трауре вернулась за забытым свертком. Раскладывались новые платья, изучались новые ярлычки с ценой. Вошел еще один покупатель с двумя маленькими девочками. Воспользовавшись паузой, д-р Пёрсон попросил подыскать ему пару широких брюк. Он получил несколько пар для примерки в смежной с залом кабине, и Хью выскользнул из магазина.
Он бесцельно прогуливался, прячась под архитектурными выступами, поскольку напрасно ежедневная газета этого дождливого городка настаивала на том, чтобы в его торговых кварталах были возведены пассажи. Он осмотрел предметы в сувенирной лавке. Он нашел довольно привлекательной зеленую фигурку лыжницы, сделанную из материала, который он не смог распознать через витрину (то был «алебастрид», имитация арагонита, вырезанная и раскрашенная в тюрьме Грумбель осужденным мужеложцем, суровым Арманом Рейвом, который задушил сестру своего дружка, состоявшую с ним в кровосмесительной связи). А что сказать об этом гребешке в футляре из настоящей кожи, что сказать о нем? – о, он бы мигом засорился, и пришлось бы битый час вычищать грязь между его частыми зубчиками с помощью одного из самых маленьких лезвий швейцарского складного ножа, который ощетинился чуть дальше, обнажив свои дерзкие внутренности. Миленькие наручные часики с изображением собачонки на циферблате, всего двадцать два франка. Или, может быть, купить (для университетского соседа по комнате) это деревянное блюдо, в середине которого белый крест, окруженный всеми двадцатью двумя кантонами? Хью тоже исполнилось двадцать два, и он всегда был чувствителен к совпадениям символов.
Резкий трезвон и мигающий красный свет на железнодорожном переезде возвестили о надвигающемся событии: неумолимо опускался медленный шлагбаум.
Коричневая занавеска кабины была задернута только наполовину, не скрывая стройных ног в прозрачных черных чулках сидящей внутри женщины. Мы страшно спешим возвратить этот момент! Занавеска уличной кабины с чем-то вроде рояльного стула (чтобы было удобно и низким и высоким) и торговым или игровым автоматом, позволяющим сделать собственный снимок для паспорта или ради спорта. Хью поглядел на ножки и перевел взгляд на вывеску. Мужское окончание и отсутствие акута испортили непреднамеренный каламбур:
Три фотографии / три позы (фр.).
Пока он, все еще девственник, воображал эти смелые позы, произошло двойное событие: пронесся гром идущего без остановки поезда, и в фотокабине сверкнула магниевая молния. Блондинка в черном, отнюдь не казненная на своем стуле электрическим разрядом, вышла, закрывая сумочку. Чьи бы похороны она ни хотела почтить образом белокурой красавицы, украшенной по случаю крепом, это не имело никакого отношения к третьему одновременному событию, произошедшему по соседству.
Надо пойти за ней, вот был бы славный урок, – пойти за ней, вместо того, чтобы глазеть на водопад: славный урок старику. Выругавшись и вздохнув, Хью пошел на попятную, что когда-то было отменной метафорой, и вернулся в магазин. Ирма позднее рассказывала соседям, что была уверена, что джентльмен ушел вместе с сыном, и поэтому, несмотря на его беглый французский, сначала не могла взять в толк, о чем этот молодой человек говорил. Сообразив наконец, она посмеялась над своей глупостью, быстро провела Хью в примерочную и, все еще от души смеясь, отдернула зеленую, не коричневую, занавеску тем жестом, который лишь в ретроспективе стал драматическим. Неурядица и смещения в пространстве всегда имеют свою комичную сторону, и мало что может быть смешнее, чем три пары брюк, спутанные в застывшем танце на полу, – коричневые штаны свободного кроя, синие джинсы, старые брюки из серой фланели. Неуклюжий Пёрсон-старший очень старался просунуть обутую ногу в зигзаг узкой штанины, когда почувствовал, что ревущий багрянец наполняет его голову. Он умер еще до того, как коснулся пола, как если бы падал с большой высоты, и теперь лежал навзничь, одна рука вытянута, зонтик и шляпа – вне пределов досягаемости в высоком зеркале.
6
Этот Генри Эмери Пёрсон, отец нашего Пёрсона, может быть описан, в зависимости от угла освещения и положения наблюдателя, как благонамеренный, серьезный, приятный маленький человек или как жалкий мошенник. Немало рук заламывается во мраке угрызений совести, в темнице непоправимого. Школьник, пусть даже такой же сильный, как Бостонский душитель – покажи ладони, Хью, – не может справиться со всеми своими товарищами, когда они то и дело отпускают глумливые замечания в адрес его отца. После двух-трех неловких схваток с самыми отвратительными из них, он стал вести себя хитрее и подлее, заняв позицию молчаливого полусогласия, которая ужасала его, когда он вспоминал те времена; но, по диковинному извороту совести, осознание собственного ужаса утешало его, доказывая, что он все же не совсем чудовище. Теперь ему нужно было что-то сделать с рядом засевших в памяти неблаговидных поступков, в которых он был повинен до этого самого последнего дня; отделаться от них было так же мучительно, как от зубных протезов и очков, оставленных ему властями в бумажном пакете. Единственный родственник, которого он смог отыскать, дядя из Скрэнтона, дал ему из-за океана совет кремировать тело в Швейцарии, а не отправлять домой; на деле же менее рекомендуемый путь оказался во многих отношениях более легким, главным образом потому, что позволил Хью практически сразу избавиться от жуткого объекта.
Все были очень добры. Хотелось бы выразить особую благодарность Гарольду Холлу, американскому консулу в Швейцарии, усилиями которого нашему бедному другу была оказана всемерная помощь.
Из двух острых ощущений, испытанных молодым Хью, одно было обычным, другое – особенным. Сначала пришло общее чувство освобождения, как сильный бриз, экстатический и чистый, уносящий прочь много жизненной трухи. В частности, он был рад обнаружить в потрепанном, но пухлом бумажнике отца три тысячи долларов. Подобно многим юношам скрытой гениальности, видящим в пачке банкнот всю осязаемую толщу сиюминутных наслаждений, у него не было ни практической сметки, ни стремления заработать больше денег, ни сомнений относительно своих будущих средств к существованию (они оказались ничтожными, когда выяснилось, что наличная сумма превышала десятую часть всего наследства). В тот же день он переехал в гораздо более роскошное жилье в Женеве, заказал на обед homard à l’américaine[5] и отправился на поиски своей первой в жизни потаскухи в переулок за отелем.
По оптическим и плотским причинам половые отношения менее прозрачны, чем многие другие, гораздо более сложные вещи. Известно, однако, что в своем родном городке он ухаживал за тридцативосьмилетней женщиной и ее шестнадцатилетней дочкой, но был бессилен с первой и недостаточно дерзок со второй. Перед нами банальный случай чрезвычайно продолжительного эротического зуда, уединенных практик, приводящих к обычному облегчению, и памятных снов. Девушка, с которой он заговорил, была коренастой, но с красивым, бледным, вульгарным лицом и глазами итальянки. Она привела его к одной из лучших кроватей в отвратительных старых меблированных комнатах, а именно в тот самый «номер», в котором девяносто один, девяносто два, почти девяносто три года тому назад по пути в Италию останавливался русский писатель. Кровать – другая, с медными шишками, – была застелена, расстелена, накрыта сюртуком и потом вновь застелена; на ней стоит полуоткрытый саквояж в зеленую клетку, а сюртук наброшен на плечи путешественника в ночной рубашке, шея которого обнажена, а темные волосы взъерошены. Мы застаем его за принятием решения: что переложить из саквояжа (который он отправит вперед почтовой каретой) в заплечный мешок (который он сам понесет через горы к итальянской границе)? Он ждет, что с минуты на минуту явится его друг, художник Кандидатов, чтобы отправиться с ним в один из тех беззаботных походов, который романтики не колеблясь предприняли бы даже моросящей августовской порой; в те некомфортные времена лило еще сильнее; его сапоги были все еще мокрыми после десятимильной прогулки до ближайшего казино. Они стоят за дверью в позиции изгнания, а ступни ног он завернул в несколько слоев немецкоязычной газеты – ему, к слову, на немецком легче читать, чем на французском. Главный вопрос, стоящий перед ним, как быть с рукописями – доверить ли их мешку или отправить почтой в саквояже: черновики писем, незаконченный рассказ в русской тетради, переплетенной в черную ткань, фрагменты философского эссе в синей тетрадке, купленной в Женеве, и разрозненные листы писчей бумаги с набросками романа под рабочим названием «Фауст в Москве». Когда он сидит за этим сосновым столом, тем же самым, на который шлюшка нашего Пёрсона бросила свою набитую сумку, сквозь эту сумку как бы просвечивает первая страница его «Фауста» с энергичными вычерками и неряшливыми вставками фиолетовыми, черными, рептильно-зелеными чернилами. Вид собственного почерка завораживает его; хаос на странице для него – порядок, кляксы – картины, пометки на полях – кулисы. Вместо того, чтобы разбирать бумаги, он откупоривает походную чернильницу и с пером в руке подходит к столу. Но в тот же миг раздается жизнерадостный стук в дверь. Дверь распахивается и снова закрывается.