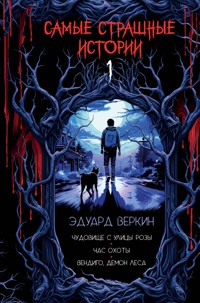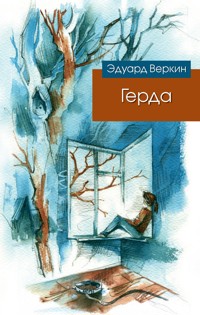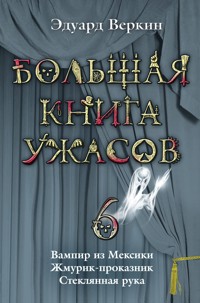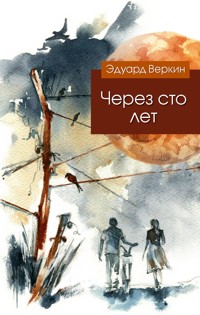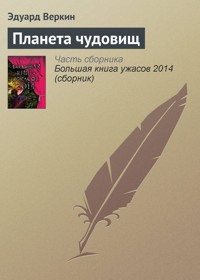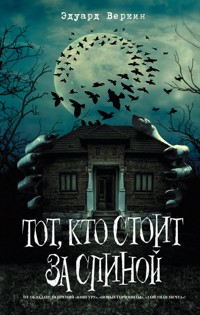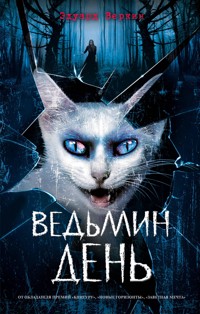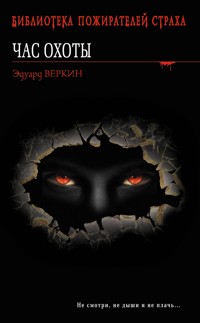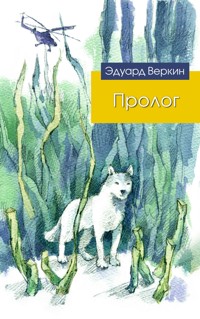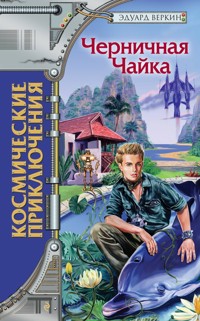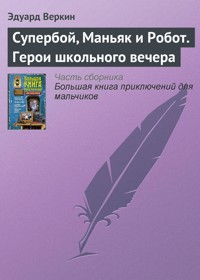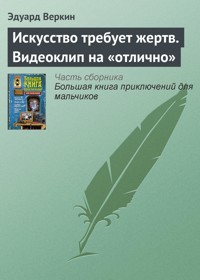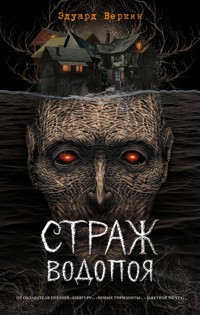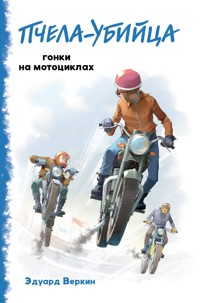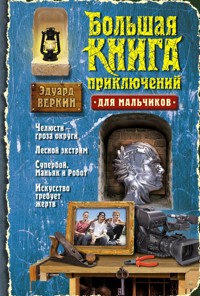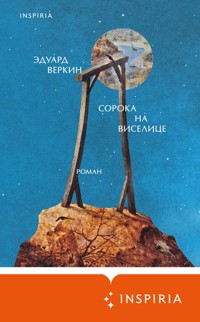
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Инспирия
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Loft. Эдуард Веркин. Взрослая проза
- Sprache: Russisch
Добро пожаловать в мир будущего! Мир, в котором побеждены болезни, войны, голод и старость, открыты более двухсот экзопланет и экспансия продолжается. Прекрасный новый мир, мир для всех. Кроме Яна. Но именно он, простой смотритель заповедника, волей случая попадает в состав Большого Жюри, которое определит дальнейший вектор развития земной цивилизации. Ждут ли нас в космосе? Ждет ли нас космос? По плечу ли он нам? Стоит ли «разгонять» мозг человека ради дальнейшего освоения Галактики? Останется ли после этого человек человеком? Эдуард Веркин исследует тему оправдания глобальных экспериментов над человечеством, феномен преодоления старости и эволюцию космических миссий, сообщая по сути научно-фантастическому тексту глубину и тревожность настоящей психологической прозы. Прозы большой, щемящей и гулкой, заставляющей вспомнить лучшие образцы советской фантастики о выборе пути к звездам сквозь мрак Вселенной.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Эдуард Николаевич Веркин Сорока на виселице
© Веркин Э. Н., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Глава 1 Преткновение
Я не Одиссей.
Я не люблю публицистику, эссе, научно-популярные книги и мемуары, продукция подобного рода напоминает мне стоны, оправдания.
Год, когда никому не известный Феликс Конрад напечатал рассказ «Бабушка-удав», был удивительно удачным для литературы – на Земле и в пределах расширявшейся ойкумены опубликовали почти полторы тысячи романов, четыре тысячи восемьсот повестей, двадцать три с половиной тысячи рассказов. В тот год вышли «Вертопрах», «Гадание на рыбьих костях», «Сын грома» и «Скорость дня», «Волчий пастырь» и «Бродячая зима», у Конрада не было ни малейшего шанса остаться замеченным. Впрочем, стоит признать, что текст Ф. Конрада и не обладал практически никакими литературными достоинствами, в нем не было ни яркого запоминающегося языка, ни изящества стиля, ни захватывающего сюжета, название, которым начинающий автор снабдил свое сочинение, могло скорее отпугнуть, нежели привлечь читателя, так и случилось. Те немногочисленные отзывы, что удалось отыскать, имели иронический, если не саркастический характер. В лучшем случае «Бабушку» сравнивали с ранними (и, надо признать, не особо удачными) работами Эдварда Лира, с французским фельетоном начала двадцатого века, с фантасмагориями Лавкрафта, с обшлагами Льва Ростоцкого века двадцать второго; отмечали рыхлость и местами беспомощность текста, откровенно проваленный финал, сомнительную мораль и претенциозность. Как всякий пророк, Ф. Конрад оказался не услышан, его слабый голос потонул в насмешках, непрошеных советах и высокомерных профессиональных поучениях; никто не разглядел в неловкой, практически ученической работе тень, надвинувшуюся на будущее нашего мира.
Credo quia absurdum, я не люблю мемуары, но вынужден иметь дело преимущественно с ними. На полке, посвященной предмету моего интереса, тысячи и тысячи книг; в прошлом году искушению поддался Штайнер, его сочинение похоже на прочие и тоже представляет собой всего лишь запоздалое и, как мне видится, не совсем искреннее раскаяние. Увы.
Человек, лишенный пламени вымысла, обречен вдыхать туман оправданий.
Сейчас, по истечении значительного времени, я могу с уверенностью утверждать, что, несмотря на интерес – искренний, последовательный, порой болезненный, – синхронная физика оставалась все-таки падчерицей человеческой цивилизации. Не постылой, возможно, по-своему любимой, но падчерицей, нелепой хромоногой девчонкой, которая – и это признают ее самые горячие и последовательные противники – сумела-таки потерять хрустальную туфельку в нужном месте. Никого увлеченное человечество так не возносило и никого так не осмеивало, как синхронных физиков. Никогда ни с одной наукой не связывали таких блистающих надежд, ни одна наука не приносила столько немыслимо горьких разочарований. Пейзаж, оставленный после себя синхронными физиками, – картина проигранной битвы, потрава, мор, спорынья. Жертвы, причем жертвы буквальные, положенные синхронистами на алтарь галактической экспансии, исчисляются тысячами, если точнее, в ходе подготовки и проведения экспериментов погибло три тысячи двести сорок четыре исследователя, не исключено, что действительное количество больше. Материальные потери, по подсчетам того же Штайнера, составляют двадцатилетний совокупный ресурс ойкумены, что представить, согласитесь, трудно.
И поражение.
Штайнер, по сию пору возглавляющий Мельбурнский Институт Пространства, остроумно объявил это «неизбежной фазой январского утра», которую закономерно проходит каждая подлинная наука, однако надо признать – эра синхронной физики в ее современном виде приблизилась к концу, и мы все, кто любил ее и был причастен, скоро останемся не у дел. Человечество устало упиваться иллюзорными перспективами, неудачи были трагичны, результаты же сомнительны и порою нелепы, а после обнародования материалов по инциденту на Бенедикте стало ясно – перед Землей встали проблемы совершенно иного порядка и масштаба, вызовы настолько пугающие и обезоруживающие, что на их фоне вопросы синхронной физики кажутся практически несущественными.
На волне всеобщего скепсиса и угасания решение Мирового Совета (весьма, на мой взгляд, спорное) об обнародовании материалов по инциденту на Бенедикте неизбежно сместило фокус общественного внимания к перспективам будущего, которые, в сущности, уже начали реализовываться.
И в наши дни, когда синхронная физика впервые за свою трехсотлетнюю историю вдруг оказалась в стороне от надежд, страхов и интересов человечества, появилась возможность взглянуть на нее относительно беспристрастно. Именно осознание этого привело к тому, что я, несмотря на данное слово, не удержался и опубликовал первую главу в январском номере «СоциоДинамики». Должен признать ожидаемое «увы» – мне не удалось убедить читателей в том, что между рассказом Ф. Конрада и прекращением программы геронтологических исследований есть прямая связь; признаю – публика нашего века нестерпимо консервативна, к тому же предубеждена против беллетристов и романтиков, хотя сам Феликс Конрад себя романтиком отнюдь не числил. Более того, подозреваю, что значительная часть подписчиков «СоциоДинамики» с моей работой не ознакомились вовсе – она помещалась в середине журнальной книжки, любители журналов обычно азартно читают начало, после чего их внимание истончается и сил остается только на кроссворды и рубрику «Курьезы науки», размещаемые ближе к концу. Полагаю, публикация не нашла ожидаемого отклика еще и потому, что я довольно самонадеянно обнародовал в популярном журнале материалы, предназначенные для квалифицированного читателя, подготовленного, по крайней мере интересующегося новейшей историей.
Нельзя сказать, что над публикацией явно смеялись, никто бы не посмел, но, думаю, многие с сочувствием вспомнили о моем возрасте и заслугах.
Впрочем, во время конференции на восточном побережье Виндж удержаться не смог и осторожно поинтересовался – действительно ли история синхронной физики не может обойтись без сомнительных параллелей, не настало ли время очистить ее от, прямо скажем, излишней легендарности, от мифов, сложившихся вокруг ее подвижников, стоит ли в книге, пусть и публицистической, обращаться к материалам, что могут бросить пусть маленькую, но тень на ее героев и мучеников?
Я резонно заметил, что Сойеру, Афанасьеву и Дель Рею никакие тени не страшны, более того, их жизнь должна быть изучаема хотя бы в силу того, что за их ошибки и заблуждения человечество заплатило немалую цену.
Виндж возразил, что между заблуждениями и ошибками Дель Рея и фантазиями никому не известного Ф. Конрада пропасть, и прежде всего эстетическая, примерно как между солдатиками из медной проволоки и «Давидом» Микеланджело. Что сведение под одной обложкой Ф. Конрада и Дель Рея нарочито снижает высоту трагедии, обесценивает подвиг и жертву, делает их смешными. Ты добиваешься этого?
Я ответил, что его опасения по меньшей мере необоснованны – синхронная физика, дисциплина, родившаяся из анекдотов про Шрёдингерова кота и трех демонов Максвелла, прозябшая на скудной ниве релятивистского тупика, проросшая сквозь волчцы «Хаббла» и тернии Эйнштейна, долгое время сама остававшаяся анекдотом, в итоге изменившая космологию и этику, почти ставшая новой этикой и едва не отринутая человечеством, не боится быть смешной. Особенно сейчас, по прошествии стольких лет. Был ли смешон Сойер? Были ли нелепы Дель Рей и Афанасьев? Наверняка. Наверняка им приходилось быть нелепыми. Нелепыми, безрассудными, великими, их жизнь, их ничтожество, их слава – это урок для нас, наследие, которое требует пристального изучения – без этого нам не удастся ответить на главный вопрос любого времени – о выборе пути.
Связь между рассказом Ф. Конрада и синхронной физикой существует.
И ты, Одиссей, вздохнул Виндж, безусловно намекая не на настырного героя Троянской войны.
И ты, Марчелло, ответил я.
Мы посмеялись.
После чего Виндж аккуратно (но и настойчиво) повторил, что, возможно, мне не стоит спешить, следует обдумать все еще раз. Разумно ли придавать книге о подлинных (хотя, возможно, и заблуждавшихся) гениях человечества чересчур памфлетный характер, разве допустимо проводить параллели между судьбой Уистлера и рассказом «Бабушка-удав»? В конце концов, не кощунство ли это, Одиссей?
Это же хлеб синхронной физики, не удержавшись, напомнил я. Параллели, фантазии, кощунства! Дель Рей увидел дизайн актуатора, наступив на убитого тропической грозой попугая. Сойер осознал ограниченность современной космогонии, поссорившись с отцом из-за самодельной мухобойки. Сонбати действительно увлекался конструированием механических головоломок, и одна из них на самом деле отрубила ему мизинец. Именно в вечер этого происшествия Сонбати, испытывая некую эйфорию от обезболивающих, написал «К насмешникам», манифест, после которого в синхронную физику пришли тысячи и тысячи молодых и горячих сердец.
Это так, согласился Виндж, но следует ли широкой публике знать, что Сонбати после инцидента на «Дельфте‐2» страдал от апофении настолько навязчивой, что вынужден был прибегать к полноценной сенсорной депривации? Или о том, что у Афанасьева в последние годы жизни была диагностирована шизофрения? Что среди синхронных физиков процент лиц с шизофренией на порядок выше среднего?
Апофеники и шизофреники, улыбнулся я.
Вот именно! – воскликнул уже Виндж. Апофеники и шизофреники! Зачем массовому читателю знать про это? Да, были те, кто придумал синхронную физику, были те, кто сложил за нее голову, будут те, кто воспользуется плодами ее триумфа – он, Виндж, не сомневается в этом грядущем триумфе. Но людям, тем, кто рано или поздно укротит поток Юнга, ни к чему знать, что на самом деле случилось с Уистлером.
Милый Виндж, ответил я. Людям надо знать, это во‐первых и несомненных. А во‐вторых, боюсь, что проблема шире проблемы синхронной физики и синхронных физиков, я полагаю, то, с чем мы столкнулись на Регене, гораздо серьезнее. Более того, я не исключаю, что события на Регене и инцидент на Бенедикте – звенья одной цепи. И если это так, то человечеству придется отложить в сторону розовые очки технологического благодушия, вглядеться в мир максимально честно и признать наконец, что на ширме релятивистского парадокса нарисована не ироническая ухмылка, но хищный плотоядный оскал.
Виндж чистосердечно рассмеялся и заметил, что инцидент на Бенедикте отчего-то принято истолковывать излишне эсхатологически, в то же время это не что иное, как очередной apocalipto, коих в истории Земли было несчетное количество. Да, с устоявшейся картины мира сорваны… или будут сорваны пыльные покровы, да, все удивятся, как слепы, наивны были земляне последние сто лет, но это отнюдь не катастрофично, более того, поучительно, на каждую захлопнувшуюся дверь приходится три открывшихся.
Я согласился. И добавил, что именно поэтому я считаю, что человечество имеет право знать, что случилось с Уистлером, да и с остальными участниками эксперимента на Регене.
Настало время рассказать про это.
Уж не хочешь ли ты стать Великим Оптиком? – спросил всегда ироничный Виндж.
Не хочешь ли ты прослыть Великим Шорником? – спросил давно перепуганный я.
Виндж промолчал, сощурился.
Рассказ «Бабушка-удав» был написан Феликсом Конрадом для участия в конкурсе «Мурашки», проводимом альманахом «Романтика сегодня». Рассказ не вошел в число победителей, но был отмечен в качестве десяти лучших и опубликован в поощрительном альманахе. Ф. Конрад сочинил еще несколько рассказов и два исторических романа, не имевших успеха ни у читателей, ни у критиков, впоследствии он занимался анализом и экономической статистикой, но и здесь ничего серьезного не достиг. Но как сломанные часы дважды в сутки показывают точное время, так и неизбежное будущее таится на страницах миллионов написанных книг, главное, открыть их в нужном месте. Я вернулся к работе над историей синхронной физики и занимался ею полтора года, когда неожиданно осознал, что, погружаясь в яростный хаос идей, царивших в дни ее зарождения и подъема, сам почему-то ни разу не прибегал к методу, на котором основывалась наука, чье развитие я взялся описывать.
Поток.
Я удивился, что эта идея до сих пор не приходила мне в голову, хотя, казалось, именно этим методом я должен был воспользоваться в первую очередь.
Как понять, что выбранная дорога приведет тебя к реке?
Как понять, что выбранная дорога приведет тебя к мосту?
Как увидеть, что стрелки указывают на урочный час?
Где ты, сметенный дом отца?
Способ один.
Для опыта я использовал стандартный алгоритм простейшей вероятностной машины, такие были популярны много лет назад и использовались в основном для развлечения – с их помощью составляли шуточные прогнозы погоды и предсказания спортивных поединков, чертили гороскопы, генерировали грибные карты и сочиняли юмористические поэмы.
Я испытал машину на Эмили Дикинсон, и это дало любопытные результаты. В сессии, длившейся полторы секунды, трек «Эмили» привел к полярным каньонам Меркурия, к текстильному кризису и к технологии асинхронных двигателей, к анабасису Хирона, к первой постановке оперы «Дориан» и породе пчел «Долгая Труди», к замедлению дрейфа материков и к спорам о преимуществах внедрения двойного алфавита.
Каньоны Меркурия и текстильные революции казались неубедительными, опера вызывала вопросы, самым явным проявлением синхроничности выглядел Хирон, алгоритм был, несомненно, рабочий. Анабасис Хирона – великий поворот в педагогике второй половины двадцать первого века совпадал со всплеском интереса к Эмили, изданием ее сочинений и дополненной биографии, фестивалем «Странная Эм»; но еще больше меня поразило то, что в ходе проведенной около тридцати лет назад Институтом мировой литературы семантической секвенции корпуса произведений Дикинсон было выявлено два метастихотворения: «Осень» и «Печальный хромой кентавр».
Убедившись в том, что алгоритм, бесспорно, эффективный, я, не задумываясь, применил его к одному из самых известных текстов, посвященных первому столетию синхронной физики, – избыточно-полемичному и чересчур бойкому опусу Алекса Ситникова «Преткновение: призраки завтра». Немалым достоинством этой работы я считал ее объем, два солидных тома, три миллиона полновесных печатных знаков, чем больше объем, тем достоверней результаты. И трек «Преткновение» совершенно неожиданно вывел меня к Ф. Конраду и его дебютному рассказу.
Феликс Конрад
БАБУШКА-УДАВ
рассказ
В понедельник я подложил бабушке кричащую лягушку. Не знаю, зачем я это сделал, но, проснувшись в тот день, я думал только о лягушке и о том, как подложу ее на бабушкином пути. Я свернул лягушку из силиконовой бумаги и испытал в деле. Бабушка лягушку не заметила, наступила, и лягушка неприлично и громко квакнула. Бабушка остановилась, огляделась и пошагала дальше, на веранду, где уселась в кресло и стала раскачиваться, наблюдая за утренним садом. У бабушки было хорошее настроение, она улыбалась воспоминаниям и щурилась на солнце. Я же устроился на чердаке и стал наблюдать.
Я наблюдал за бабушкой вторую неделю, потому что бабушка мне не нравилась. Она подолгу спала в своей комнате, просыпаясь лишь утром, выходила на веранду. Утром солнце имело лимонный цвет, любимый цвет бабушки, но стоило солнцу хорошенько подняться над горизонтом и приобрести апельсиновый оттенок, как бабушка покидала веранду, и, неразборчиво бормоча, удалялась к себе до завтрашнего утра.
Бабушка перестала нас узнавать. Это случилось в один день. Она не спустилась к завтраку, мама пошла ее проведать, и через минуту мы услышали ее взволнованный крик. Мы поднялись к бабушке и обнаружили ее стоящей у окна. Бабушка не реагировала ни на наши голоса, ни на прикосновения, смотрела в окно, улыбалась, молчала. Врач констатировал реактивную деменцию, выписал препараты, но сказал, что улучшения не будет, теперь это до конца, надо взглянуть правде в глаза.
Через день после визита доктора прилетел инспектор из центра геронтологии. Он сделал пункцию ликвора, световые тесты и биоимпеданс, после чего рекомендовал поместить бабушку в специализированное учреждение, отец и мама отказались. Инспектор не настаивал, однако напомнил, что отныне за бабушкой будет установлен надзор и мы не должны этому препятствовать, что проверки могут осуществляться внезапно. Мы не препятствовали.
Постепенно бабушка исчезла. Она словно переключилась на другой регистр, шагнула от нас в мир, который видела она одна, который, судя по всему, ей нравился. Она смотрела в окна, или в потолок, или изучала трещины на стенах, нас не узнавала, да и не видела, улыбалась и подавала знаки кому-то невидимому. Некоторое время мы пытались с ней разговаривать, приглашать на прогулки или к столу, но скоро отступились, поскольку бабушку не интересовало ничего, а присутствие людей и вовсе сказывалось на ее состоянии угнетающе. Хотя, пожалуй, ее интересовал сад, она могла подолгу находиться на веранде, наблюдая за листьями, птицами и игрой теней. Постепенно мы привыкли к этой новой бабушке, а та, что была раньше, растворилась и потерялась. Иногда бабушка напоминала старинную вешалку с забытым на ней пальто.
В тот день, когда я подложил бабушке лягушку, неожиданно прилетел инспектор. Он долго светил бабушке в глаза, то красным, то зеленым, вглядывался в радужку, сверялся с цветовыми таблицами и хмурился, отчего отец нервничал и прятал руки в карманы.
Потом инспектор спрятал световую трубку и стал дергать бабушку за пальцы, прислушиваясь к получающимся звукам. Это был новый инспектор, старый бабушку за пальцы не дергал, проверял по голосу. Но этот придерживался другого метода.
Я сначала сидел на подоконнике и прислушивался. Инспектор напевал песенку про капибару и лису, отчего я понял, что при мне инспектор обсуждать состояние бабушки не намерен. Тогда я зевнул, спрыгнул в траву, зашел за угол дома и по приставной лестнице забрался на чердак. Отсюда было все хорошо видно и слышно.
Инспектор и отец стояли возле бабушки, а она смотрела сквозь них в сад.
– Я бы все же рекомендовал вам оборудовать комнату… – советовал инспектор, – необходимыми аксессуарами. Все-таки возраст критический, сами понимаете.
– Да-да, – согласно кивал отец. – Я все понимаю. Но и вы поймите меня – она моя мать. Я видел такие комнаты: гасители инерции, пневмоподушки, транквилизаторы, это похоже на клетку для крысы…
– Это гуманно, – сказал инспектор.
– Это гуманно…
Отец был явно расстроен.
– Признаки, к сожалению, налицо, – продолжал инспектор. – Дегенеративные изменения в суставах ярко выраженные, так… но хуже то, что сетчатка… Можно отметить, что перестроение началось…
Инспектор заглянул в бабушкины глаза, снова поморгал в них фонариком и сказал:
– Есть вероятность того, что миелиновые оболочки разрушаются быстрее, чем обычно.
– Что это значит? – негромко спросил отец.
– Это серьезные симптомы. Вашей матери сто семнадцать, возраст, прямо скажу, критический. Именно поэтому я вам и советую… самым ответственным образом советую прибегнуть к спецпомощи. У вас все-таки дети.
Я не очень понял, при чем здесь дети. Но отец, видимо, понял, потому что кивнул инспектору.
– Я думаю…
– Кстати, а у вас есть домашние животные? – спросил инспектор.
– Да, у нас кошка, – растерянно ответил отец. – То есть кот. Тупая толстая скотина, мама завела его лет десять назад…
– Натуральный? – уточнил инспектор.
– Да, натуральный, к сожалению. Мы хотели заменить его синтетическим, но мама воспротивилась… Она этого кота обожает, разбаловала его невероятно… Знаете, мой сын очень способный ребенок, он сделал кибермышей и выпустил, чтобы Априкос охотился и не так жирел. Но кот не стал их ловить, мыши разбежались по дому и стали все грызть! А этот бездельник сбежал! Вы представляете?
Априкос и в самом деле куда-то задевался, хотя и весна. Обычно весной Априкос валяется на подоконнике в кухне, или сидит на чердаке возле трубы, или прячется в старой вишне, подкарауливая птичью мелочь. Но уже дня три его не видно, я, во всяком случае, не видел. А мыши да, распространились.
– Скажите, инспектор, а бывают ли…
Отец сбился. Бабушка погладила кого-то невидимого.
– А бывают ли исключения? Ну, если некто… перешагнул стодвадцатилетний рубеж и… и не изменился?
– Нет, – тихо ответил инспектор. – Увы, статистика не на нашей стороне. Подавляющее большинство претерпевает… скажем так, метаморфозу.
– То есть совсем никого? – упавшим голосом поинтересовался отец.
– Два-три процента, – ответил инспектор. – Мы изучаем их, но пока никакой корреляции выявить не удалось.
– Так, может…
– Она разговаривает? – перебил инспектор.
Отец промолчал.
– Как давно?
– Возможно, месяц, – ответил отец.
Бабушка не разговаривала полгода. С зимы, точно с зимы, я прекрасно помнил ее последнее слово. «Снежный». Я слепил снеговика, а она сказала «снежный».
– Дальше симптомы будут нарастать, – заверил инспектор. – Поэтому, повторюсь, вам лучше воспользоваться помощью специалистов.
Бабушка стояла, слегка раскачиваясь и нюхая воздух.
– Естественной статистики немного, – сказал инспектор. – В прежние времена мало кто доживал до ста двадцати, а дожившие пребывали не в лучшей физической форме, так что синдром не проявлялся столь ярко. Пока шестьдесят лет назад не запустили планетарную программу геронтологической реконструкции.
– «Лазарь»… – сказал отец.
– «Лазарь», – подтвердил инспектор. – «Лазарь», будь он проклят. Активная старость, долголетие, поэтапное продление жизни, сбережение интеллекта… Казалось, за этим будущее. Однако никто не мог предположить, чем это обернется. К сожалению, Сорокин провел свой эксперимент на десятилетие позже. Впрочем, еще до Сорокина многие генетики предупреждали…
Инспектор уставился на бабушку.
– Предупреждали об определенных пересечениях… Сорокин работал с Ursus maritimus, и все мы знаем, чем это закончилось, но ведь это лишь верхушка айсберга…
Бабушка очнулась и направилась к креслу, медленными, но при этом какими-то длинными плавными шагами. Ее ноги оставались словно приклеенными к полу, бабушка преодолевала невидимую смолу.
– Спастика, пожалуй, сильнее, чем я опасался, да уж… Геном человека…
Инспектор и отец следовали за бабушкой.
– Геном человека и геном аксолотля различаются всего на двадцать процентов, – говорил инспектор. – Как аксолотль по прошествии определенного времени начинает воплощаться в амбистому, так и человек, пережив себя, превращается в то, чем является на самом деле. Неприятное открытие.
– Кто бы спорил…
Бабушка добралась до кресла и неожиданно ловко в него уселась, словно влилась.
– То есть получается, что, с точки зрения биологии, человек есть личинка… будущего зверя? – спросил отец.
– Если упрощать. Впрочем, люди об этом догадывались и раньше, достаточно вспомнить мифы. Энкиду, Горгона, Минотавр…
– А два-три процента? Два-три процента ведь сохраняют…
– Возможно, некая мутация, – ответил инспектор. – Возможно, у этих двух процентов за жизнь накапливаются определенные генетические нарушения, что позволяет или отсрочить, или вовсе пресечь метаморфозу. Но механизм этот неясен, должных данных, сами понимаете, нет.
Отец стал озираться.
– Но если проект «Лазарь» прекращен, то… – отец перешел на шепот. – То можем ли мы надеяться?
Инспектор пожал плечами.
– Увы, сегодня ясно, что примерно в десяти процентах индуцированное долголетие передается по наследству, – ответил инспектор. – Статистика, к несчастью, непреклонна.
– То есть… – отец зачем-то посмотрел на свои руки. – Вы хотите сказать, что я… или мои дети… Мы рискуем дожить?
Инспектор вздохнул.
– Вероятность имеется. Однако мы предполагаем, что постепенно продолжительность жизни вернется к приемлемой норме и тем самым проблема разрешится сама собой. Хотя не исключено, что единичные инциденты будут регистрироваться и через столетия. А пока… Пока паллиативная помощь. И контроль. Как это ни отвратительно, контроль и ограничение дееспособности.
Отец был растерян и расстроен одновременно.
– К сожалению, это абсолютно необратимо, – сказал инспектор. – Повреждения накапливаются, запускается синергия, и в определенный момент ретрогеном атакует… И тогда… И тогда времени не остается. Человек может измениться буквально за одну ночь.
Бабушка вытянула перед собой руки и ловила невидимых бабочек.
– В прошлом месяце мы проверяли ваших соседей в Сосновке, у них было два старика…
– Да-да, я знаю, – отец ласково погладил бабушку по плечу. – Это ужасная история, мы были в шоке… Просто… Просто не укладывается в голове, как такое возможно в наше время.
Про Сосновку я ничего не слышал.
– Мы полагали, что бессмертие есть высшее благо, – грустно сказал инспектор. – Геронтологи замахивались на двести лет, но оказалось, что и сто двадцать есть серьезное превышение естественного предела. Всевышний, сократив человеческий век, совершил величайшее благодеяние. Но самонадеянные дети исказили волю Его и теперь пожинают горькие плоды. Вы поздний ребенок?
Отец кивнул.
– Как и ваш сын…
Бабушка издала громкий утробный звук.
– Мама…
Инспектор оттолкнул отца и выхватил шокер.
– Не надо! – попросил отец.
Бабушка поднялась из кресла, согнулась и вытянула руки перед собой. Ее горло дергалось, надувалось и опадало, надувалось и опадало, на коже шеи и лба вылезли черные вены.
– Отойдите! – приказал инспектор.
Отец послушно отступил.
Бабушка выгнулась и выплюнула что-то размером с куриное яйцо. И почти сразу еще одно. Я свесился с крыши и разглядел. Бабушку тошнило свалянной рыжей шерстью. Влажные комки падали на доски пола.
Отец закричал.
Сейчас, перечитывая рассказ никому не известного Ф. Конрада и сопоставляя его с событиями на Бенедикте, я ясно вижу, как безжалостное будущее заглядывает к нам сквозь отверстие, проделанное излишне любопытным и острым носом, приближается, уже приблизилось. Несчастный бездарный провидец, каким непостижимым образом ты услышал эти железные шаги?
Феликс Конрад не победил в конкурсе романтической литературы, однако его рассказ все же был напечатан в любительском альманахе. Через две недели после этой публикации Мировой Совет свернул программу активного долголетия и прочие исследования в области практической евгеники. Свое решение Совет мотивировал соображениями высшей этики, однако подозреваю (не сомневаюсь), что у него были несколько иные резоны.
На сегодняшний день материалы по практической геронтологии выведены из общественного доступа, даже билет Союза журналистов и прямая протекция Штайнера не дали мне возможности их изучить. Виндж смеется, у меня нет доказательств, но сегодня я не сомневаюсь. Связь.
Апофеники и шизофреники. Безумцы, святые, провидцы, они держат лестницу Иакова слабыми и дрожащими руками, стоят по ее сторонам, в сиянии дня, в шепотах ночи.
Глава 2 Приглашение
Сильно хотелось спать. И не стоило включать комаров, я в этом окончательно убедился. Я был прав, а Костя и Кирилл не правы. А я сразу сказал: комары – это для подготовленных, для групп третьего или четвертого уровня, а здесь уровень первый. К тому же трапперы, это сразу видно.
Но Кирилл настаивал, что без комаров не обойтись. Во‐первых, это станет важным воспитательным моментом, уроком тем, кто злостно пренебрегает правилами безопасности и не сообщает спасателям о своих намерениях и маршрутах. Во‐вторых, это не обычные трапперы, а явные искатели непознанного, например Гипербореи. Именно поэтому они осознанно не сообщили на станцию о своих планах. Именно поэтому они должны страдать, страдать.
Кирилл, старший смотритель, очень не любил искателей Гипербореи еще и потому, что некогда сам был траппером и искателем, но не Гипербореи, а чего-то неизведанно другого, несколько раз участвовал в антропологических экспедициях, два раза ломал ноги в Северных Альпах и, по его словам, бессчетное количество раз чувствовал себя дураком. Поэтому Кирилл выступал за комаров, более того, за мошку. Но сегодня дежурил я. Я мошку отверг, а с комарами кое-как согласился. Обычно я своим группам и комаров выключаю, хотя Кириллу это и не нравится.
Кирилл – старший по станции, ему двадцать восемь, и он на Путоране не первый сезон. Каждое лето прилетает сюда и дежурит два, иногда три месяца. У него обет. Десять лет назад он сам был траппером, их группа заблудилась в Патагонии, они потеряли трансмиттеры и бродили неделю по тесным однообразным долинам, питаясь муравьиными яйцами и отчаиваясь. Потом их нашли спасатели, а Кирилл дал себе клятву, что каждый год будет дежурить на спасательной станции, и с тех пор от слова своего не отступал.
Еще на станции есть Костя. Он в Патагонии не терялся, он разбил лихтер на Иокасте. Разбить лихтер надо постараться, нарочно захочешь разбить – он не разобьется, там все предусмотрено, а вот Костя сумел. Впервые в истории дальнего флота. Этим Костя прославился. И теперь сидит на станции от стыда, пережидает, когда в Академии курсы сменятся.
И я. Я спасателем два с лишним года, хорошая работа, ответственная. И природа тут богатая, водится белоклювая гагара, обитает сибирский углозуб. Путорана сейчас популярна не так, как раньше, но все равно сюда летят и зимой и летом организованные группы каждую неделю. И трапперы.
С трапперами часто возникают самые неожиданные и неподходящие проблемы.
Они поджигают лес и регулярно вываливаются из лодок.
Травятся грибным рагу.
Спорят, кто дольше задержит дыхание, теряют сознание и падают в костер.
Пренебрегают компасами и регулярно теряются.
Давятся камнями. Не знаю, зачем и как, но двое подавились, когда мы их доставили в Красноярск, врачи были удивлены.
Трапперы – самая вредная разновидность туристов, от них постоянные неприятности. Они стирают до костей ноги, среди них отмечен единственный случай стирания щек спасательным жилетом. Этот инцидент недобро прославил нашу станцию и стал поводом для насмешек других спасателей – у траппера успел развиться некроз, и после эвакуации в Красноярск щеки ему ампутировали, а потом два месяца выращивали новые. Последний раз подобный случай имел место в тысяча девятьсот девяносто шестом году, тогда, правда, до некроза не дошло.
Некоторые трапперы умудряются получить солнечный удар. Два раза такое случалось зимой.
А одна подцепила клеща. Когда глава спасателей Носов узнал, он чуть все волосы не вырвал. Прилетел с армией десантников СЭС, закрыли сектор «Азия» и две недели прочесывали местность, и сканерами, и вручную. Носов лично провел двое суток в тайге, лежа на земле и стараясь приманить клещей своим телом. Но на него клещи не соблазнились. Семнадцатая станция прославилась еще громче. Еще бы – считалось, что клещи истреблены во всей Евразии. А вот у нас еще водятся, более того, нападают на туристов.
Организация у трапперов всегда безобразная, не раз случалось так, что после эвакуации они не могли точно сказать, сколько человек отправилось в поход. И мы были вынуждены проходить все плато, каждую расселину, каждое озерцо, все топи и ледники.
Кроме того, трапперы жалуются. Что их неправильно спасли. Что их вообще не следовало спасать. Что их спасал Костя, тот, что разбил лихтер на Иокасте, как таких принимают на службу. По любому поводу трапперы жалуются. Носову. А то и сразу в Совет.
Из-за трапперов наша станция на плохом счету: стажеров к нам отправляют в последнюю очередь, а в прошлом году и вовсе никого не прислали, ховеры у нас пятилетние, хотя на шестнадцатой еще в позапрошлом году поменяли.
После клеща Кирилл велел следить за трапперами особенно тщательно.
Сегодняшние чувствовали себя бодро, высадились в районе Дюпкуна, выгрузились на берег и стали готовиться к сплаву. День был ветреный, в такие дни настоящие туристы на сплав не выдвигаются, но трапперы правилами частенько пренебрегали. Шесть человек и один предводитель, рыжий и крикливый траппер, явно ранее участвовавший в подобных экспедициях. Обычно если в группе есть явный лидер, с маршрута она сходит быстрее. Потому что где-то на второй день лидер допускает неизбежную ошибку и тут же растрачивает авторитет, все ссорятся, команда распадается, и тут из-за камня появляюсь я, спасаю.
Поначалу все шло, в общем-то, неплохо, в соответствии с привычным распорядком. У трапперов имелись два рафта, в один искатели сели сами, в другой погрузили прибор, похожий на теодолит с толстыми ножками. Кирилл предположил, что это топографический сканер, но не стандартный, а модифицированный, с помощью него можно определять, как изменялась местность, глубина в пределах ста тысяч лет, видимо, трапперы планируют узнать, как выглядела Путорана в гиперборейскую эпоху.
Да, поначалу все шло неплохо. Группа, несмотря на ветреную погоду, бодро пустилась в сплав, и рыжий вождь оказался хорош – опрокинул рафт лишь на четвертом пороге. Трапперы попадали в реку, второй рафт сорвался и тоже перевернулся, я с облегчением подумал, что на этом мое дежурство закончится, придется отключать рефрактор и, как уже случалось, доставать из реки потерпевших крушение. Но рыжий предводитель опять оказался на высоте: самостоятельно вытащил остальных, а потом вытянул и теодолит, помощи моей не понадобилось, я остался на дежурстве.
Экспедиция продолжалась, вечером рыжий и прочие трапперы сушились у правильной нодьи, пели туристические песни и явно намеревались приключаться дальше, однако к вечеру ветер стих. И комары.
Кирилл говорит, что раз в пять лет комаров, мошки и слепней вылупляется особенно много, сейчас явно пятый год. Организованные туристы используют выключатели, трапперы никогда. Выключатели, по их мнению, все портят. Если берешь с собой на маршрут выключатель, или навигатор, или сухие искры, то Гипербореи тебе не видать, не покажется, как ни старайся. Поэтому надо терпеть и превозмогать.
И мошка. Кирилл приказал, хотя я был против.
Мошку терпеть нелегко, невыносимо, от мошки трапперы приуныли, на второй день они продвинулись вдоль по реке всего на два километра, и то до обеда, а после обеда они грустили, чесались и окуривались дымом. А на третий день вместо поисков Гипербореи они занимались исключительно ссорами и поисками спасения от гнуса, Гиперборею окончательно забросили. Я их понимал. Однажды ради опыта я попробовал провести сутки без выключателя, выдержал три часа, да и то с трудом.
Когда одна девушка по-настоящему заплакала, я связался со станцией и предложил разогнать гнус – чего людям зря мучиться, все-таки это отдых, пусть и странный. Но Кирилл не велел выключать. Во времена Гипербореи никто комаров и слепней не выключал, заявил он. Кстати, сами гипербореи были суровыми обветренными людьми, об этом есть множество свидетельств, так что пусть искатели соответствуют.
Ну ладно.
На четвертый день я не сомневался, что к вечеру трапперы сдадутся. Утратят последний энтузиазм и отчаются, и когда окончательно отчаются – мой выход. Как бы невзначай показаться за секунду до того, как они запустят трансмиттер. Поскольку, если они успеют активировать маяк и вызовут СЭС, то нам на семнадцатой опять влетит. Искателей-то эвакуируют, а к нам прилетит Носов, устроит собрание, станет ругаться, что мы не работаем. Что наше дело предотвращать, а мы не предотвращаем. Что семнадцатую станцию пора распустить по причине бестолковости – у нас тут все бестолково, и люди, и звери, и природа, распустить немедленно. И чтобы всего этого не произошло, надо проявиться вовремя. Отключить рефрактор, снять маскировочное поле и изобразить…
Обычно я представляю геолога. Трапперы верят этому легко – считают, что если они такие дикие, то и геологи до сих пор рыщут по Земле в поисках пирита, колчедана и кимберлитовых трубок, в подвернутых броднях и с геологическим молотком. Я в виде геолога корректирую им маршрут, подсказываю легкий путь, пугаю скорой непогодой и стращаю слухами о медведе-людоеде, кормлю, спасаю, одним словом…
В этот раз я не успел появиться, людоед меня опередил.
Хромой. Я сразу его узнал. По недостаточному поведению. Судя по вечерней сводке, Хромой должен, как полагается, пастись на семьдесят километров севернее, его угодья там: клюква, малинники, грибные поляны, всего вдоволь, да и мы подкормку разбрасываем. Но, похоже, ему стало скучно на болотах, и, хорошенько нажравшись клюквы, он решил развлечься.
Хромой любит туристов. С детства. Особенно трапперов. Они не проходят инструктаж и частенько подкармливают диких животных, а дикие животные от этого становятся попрошайками, трутся возле путешественников, подлеют, делаются ленивыми, наглыми, так что их приходится отлавливать и отправлять на перевоспитание. Хромого перевоспитывали дважды, второй раз целый год держали, гипнозом лечили, водой, и вроде подействовало – в этом году Хромой из брусничников и малинников не вылезал…
Но вот не сдержался.
Медведь вывалился из кустов, когда трапперы сидели у костра и спорили о том, может ли отпугнуть комаров жженая подошва.
Хромой – самый гадкий зверь на южной Путоране. Он не ворует еду и не попрошайничает, как другие медведи, он любит попугать.
И умеет.
Хромой поднялся на задние лапы и зарычал. Это произвело впечатление на трапперов, но не такое, на которое рассчитывал Хромой, – искатели Гипербореи сплотились вокруг рыжего предводителя, мгновенно вооружились кто чем успел: топорами, ножами, камнями, – а рыжий траппер проявил высокую стойкость – схватил котелок с кипятком для чая и запустил в медведя.
Хромой никогда не сталкивался с подобной агрессией, слегка ошпаренный, он попятился, жалко мяукнул и шарахнулся в кусты, а рыжий велел занять оборону и принялся мастерить оружие.
Когда он приступил к делу, я понял, что дальше тянуть не стоит – в туризме рыжий не смыслил, а в копьях и рогатинах, похоже, разбирался, было ясно, что с Хромым он шутить не станет. А у Хромого ума отступиться не хватит, он дурак. Так что я отключил рефрактор, снял оптическую защиту и в виде геолога выступил из-за камня.
Искатели мне обрадовались и тут же сообщили, что на них напал бешеный шатун. Вообще-то шатуны зимой встречаются, но я трапперов разочаровывать не стал, шатун так шатун, напал так напал, сейчас вроде отступил, но может вернуться. И не один, а со стаей – тут в соседнем распадке у него стая, а он там вожаком, лучше подумать о безопасности и подкрепить силы.
Я разогрел консервы и поинтересовался, чем занимаются трапперы. Искатели стали есть и рассказывать про свою Гиперборею, правда, в этот раз она называлась по-другому, новая Гиперборея. Мне и самому хотелось есть, но я опасался, что после трех суток дежурства усну на полный желудок, а геологи обычно спят стоя.
Рыжий предводитель ел и одновременно умудрялся вооружаться – обжигал на огне копье, а в промежутках между обжиганием копья и поеданием консервов укреплял распоркой рогатину. Я отметил, что рогатина правильная, по старым образцам, если рыжий умелец пустит ее в дело, Хромому не поздоровится.
Я поинтересовался, почему они ищут Гиперборею именно здесь, она вроде севернее, на что мне их рыжий руководитель ответил, что у них есть свежая гипотеза. Он сам доктор этнологии, специалист по северному эпосу, так вот, у эвенков…
Тут опять из кустов вывалился Хромой. Конечно, никакую стаю с собой он не привел, потому что стаи не было, а если бы была, то такого дурака, как Хромой, никто бы вожаком не избрал.
Вывалился, мало ему кипятка.
И не смог придумать ничего оригинального, как обычно, встал на задние лапы, зарычал и сделал шаг.
Рыжий завопил, схватил копье, упер его в землю и едва не проткнул Хромого, но тут вмешался я. Я толкнул копье в сторону, сорвал с пояса баллон и прыснул Хромому в морду. «Маленький Му», медведи его не переносят. Хромой обиженно заревел и ухнул в заросли. Недели на две хватит, потом опять за свое примется, возможно, Кирилл прав, пора Хромого отселять на Камчатку.
Хромой орал и ломился через зелень, а трапперы, судя по суровым лицам, собирались преследовать бешеного шатуна, так что пришлось мне их успокаивать и убеждать в том, что опасный зверь обезврежен, добивать его не стоит, пусть живет.
Трапперы кое-как успокоились и заверили, что не собирались его насмерть, так, немного проучить, отделать хорошенько палками, потыкать рогатиной. Я поинтересовался – не надо ли вызвать на всякий случай ховер со спасательной станции, может, у кого-то шок, трапперы дружно отказались. Настаивать я не стал, понятно, что к утру, скорее всего, согласятся на эвакуацию. А не согласятся, так включу дождь. А потом возьму выходной. А лучше два, отосплюсь, устал не спать, и вообще…
Кирилл вышел на связь и сообщил, что прилетел отец и что ему надо срочно со мной поговорить. Я ответил, что занят, ситуация напряженная: Гиперборея, шатун и трапперы с копьями, но Кирилл повторил, что это срочно и важно, и он как старший дежурный приказывает немедленно сняться с маршрута и вернуться на базу. Я спросил, что нужно отцу, а Кирилл ответил, что не знает, но дело, похоже, действительно серьезное – отец взволнован. И что Кирилл уже отправил на смену Константина, тот на подлете, через три минуты встанет на поляну, лучше поторопиться.
Костя человек ответственный, ему можно доверить Рыжего и компанию. Но на всякий случай я оставил трапперам баллон с «Маленьким Му» и посоветовал при появлении медведя громко кричать и стучать в посуду, после чего пожелал успехов в поисках и удалился, до поляны за три минуты не успею, тут через болото.
Так и получилось, за три минуты не управился, десять минут на болото, и еще потом, и на точку вышел через четверть часа.
Поляна пустовала. Обычно мы подвешиваем ховеры в двух метрах над поверхностью, но поляна глухая, некрасивая… то есть неживописная, трапперы на нее не суются. Поэтому здесь мы просто включаем маскировку… ага – Костя, наряженный геологом, спрыгнул из воздуха на траву.
Я поспешил к ховеру.
– К тебе там отец прилетел. Ждет…
Костя махнул в сторону станции.
Костя смотрел на меня странно. Вернее, никак не посмотрел, мимо смотрел. Я испугался. Мама сейчас на Меркурии, это не Япет, но и на Меркурии всякое приключается, гейзеры, плавни, солнце опять же в последние годы активное, вон как слепни развелись…
Вряд ли. Если бы что-то случилось на Меркурии, давно бы сообщили, зачем отцу прилетать лично? Значит, другое.
Я выдохнул.
Если не Меркурий, то воспитание. Примерно раз в год отец пытается меня вразумить, это у нас в семье традиция. Последний раз прилетал семь месяцев назад, что-то он рано, еще не время…
– Понятно, – сказал я.
– Как Хромой? – спросил Костя.
– Безобразничает немного. Обрати внимание.
Костя легкомысленно кивнул.
– Ты проследи за ним хорошенько, – настойчиво попросил я. – А то третьего перевоспитания он не переживет, у него и так нестабильность.
– Э…
Костя почесал голову.
– Может, петлю поставим? Или трещотку? Давай подвесим трещотку, пусть немного побегает…
Я представил, как Хромой носится по окрестностям с трещоткой над головой.
– Да не надо трещотки, он сам исправится, я потом прослежу. А ты лучше с Рыжим… с главным этим… держись осторожнее, – посоветовал я. – А то как в прошлом году получится.
– Ну да, как в прошлом не надо… У тебя, кстати, что-то с костюмом, сияешь.
Костя постучал мне по плечу.
– Опять зеленым?
– Угу. Соты, похоже, выгорают, пора рефрактор менять.
– Поменяю, – пообещал я.
– Поменяй-поменяй, а то опять пойдут слухи про плазмоидов… нам тут еще криптологов не хватает, Кирилл взбесится…
Это точно, в прошлом году криптологи надоели. И вообще, Кирилл криптологов не переносит, если они опять сюда сунутся, Кирилл наверняка возьмет отпуск…
– Ну я пошел.
Костя отправился в сторону трапперов, а я забрался в ховер и полетел на станцию, хотя тут и лету никакого, вверх-вниз.
Отца я увидел издали. То есть с высоты. У моего отца есть редкое умение – быть заметным, он идеально заполняет пространство, мама до сих пор советует ему играть в любительском театре и иметь успех. Отец стоял на стартовой площадке и смотрел на меня. Неодобрительно, одобрительно он никогда не смотрит.
Из здания спасательной станции показалась еще одна фигура. Брат. Поднялся из своих излюбленных глубин и прибыл на Путорану, необычайно удачный день. И не сбежать. Некуда бежать, я почувствовал сильное желание вернуться к трапперам, зачем я вообще снялся с маршрута?.. Мог бы вчера по-человечески провалиться в топь, у нас тут много хороших топей.
Отец помахал рукой.
Я поставил ховер в дальнем углу площадки. Мог бы вчера по-человечески – угореть у костра. Схватиться с Хромым, получить пару царапин, пару сломанных ребер, лечь в медотсек, у профессии спасателя столько преимуществ, надо их хоть иногда использовать. Спастись можно и сейчас. Вернуть маскировку и потихонечку удрать, а ховер мог и на автопилоте вернуться… Соты сияют зеленым, заметят. Да и стыдно. И брат… будет потом всем рассказывать, что я малодушно удрал, притворившись невидимым.
Я откинул фонарь и спрыгнул на песок. Отец и брат подошли.
– Нам надо поговорить.
Отец улыбнулся, обнял. Я заволновался – отец никогда меня не обнимал.
– Рад вас видеть…
Вряд ли мама. Если бы мама, брат не прилетел бы.
– Нам надо поговорить, Ян, – повторил отец. – И лучше сделать это не здесь… Я побеседовал с твоим начальником, он тебя отпускает.
Вернусь, Кириллу не поздоровится.
– Куда отпускает? – спросил я.
– Домой. На три дня.
– Я не хочу на три дня, у меня шатун-людоед…
– Ян! – отец слегка повысил голос. – Это серьезно. Более чем серьезно! Тебя вызывают…
Из здания станции вышел Кирилл со стаканом чая, лимонным пирогом, с явным намерением насладиться полдником и сценой из семейной жизни.
– Давай поговорим… не здесь, – отец покосился на Кирилла. – Это весьма деликатный вопрос…
Брат громко высморкался. Кирилл вернулся на станцию.
– Нам пора, – сказал отец. – Я хочу быть дома к вечеру.
Подавиться камнем, в принципе, несложно.
Через пять минут мы шли по каньону над рекой, над зелеными берегами и серыми скалами, скалы задирались по сторонам, отчего казалось, что ховер скользит по огромному желобу.
Отец молчал. Брат молчал, он вообще пока ничего не произнес, поглядывал на меня… с сожалением. И сморкался, хотя простуженным не выглядел, сморкался тоже с сожалением.
Скоро каньон стал широкой долиной, а река – озером, над ним тряска усилилась, отец прибавил высоты и поднялся над уровнем плато.
Изъеденный язвами и морщинами миллиардов лет горб древнего мира… Каждый раз, когда вижу Путорану с высоты, я чувствую время, я словно смотрю в лицо вечности, с трепетом и почтением… Так говорил Кирилл, а я никакой вечности не чувствую, красивые горы, красивые каньоны, и все тут, думаю, и Кирилл это где-то вычитал.
Отец все еще молчал.
Когда он так молчит, лучше переждать, да и не до разговоров ему – после взлета отец сосредоточенно боролся с управлением и с воздушными ямами, отчего ховер трясло и мотало сильнее.
Над Путораной всегда трясет, и зимой, и летом. Это из-за арктических масс, они разгоняются, скатываясь с полярной шапки, сжимаются и густеют на северных отрогах, вдавливаются в каньоны и долины, текут над плато, смешиваются с влагой, кружатся омутами, бьют неожиданными воздушными фонтанами, закручиваются твистерами, атмосферная карта здесь похожа на калейдоскоп, ситуация меняется ежесекундно. Именно поэтому у нас никто на ручном управлении не ходит, удовольствия мало, но отец, как всякий центральный житель, чистосердечно презирает автоматизацию и ховером управляет сам.
Плохо управляет, ориентируется по солнцу, слишком к северу забрал, минут двадцать до дому потеряем, не меньше.
– Лучше взять чуть левее, – предложил я. – То есть восточнее, вон над той речкой.
Отец не ответил. А брат высморкался громче. Простуда. И бледный. На Сайпане все загорелые, коричневые, а брат бледный, наверное, из глубины совсем не поднимается, сидит на дне.
Сидит на дне, а нервный.
Все-таки стоило поломаться с Хромым, подумал я. А трапперы меня бы спасли и выносили три дня из болот, чувствуя себя героями, а я бы отдыхал на самодельных носилках и…
Опять высморкался. Кажется, брат растерян, обычно он все же держит себя в руках. Хотя бы какое-то время.
Я не разговаривал с братом… два года, с последней драки. Точнее, он со мной не разговаривал, я тогда победил. А я ему четыре письма на дно отправил, а он не ответил.
Ладно.
Я отвернулся и стал смотреть вниз.
Вода. Лес. Солнце. В солнечный день здесь красивее, краски приобретают дополнительные качества, необычные оттенки, искру, сияние.
Отец, разумеется, курс не поменял. Над Большим водопадом мы поймали хорошую просадку, ушли метров на пятьдесят, отец резко прибавил оборотов и дернул сенсоры, двигатели подкинули ховер на полкилометра вверх, где затрясло по-настоящему – я‐то к тряске был готов, а вот отец нет – прикусил язык, ругнулся и в конце концов не выдержал и включил автопилот. Болтанка тут же прекратилась, скорость увеличилась, ховер откорректировал коридор, мы повернули к югу.
Брат во время болтанки набил шишку, я предложил ему вечный лед из аптечки, он отказался, высморкался пренебрежительно. У брата тоже есть театральные способности, выразительно сморкаться – это редкая способность.
Вышли на Тунгуску. В Тунгуске водятся красноперый хариус, ленок, таймень, можно поговорить с братом о рыбах, он ведь ихтиолог. В девятнадцать лет он открыл тень-сома, а сейчас занимается глубоководными видами, на его счету полторы дюжины рыб, найденных в пещерах, пролегающих под дном Тихого океана. Это зубастые и пучеглазые твари одна страшней другой, и каждая носит имя моего брата. Брат постоянно сидит на глубине и изучает прозрачных стеклянных уродцев, отчего стал немного похож на них: кожа бледная, лицо костистое, еще немного – и на носу вырастет манок для привлечения менее удачливых ихтиологов.
Насколько я знаю, брат полтора года охотится за невозможной двуроткой, близок к ее поимке и увенчанию лаврами, если бы не серьезное обстоятельство, брат на поверхность не поднялся бы. Явно.
Отец хмурился, пытаясь определить – стоит ли побеседовать сейчас или отложить до дома, до спокойной обстановки…
Еще в Тунгуске водятся тугунок, карликовый сиг. Над Тунгуской отец все-таки обернулся и протянул конверт.
– Возьми.
– Что это? – спросил я.
– Это тебе.
Я взял конверт. Тяжелый. Фамилия и просьба вручить непременно в руки. Вскрыт.
Понятно.
– Извини, – сказал отец. – Он открыл… Мы думали, что-то случилось… Что-то…
– Там только фамилия, – заговорил брат. – Я не знал, что это тебе, извини.
Я достал из конверта лист. Толстая, чуть синеватая шершавая бумага, написано от руки, почерк красивый, строгий.
Имя, фамилия, возраст. Прочитал.
– Я не очень…
– Тебя зовут в Большое Жюри, – перебил брат. – Что тут непонятного?
Брат определенно злился, потирал лоб и злился, уже не сожалел.
– Возьми лед, – снова предложил я. – Шишка же…
– Ты хоть знаешь, что такое Большое Жюри?! – не услышал брат.
Я примерно представлял, что такое Большое Жюри, но не помнил, когда оно собиралось последний раз, давно, значит.
– Это розыгрыш, – сказал я. – Большое Жюри сто лет не собиралось. Это шутка.
Брат рассмеялся. Мой брат мастер смеха, умеет смеяться десятками разных смехов. А скоро он станет мастером сморкания, он уже на этом пути.
– Это не розыгрыш, Ян, – вздохнул отец. – Боюсь, что это не розыгрыш.
Вышли к Енисею.
– Ты представляешь, какая это ответственность?! – спросил отец.
– Да, – ответил я.
– Нет, боюсь, ты не представляешь…
Отец погрозил пальцем, не мне, а как бы кому-то другому, сидящему у меня за спиной. Отец, когда принимается рассуждать о важных с его точки зрения вещах, становится чересчур серьезным, говорит нарочито отчетливо и делает руками деревянные жесты.
– Ты совсем не представляешь…
В Енисее осетр и стерлядь.
Кажется, я сказал это вслух.
– Ты хоть знаешь, кто входил в Большое Жюри?! – выкрикнул брат. – Какие люди?!
Я промолчал. А брат стал рассказывать, кто входил в Большое Жюри раньше. Великие. Ученые, основоположники научных школ, гении, провидцы, подвижники. Исследователи пространства, Брок, тот самый, что открыл Иокасту. Философы – Метцнер, например, два раза входил. Великие писатели. Великие музыканты. Великие организаторы. Незаурядные люди. Я слушал, смотрел на Енисей, мне Енисей из рек нравится больше всех, особенно после полудня.
– А теперь в Большое Жюри войдет наш Ян! – закончил брат.
– И что? – спросил я.
– Что?! Что ты там делать будешь?!
– Буду как все, – ответил я.
Брат опять расхохотался.
– Он прав, Ян, – сказал отец. – Это, по крайней мере, смешно…
Енисей по-особому блестит, из глубины.
– Там наверняка расскажут, что надо делать, – предположил я. – Как-нибудь справлюсь…
– Ты не можешь относиться к этому так легкомысленно, – продолжал отец. – Так нельзя…
– А что легкомысленного-то? – спросил я.
– Ты… Мы… Мы должны это всесторонне обсудить… Во‐первых, у тебя нет никакого опыта, ни жизненного, ни профессионального! Уж извини, но о многих предметах ты не можешь судить в силу своего… возраста. Во‐вторых, ты не работал в ойкумене. Да и вообще в дальнем космосе не был, дальний космос – это специфика… это, как ты знаешь, эвтаназия, а многие… многие плохо переносят смерть… А тебе предлагают не просто ойкумену, тебе предлагают отправиться на Реген! На Реген, ты понимаешь?! Я даже не знаю, сколько это векторов!
– Но меня выбрали…
– Тебя не выбрали! – вмешался брат. – Письма рассылаются случайно, могло любому прийти, могло мне прийти…
– Но не пришло, – заметил я.
Брат покраснел. Он всегда так краснел, перед тем как наброситься. Это очень удобно, я за полминуты знал, что он готовится прыгнуть.
– Письмо пришло мне, – повторил я.
– Письмо может прийти всякому… – брат пропустил слово. – Но это не означает, что всякий… индивид… должен соглашаться на приглашение!
Енисей красив в полуденном солнце. В нем водится стерлядь, водится четырехрогий бычок.
Покраснел, но не решился, мы давно не дрались, с тех пор как я поступил на семнадцатую станцию. Два с лишним года.
– Ян, твой брат прав. Письма рассылаются произвольно, и адресатом может стать любой, выборка случайна, но… но человек… любой человек, которому придет приглашение, должен сознавать ответственность… Ян, Большое Жюри собирается исключительно по важнейшим вопросам… от них зависит… будущее. Будущее человечества, будущее всей Земли!
Отец указал пальцем вниз. Енисей был гладок и неподвижен. Кажется, на Дите есть Енисей.
– Так мне повезло? – не понял я.
На всякий случай я еще раз перечитал письмо.
– Или не повезло?
– Повезло?! – воскликнул брат. – Не повезло?! Ты что, издеваешься?!
Я не издевался. Мне не понравилось, что брат открыл конверт, а еще больше, что он, скорее всего, сделал это не потому, что интересовался содержимым, а из вредности. Он и раньше так делал, с мамиными письмами.
– Ты хоть знаешь, чем занимаются на Регене?! – спросил брат. – Ты хоть слышал про него?!
Я слышал про Реген, про него слышали все, у Кирилла, старшего спасателя семнадцатой станции, там родственник работал. Реген, тип Земля-прайм, пригодна для глубокого терраформирования. Экспериментальная база Института Пространства. Население… в основном научные работники, население немногочисленно, по этой причине Реген не входит в кадастр обитаемых миров. Животный мир небогат. В водоемах насекомые, рыбы нет.
– А почему Большое Жюри собирается на Регене? – спросил я.
Отец и брат переглянулись.
– Ты что, на самом деле не понимаешь? – спросил брат с сочувствием.
– Нет, – признался я.
Думаю, больше с сочувствием к отцу.
– Ян, на Регене расположен Институт Пространства, – сказал отец.
– Да, я знаю… У Кирилла там племянник работал… изучал пространство. Кирилл – это наш начальник, ты с ним говорил.
Брат опять с трудом удержался, очень ему хотелось меня передразнить, трудный день у брата сегодня.
– Большое Жюри… если его сессия действительно состоится на Регене… вероятно, это будет связано с синхронной физикой. То есть непременно связано, зачем еще…
– Синхронная физика в тупике, – перебил отца брат.
– Да? – спросил я. – А я думал, наоборот…
– В тупике, – подтвердил брат.
– А я слышал, что там прорывы… Что уже почти…
– Триста лет уже почти!
Брат не удержался и стал объяснять. До дома оставалось около часа. Я слушал про коллапс, и прогресс, и фантомов, и глядел вниз, на камни, зелень и воду. Я не очень интересовался проблемами синхронной физики, смотрел, как все, «Бездну», что-то помнил из школьного курса… не очень хорошо помнил. С бабушкой в «Получок» играл… и дедушка… он сделал ножик, вырезал на нем свои инициалы и утопил в Антарктиде…
– Ты понимаешь?!
Я оторвался от проплывающего пейзажа.
– Да, – сказал я. – Все понятно.
– Что же тебе понятно? – спросил отец.
– Тупик и кризис… Заседание Большого Жюри связано с тупиком… Синхронные физики неоправданно создавали гигантские фантомы…
Брат хрустнул пальцами. Внизу остров, на нем черная смородина, наверняка.
– Ян, это важно, очень важно, – сказал отец. – Скорее всего, Большое Жюри будет решать вопрос о заморозке исследований в этой области.
– Хорошо…
– Ты что, нарочно?! – крикнул брат.
Я вздрогнул.
– Вы же сами про тупик сказали… Про фантомы.
Отец сощурился, брат сложил руки на груди.
– Давайте держать себя в руках, – попросил отец. – Это серьезнейший вопрос, не хватало нам еще склоки… В конце концов, вы не дети…
Черную смородину надо протирать с сахаром, а потом пропускать через пресс, получается желе, мы так каждую осень две бочки заготавливаем, у меня хорошая работа.
– От решения, которое вынесет Большое Жюри, без преувеличения зависит будущее. Будущее синхронной физики, будущее человечества. Это не громкие слова, это… Это не громкие слова…
Это действительно так. Судя по всему, Мировой Совет в шаге от того, чтобы признать синхронную физику тупиковой ветвью развития физики пространства. Такое признание станет серьезным шоком, и дело тут не в ресурсах, человеческих, материальных или иных, опасность заключается в том, что за последние столетия никакой альтернативы синхронной физике предложено не было. Приостановка исследований потока Юнга – это фактически отказ от идеи экспансии, от идеи преодоления пространства, собственно, от той идеи, что вела и держала нас на протяжении всей истории. Мы будем вынуждены смириться с ограниченностью наших возможностей, смириться с тем, что ответы на главные вопросы не будут получены. Сможем ли мы принять поражение, сможем ли оправдать бессилье, как это повлияет на судьбу человеческой расы…
Отец странно говорил. Со мной он говорит терпеливо, взвешенно, с братом легко и шутливо, с мамой нежно, а сейчас он говорил будто с посторонним, словно в кокпите присутствовал кто-то еще, за спиной…
– Не понимает, – прошептал брат. – Он действительно не понимает…
У моего брата хорошая работа. Сиди на дне, погружайся в пещеры, лови зубастых рыб и придумывай им названия, а когда всех переловишь, можно перебраться на Селесту, там морей полно, ныряй себе, лови, сравнивай их с земными, составляй атлас различий.
– Ладно, я не очень… не очень понимаю… Что вы от меня хотите?
Брат возмущенно прищелкнул языком.
– Мы хотим от тебя взрослого отношения. Ответственности и понимания.
Сказал отец.
Брат промолчал.
– Хорошо, – согласился я. – Я никуда не полечу.
Глава 3 «Тощий Дрозд»
Повторите, пожалуйста.
Все говорили, что надо увидеть сову, но в свою первую смерть я видел лишь темноту. Вернее, ничего не видел. Я умер, я воскрес. Несколько секунд после тьмы чувствовал на переносице холод. Однажды брат так пошутил – я уснул, а он принес сосульку и положил мне на лоб. И мне сразу же стали сниться сугробы, льдины и другие холода. А в первую смерть ничего, только в ушах потом чесалось. Я повторил, пещеры воды, лавр, воды… еще что-то… цветы зацветут…
– Уважаемые пассажиры, VDM-фаза завершена, приятного пробуждения!
Я воскрес и открыл глаза.
Не все хорошо переносят первую эвтаназию, преодоление барьера Хойла, прыжок, последующую реанимацию, говорят, что некоторые вовсе не возвращаются из первой смерти, так в ней и остаются. Я в это не верю, я умер и воскрес через шесть минут и пятьдесят световых лет, были сухи и скорбны листы, были сжаты и смяты листы, за огнем отгоревшего, повторите, пожалуйста.
Тест.
Я повторил. Один раз запнулся, в пределах.
Стазис-капсула успела демонтироваться, надо мной был низкий потолок каюты, под потолком покачивала крыльями деревянная утка счастья. Вырезанная из северной яблони, или из липы, или лиственницы, нос этой утки всегда смотрит на Землю.
– Пожалуйста, задержите дыхание.
Я задержал дыхание, две минуты.
Тест.
Я могу на пять, если что, а если плыть, то на три.
– Сатурация в норме.
Я вдохнул. Сейчас утка смотрела в сторону двери каюты. Глаза у утки круглые и выпуклые. Похожа на утконоса с крыльями.
– «Тощий дрозд» прибыл в точку промежуточного финиша, первый вектор завершен. Рекомендуем не пренебрегать медицинскими процедурами и не совершать резких движений, примите электролит.
Я выбрался из капсулы и обнаружил, что левая нога слегка подрагивает, наверное, процедурами действительно не стоит пренебрегать… да и электролитом… пить охота…
Я вскрыл банку с электролитом, выпил. На вкус как соленая вода.
– Первый прием пищи не раньше чем через два часа…
«Тощий дрозд», голос капризный, считается, это отвлекает пассажиров от мыслей о смерти.
Рассказывали, что в первый раз может что-нибудь омертветь – кончики пальцев, щеки, уши, у некоторых немеют веки, или на теле появляются нечувствительные пятна, смерть оставляет метку, отпечаток ладони. Hexekuss, тавро Хойла.
Рассказывали про свет. Что некоторые после смерти видят свет, яркий, после пробуждения еще несколько секунд он сияет в глазах. Свет, после которого мир кажется серым, картонным, ненастоящим.
Говорили про голос, прекрасный настолько, что его хочется слушать вечно и возвращаться нет сил.
Отец рассказал мне про свою первую смерть. Он, будучи аспирантом, шел на «Сиплой» к Сердцу Карла и именно тогда первый раз перенес VDM-фазу. После воскрешения его преследовало острое ощущение отделения от тела и от окружающей реальности, затихавшее несколько дней, каждое движение сопровождалось нейроэхом, стены каюты покачивались и расплывались, коридоры мучительно двоились. Это затихало несколько недель.
Техника эвтаназии с тех времен заметно усовершенствовалась – я никакого отделения не чувствовал, стены оставались недвижимы, ни света, ни голосов, и ничего вроде не омертвело. Нога немного. А зуд в ушах прекратился, и почти сразу заглянул доктор с блокнотом и портативным медсканером, поинтересовался, не чувствую ли я запах хвои.
А брат…
Брат про свой первый вектор не рассказывал вовсе.
Доктор Уэзерс, бортовой медик, лет шестидесяти, хотя кто его знает, пространство влияет на людей, на каждого по-своему.
– Я не чувствую запаха хвои, – ответил я.
– А у меня в первый раз был можжевельник, – ностальгически признался доктор и навел на меня сканер. – Знаешь, на Валдае есть можжевеловые рощи, в жаркий полдень, когда на ягодах закипает сахар, воздух наполняется ароматом, от которого слезятся глаза…
Доктор несколько раз втянул воздух, словно надеясь почувствовать можжевельник своего детства, разочарованно улыбнулся и принялся проверять показания медсканера.
– Это ведь как рождение, – бормотал доктор. – Но родиться можно один раз, а умереть, получается, сотни… Умри-воскресни, смерть-жизнь, тик-так, тик-так, что видел, если не секрет? Приснилось что в летящем смертном сне?
– Я не очень… помню… – сказал я на всякий случай.
Доктор Уэзерс отложил сканер и сделал отметку в блокноте.
– Понятно… А как зрение? Неприятные ощущения… мертвые поля, мерцание? Зажмурься!
Я зажмурился, а доктор стал довольно болезненно давить мне на глаза через веки. Я увидел множество бордовых и оранжевых пятен, крутящихся безо всякой системы, доктор резко надавил сильнее, так что я дернулся, но Уэзерс не отступил, продолжил копаться в моих глазах.
– Все вроде в порядке, – заверил доктор через минуту. – Рефлексы в пределах нормы, показатели… стандартные, левая нога… немного повышен тонус, обязательно прими электролит. Сейчас же!
Я снова принял электролит.
– Рекомендую пойти размяться, – посоветовал Уэзерс. – Общая длина палуб «Дрозда» семь километров, прогулка позволит улучшить мозговое кровообращение… но к вечеру голова все равно заболит, предупреждаю заранее. Не забывай про электролит. И пообедать! Обязательно пообедать!
Я пообещал погулять, улучшить и пообедать, и не забывать про электролит, доктор удалился, и явилась Мария в фиолетовых очках, и с порога спросила, видел ли я сову, и, не дожидаясь ответа, сообщила, что она да, сова сидела на камне, вертела сиплой… сизой головой…
– Что у тебя с глазами, Мария? – спросил я.
Мы познакомились в пассажирском терминале Лунной базы, Мария сидела на оранжевом чемодане и ела мороженое, больше в зале никого, вероятно, остальные члены Большого Жюри погрузились раньше.
– Мария, – представилась девушка.
– Ян.
– Ты на Реген? – спросила Мария. – Если туда – можешь отдыхать. Часа полтора еще ждать, не меньше.
– Что случилось?
– Инженер трюма не явился на борт, – ответила Мария.
Мороженое апельсиновое в шоколадной глазури, я тоже такое люблю.
– Не явился?
– Не явился, – подтвердила Мария. – Теперь, думаю, ищут замену. Зачем вообще нужен инженер трюма? Без него никак?
Мы сидели в пустом пузыре терминала, а я думал, что все не так уж и плохо. Да, я не особо рвался на Реген, но, с другой стороны, это путешествие могло получиться.
– «Тощий дрозд» – это грузовик, – сказал я. – Трюм большой, грузов много, без инженера на векторе никак, вдруг что-нибудь… открепится…
Мария, кажется, не скучная.
– А потом, штатное расписание нарушать нельзя – с этим в космофлоте строго…
– Рассказывай-рассказывай, – ухмыльнулась Мария. – Знаю я, как у них строго… Я, между прочим, должна была лететь через полтора месяца. Через полтора! Я собиралась в Рим, поработать над диссертацией – и тут вызов! Через полтора месяца никак не получится, или сейчас или жди полгода. Я решила, что лучше сейчас. Я все бросила, не успела толком собраться, со мной связались сегодня в одиннадцать, а через три часа я на Луне… И узнаю, что инженер не явился! А ты про расписание…
Мария вздохнула.
– Я поражаюсь, как мы вообще умудрились добраться до звезд!
– Ну…
Я не придумал что ответить.
– Как-то долетели… – сказал я.
– Летает гагара, – перебила Мария. – И томагавк.
Мария поглядела на меня с подозрением.
– Что? – осторожно спросил я.
– Я знаю как минимум пять книг, в которых интрига строится на том, что перед рейсом грузовой инженер отравился голубцами и вместо него отправился случайный человек. И ничем хорошим это не закончилось…
Отравиться голубцами не так уж и плохо.
– Нет, я никого не заменяю, – заверил я. – В том смысле, что я не вместо инженера, я сам по себе…
– Физик? – перебила Мария. – Или навигатор? На навигатора не похож…
– Почему?
– Они лысые. Голову нарочно полируют, чтобы нейросенсоры плотнее прилегали.
Я машинально потрогал волосы.
– И втирают масло оливы…
– Нет, я не… навигатор. Я спасатель.
– Зачем на Регене спасатели?
Я растерялся, а Мария ответила сама:
– Понятно зачем. Туристическую секцию станешь вести… ну и спасешь кого при случае. Там, насколько я знаю, есть и реки, и болота – кто-нибудь обязательно провалится в провал, или будет тонуть, или заблудится, а ты рядом. Так?
– Да… А ты? Ты чем занимаешься?
Мария не ответила.
– Ты – воспитатель! – предположил я.
– На Регене нет детей, а физиков воспитывать бессмысленно, – возразила Мария. – Я не воспитатель.
– Тогда биолог. Могу поспорить, ты любишь животных… медведей, гагару… латимерию.
В терминал вошел человек в блестящем глубинном костюме. Не в скафандре, а именно в подводном костюме, в тяжелых балластных башмаках и в круглом медном шлеме, мне показалось, что с костюма даже капала вода.
– Интересно-интересно… – сказала Мария. – Откуда тут сей водолаз?
Вообще-то на Лунной базе есть искусственные водоемы, находящиеся под поверхностью, – Море Спокойствия, Берег Прибоя, Берег Надежды. А на этих водоемах пляжи, сосны и дюны, рыбалка и серфинг, возможно, водолаз обслуживает гидравлические системы. Ходит по трубам, чистит водосбросы, пугает расплодившихся в коллекторах кальмаров.
– Это, наверное…
Водолаз тяжело прошагал мимо, на нас внимания не обратил, я почувствовал сильный запах водорослей и еще чего-то морского, из пучин.
– Это, пожалуй…
– Все понятно, – прошептала Мария. – Это он.
– Кто он? – так же шепотом спросил я.
– Поток Юнга.
Мария повертела пальцем вокруг головы.