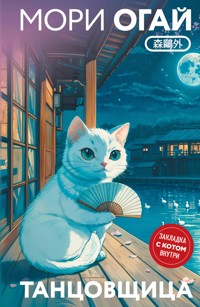
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Маскот. Путешествие в Азию с белым котом
- Sprache: Russisch
Среди рассказов на страницах книги вы найдете автобиографическую повесть. Молодой японец приезжает по работе в Германию и случайно встречается с хорошенькой танцовщицей. Общество осуждает их связь, а тем временем девушка понимает, что беременна… Мори Огай и его произведения становится в один ряд с такими значимыми японскими авторами, как Нацумэ Сосэки и Рюноскэ Акутагава. Благодаря их влиянию выросли современные японские писатели Харуки Мураками и Содзи Симада.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Огай Мори Танцовщица
© Иванова Г. Д., перевод на русский язык, 2025
© Лаврентьев Б. П., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Мори Огай и его время
Мори Огай (1862–1922) – одна из наиболее значительных фигур в японской литературе на рубеже XIX и XX веков, наряду с Нацумэ Сосэки и, может быть, Акутагавой Рюноскэ, выступившим на литературной арене примерно на два десятилетия позже того и другого.
Время, в которое жил Огай, было наполнено для его страны значительными переменами. Родился он в небольшом городке Цувано на западе острова Хонсю. Как раз к тому времени, когда он пошел в начальный класс местного училища Ерокан, произошла буржуазная революция Мэйдзи[1] (1868). Военно-феодальный режим Токугава был низвергнут, но последствия двух с половиной веков его правления чувствовались в стране. Стремясь избежать колониальной зависимости, в которой оказались тогда многие страны Азии, правительство Токугава с начала XVII века почти наглухо закрыло двери страны для иностранцев, равно как и выходы за рубеж для собственных граждан. За эту крутую политику японцы расплачивались отсталостью – в стране господствовал ручной труд, а утонченная гуманитарная культура, развивавшаяся в условиях островной замкнутости, составляла достояние весьма узкого элитарного круга при императорском дворе.
Наиболее проницательные умы Японии уже давно рвались из оков средневековых пережитков, протестовали против строгой регламентации всех сфер деятельности. Революция Мэйдзи развязала многие узлы, перед страной открылись новые возможности, и она стала быстро, даже лихорадочно модернизироваться. Протекала эта модернизация преимущественно путем приобщения к цивилизации более развитых стран Запада. Японцы стали интенсивно ездить в Европу и приглашать к себе иностранных учителей.
Отец Огая служил лекарем при своем феодале – князе Цувано. Огай, как и полагалось старшему сыну в семье, пошел по его стопам – поступил на медицинский факультет Императорского университета в Токио. Уже в девятнадцать лет он оказался в числе первых выпускников, его незаурядные способности были замечены наставниками. Вскоре он был командирован на стажировку в Германию, где ему посчастливилось заниматься у знаменитых профессоров – Р. Коха, Р. Вирхова, Μ. Петтенкофера. Четыре года немецких университетов (1885–1889 гг.) явились для него временем подлинного становления.
Специализировался он в области санитарии и гигиены. Но всем предшествующим воспитанием (он с детства изучал китайский, голландский, немецкий языки), энциклопедизмом своих предков, сочетавших врачебную и книжно-конфуцианскую ученость, он был подготовлен к необходимости постижения как естественно-научного, так и гуманитарно-литературного знания. Уже в первый год пребывания в Берлине он собрал библиотеку из ста семидесяти томов, среди которых были Эсхил и Софокл, Еврипид и Данте, Гёте и Ибсен… Позже он отмечал поразительное сходство во взглядах китайских и европейских мыслителей и литераторов.
В Берлине Огай полюбил голубоглазую немку Элизу. Брак с иностранкой представлялся в те годы практически невозможным, друзья и семья взывали к его «благоразумию», и Огай вынужден был расстаться с девушкой. Воспоминание об утраченной возлюбленной Огай пронес через всю жизнь, оно щемящей нотой прошло через многие его произведения. В дальнейшем Огай дважды женился по семейному сватовству, имел четверых детей, но ни первый, ни второй брак не принес ему счастья.
Личная любовная драма легла в основу его дебютной повести «Танцовщица» (1890). Точного воспроизведения обстоятельств его собственной жизни она не содержала, из-под пера начинающего мастера вышла как бы обобщенная исповедь целого поколения японцев эпохи Мэйдзи. В ней нашли отражение проблемы, возникавшие при соприкосновении с западным миром. Итак, молодой японец возвращается домой, оставив в Германии женщину, ожидающую ребенка; неутешная Элиза теряет рассудок. В следующем рассказе «Пузыри на воде» Огай повествует о романе между приехавшим в Мюнхен японским художником и натурщицей Мари, в этом случае девушка гибнет в волнах озера. В этих романтических и немного сентиментальных произведениях рассказано о трагических коллизиях, нередко возникавших при первых контактах японцев с Западом. Герои бичуют себя за неспособность к ответственным решениям, за свою зависимость от традиционного воспитания, от взглядов своей среды. В них также нашел отражение процесс становления «современной личности» в тогдашних условиях страны.
Творческий дебют Огая состоялся в ту пору, когда японская литература оказалась на распутье. С наступлением новой, капиталистической эпохи ее прежняя, чисто развлекательная функция утратила свою силу, новые же функции нащупывались не одно десятилетие. Определяя назначение литературы в буржуазном обществе, одна часть мыслителей высказывалась за ее автономность, самостоятельную эстетическую ценность, другая же часть (особенно авторы расцветших в 1880-е гг. так называемых политических романов) была убеждена в просветительском и даже агитационном ее назначении.
В начале 1890-х гг. между Огаем и одним из ведущих тогдашних профессоров-гуманитариев Цубоути Сёё (1859–1935) разгорелась дискуссия, она велась на страницах журналов «Сигарами соси» (Запруда) и «Васэда бунгаку» (Литература университета Васэда). Сёё высказывался в пользу точного отображения литературной жизни, его принципы в дальнейшем были подхвачены представителями натуральной школы (сидзэнсюги). Что же касается Огая, то он видел главное достоинство всякого искусства в утверждении этических и эстетических идеалов. Диспут, по существу, знаменовал размежевание между сторонниками утилитарно-реалистического и идеально-романтического направлений. В изящной словесности прежних времен эти начала выступали как бы в слитной форме.
Теоретические доводы Цубоути Сёё на первый взгляд выглядели прогрессивнее, однако художественная практика Огая продемонстрировала более убедительные результаты – единственный роман Цубоути Сёё «Нравы школяров нашего времени» (1885) был очень скоро забыт.
С течением времени, по мере изменения обстановки в стране менялись и приоритеты Огая, волновавшие его темы претерпевали естественную трансформацию. Буржуазное государство набирало мощь, освобождалось от неравноправных договоров с западными державами. Постепенно японцы избавлялись от «комплекса неполноценности», их даже стало обуревать «чувство превосходства» – во всяком случае, над соседними азиатскими народами. Едва избавившись от необходимости обороняться от западной экспансии, они сами, вернее, их уже ставшее империалистическим государство вступило на путь агрессии.
Как военному врачу, Огаю пришлось участвовать в двух неправедных войнах – с Китаем в 1894–1895 гг. и с Россией в 1904–1905 гг. Значительную часть японского общества охватила тогда эйфория победы над континентальными колоссами. Прямо критиковать милитаристский курс своего правительства генерал, состоявший на действительной службе, конечно, не мог. Но, к чести его надо сказать, что и ни единым словом восхваления его он себя не запятнал. Шовинистический угар охватил тогда немало его литературных современников, его же душа разрывалась на части от противоречий между положением военного сановника и взглядами писателя-гуманиста.
Существуют прямые и косвенные свидетельства его разногласий с начальством. Достаточно сказать, что в самом начале 1900-х гг. его с понижением в должности отправили служить в далекий провинциальный гарнизон на остров Кюсю; пребывание в городке Кокура сам он расценивал не иначе как ссылку.
Оторванность от привычного образа столичной жизни, а также внутренняя раздвоенность ввергли его в творческий кризис. На Кюсю он почти ничего не написал, занимался главным образом переводами немецких и скандинавских авторов. Большой успех у читателей имел, в частности, переведенный им тогда роман Г.-Х. Андерсена «Поэт-импровизатор».
1910 год печально ознаменован такими акциями японского государства, как аннексия Кореи и подавление внутри страны народно-демократического движения «хэймин-ундо». По сфальсифицированному обвинению в подготовке террористического акта против императора был казнен публицист-социалист Котоку Сюсуй (1870–1911) и десять его сподвижников. Эта неслыханная в новое время жестокость всколыхнула многих свободомыслящих японцев и даже мировую общественность (с протестами выступали А. Франс, Μ. Горький). О позиции Огая можно судить по произведениям, которые он написал в тот период. Рассказы «Игра», «Фасции», памфлет «Башня молчания» (все – 1910 г.) содержали в себе довольно прозрачную иронию по адресу установившихся политических реалий. Звучали и прямые тревожные вопросы: где предел подавления властями свободы слова и убеждений?
Воцарившийся тогда произвол цензуры задел и его лично: под предлогом безнравственности изъяли из продажи его повесть-дневник под латинским названием «Vita sexualis»[2]. В качестве повода было использовано одиозно звучавшее заглавие, хотя в действительности там абсолютно не было предполагаемой «непристойности».
Огай осмеивал в этом произведении писателей-натуралистов, уделявших в его время преувеличенное внимание человеческим инстинктам, вместо того чтобы утверждать красоту и духовность человека, заложенное в нем добро.
В «срединный» период творчества Огая программным можно считать рассказ «Пусть так» (1912). В нем повествуется о молодом ученом Годзё Хидэмаро, который, подобно Огаю, окончил Императорский университет в Токио и завершал образование в Германии. Убежденный, что официальные историографы Японии занимаются пересказыванием мифов, Хидэмаро хочет написать подлинную историю, где не будет места рассуждениям о «божественном происхождении» нации и пр. Подобные намерения встречаются в штыки окружением Хидэмаро, и в первую очередь его отцом – высокопоставленным аристократом. Хидэмаро вынужден оставить свои научные замыслы, свою ретировку он мотивирует двумя словами: «Пусть так».
Произведения Огая конца 1900-х и самого начала 1910-х гг. окрашены философией, которую сам писатель именовал резиньяцией, или примирением. Не видя возможности реально влиять на события, он сознательно занял позицию «стороннего наблюдателя».
Новые горизонты творчества открылись с 1912 г., когда писатель перешел к созданию исторических повестей. По единодушному признанию критиков, они являются вершиной его творчества. В них Огай обратился к художественному исследованию нравов военно-феодального дворянства, сословия самураев, из которого происходил сам.
Самурайство практически не имеет аналогий в мировой истории, европейское рыцарство демонстрирует лишь весьма отдаленное с ним сходство. Вплоть до 70-х гг. XIX века самураи составляли примерно четверть населения страны, хотя однородным это сословие отнюдь не было. Его внутренняя структура отличалась своей сложной иерархией. Об очень разном социальном и имущественном положении воинов можно составить себе представление по рассказам Огая, где детально описана система вознаграждения служилых людей, называются различные их ранги, четко определяются взаимные права и обязанности в отношениях между вассалами и сюзеренами.
Самураи в целом имели ряд привилегий, в отличие от крестьян, ремесленников и торговцев они носили фамильное имя, постоянно имели при себе оружие и могли даже безнаказанно убить представителя другого сословия. Все они проходили обучение в своих клановых школах. В первую очередь их учили, конечно, воинским искусствам, но учили и грамоте – отечественной и китайской, прививали навыки стихосложения, ибо в той системе культурных ценностей последнее считалось непременным признаком развитого человека. Словом, поговорка «Среди цветов – вишня, среди людей – самурай» родилась не случайно.
Первоначальным толчком, побудившим Огая обратиться к самурайской тематике, послужило ритуальное самоубийство генерала Ноги Марэсукэ. В день похорон императора Мэйдзи (1912 г.) верный вассал Ноги (вместе с женой Сидзуко) «ушел вслед» за своим сюзереном. Верность господину в жизни и в смерти ставилась самурайским кодексом чести (бусидо) превыше всего.
Огай был глубоко взволнован поступком Ноги Марэсукэ, под началом которого ему довелось некогда служить. В нем всколыхнулись какие-то глубинные чувства, и чуть ли не за одни сутки он написал большой рассказ «Посмертное письмо Окицу Ягоэмона» (1912) – историю самурая XVII в., который покончил с собой вслед за смертью сюзерена – князя Хосокавы. Перед тем как совершить харакири, Окицу Ягоэмон составляет письмо, в котором завещает сыну, внукам и правнукам с честью служить их древнему роду. В декорациях токугавского времени Огай как бы проигрывал смысл жестокого средневекового обычая, получившего вдруг свой громкий резонанс и в XX в. Прямой оценки этого уникального обычая Огай не высказывает, но весь контекст рассказа свидетельствует, пожалуй, о его восхищении мужеством героя, из чувства долга добровольно обрывающего нить своей жизни.
Одни произведения исторического цикла посвящены периоду формирования феодализма (XVII–XVIII вв.), действие других («Месть в Годзиингахаре», «Инцидент в Сакаи») происходит позже – в середине XIX в. Все они основаны на документальном материале, свидетельствах-хрониках, хотя, конечно, Огай далеко превосходит в них рамки летописного жанра.
Исторические произведения Огая представляют собой энциклопедию самурайского быта. Читатель узнает из них, как одевался и причесывался средневековый воин, как лелеял свои острые мечи, каких правил придерживался на службе и в семье. Читатель словно присутствует на впечатляющей церемонии харакири – это зрелище не для слабонервных людей.
В последовавших один за другим исторических рассказах писатель снова и снова старается прояснить смысл обычаев феодального времени. После революции Мэйдзи самурайское сословие официально было упразднено, харакири и кровная месть запрещены. Однако выходцы из военно-феодального дворянства продолжали составлять наиболее влиятельный и образованный слой общества, они проявляли живую готовность «отвечать задачам современности».
Постепенно Огай отходит от одномерной трактовки морали «бусидо». Внимательное чтение убеждает читателя, что жестокому «кодексу чести» самураи следовали вынужденно, иного выхода в существовавших социальных условиях у них не было. Умирать в расцвете лет им было нелегко, но так повелевал «долг», впитанный с молоком матери. Совершенно очевидно, что эта мораль формировалась правящими слоями средневекового общества в целях поддержания своего господства. Порою живучесть этой морали искусно эксплуатировалась господствующими кругами и в новое время. Тем более существенно знать, какой представлялась эта система взглядов Огаю – человеку плоть от плоти самурайского сословия, но и большому, европейски образованному писателю, творившему почти до конца первой четверти XX века.
Как этические, так и эстетические взгляды Огая покоятся на глубоко национальной традиции. Большое место в мировоззрении и творчестве писателя занимала Красота. Два самурая из «Посмертного письма Окицу Ягоэмона» смертельно поссорились из-за того, что один обвинил другого в непонимании ценности чайной церемонии – этого священного действа, похожего на религиозную службу или на медленный танец. Искусство чайной церемонии достигло расцвета именно в период ожесточенных феодальных междоусобиц. В тишине и изысканной обстановке чайных павильонов отдыхала душа воина, опаленного битвами.
Знакомство читателя с шестнадцатилетней красавицей Осаё – героиней рассказа «Госпожа Ясуи» – происходит во время подготовки к «хинамацури» – Празднику девочек. Этот день отмечается ежегодно третьего марта и ассоциируется с наступлением весны. В рассказе присутствуют все чисто национальные элементы, сопутствующие этому торжеству. Сестры украшают дом специальным набором кукол, гостья приносит им в подарок ветку только что расцветшего персикового дерева, ее угощают рисовым вином – саке, чашечку которого непременно полагается испить по случаю «хинамацури».
Оба аспекта – эстетический и нравственный – неразрывно сплетаются в сцене из «Семейства Абэ», когда на похоронах князя-даймё[3] пара его любимых охотничьих соколов стремглав влетает в колодец и погибает в водной пучине. Подобно ближайшим вассалам князя, соколы добровольно следуют за своим господином в небытие. Красота их поступка подчеркивается выразительной для японского глаза деталью: над колодцем расцветает развесистое деревцо глубоко почитаемой в Японии сакуры.
Особое место в исторической прозе Огая занимают биографии ученых периода Токугава. Первая из них посвящена врачу и комментатору конфуцианского книжного наследия Сибуэ Тюсаю (1805–1858). В соответствии с универсальным характером учености той эпохи Тюсай показан сведущим во многих областях – медицине, фармакологии, каллиграфии, генеалогии самурайских родов, географии. Внимание к фигуре Тюсая определено было тем, что предки самого Огая подвизались на той же ниве, – таким образом писатель как бы прослеживал собственные семейные истоки. Ради этого он поднял многочисленные архивные записи, посетил мемориальные места, связанные с памятью героя. В биографической повести «Сибуэ Тюсай» (1916) автор говорил: «Я написал ее ногами», имея в виду многотрудные поиски документальных материалов. Своеобразие стилистической манеры этого произведения состоит в том, что параллельно с жизнью героя Огай подробно освещает процесс собственной работы над его биографией, как бы показывает свою творческую мастерскую.
Огай внимательно прослеживает судьбы наследников Тюсая – его детей, учеников, близких и дальних родственников. Восприятие истории как непрерывной цепи поколений характерно для всего творчества писателя. Современность для него всегда логически вытекала из прошлого.
Огай – нелегкое чтение, причем не только для иностранцев, но и для сегодняшнего поколения японцев. В особенности это касается исторических произведений, насыщенных исчезнувшими из быта реалиями, датами в старинном летосчислении, старыми географическими названиями, чинами и званиями и т. д.
Не случайно все современные издания произведений писателя у него на родине неизменно снабжаются подробными комментариями.
Своеобразны, к примеру, предстающие перед нами приемы ориентации средневековых японцев во времени. Вереница лет, а также часы в сутках группировались по циклам, соответствующим двенадцати знакам зодиака (Мыши, Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змеи, Лошади, Овна, Обезьяны, Курицы, Пса, Кабана). Летосчисление велось по царствованиям сменявших друг друга властителей, каждый из которых выдвигал свой девиз правления. Эта система сохранилась и, наряду с европейской, существует поныне. Так, с 1989 г. после смерти императора Хирохито и восшествия на престол его сына Акихито начался первый год Хэйсэй, что означает «установление мира».
Сравнительное изучение отечественного и зарубежного наследия выработало в Огае всеобъемлющий взгляд на культуру человечества. Его творчество передает ощущение единства и в то же время различия двух миров – Востока и Запада. Как художник он остался глубоко национальным. Его произведения высвечивают особую, никем до него не показанную сферу человеческого бытия. Огай вписал свою неповторимую страницу в сокровищницу мировой литературы. Мудрое, философски глубокое постижение жизни, помноженное на бесспорное художественное мастерство, сделало его, несомненно, большим писателем.
Представленные в настоящем сборнике произведения составляют лишь часть прозы Огая, а он писал еще и драмы, разного рода очерки и статьи, а также стихи. Переводил многих европейских авторов – среди опубликованных им впервые на японском языке такие значительные образцы мировой классики, как «Фауст» Гёте, пьесы Лессинга и Г. Ибсена, рассказы и повести Л. Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевского…
Произведения Мори Огая широко известны за пределами его страны, они переводились на английский, немецкий, русский и другие языки. Хочется надеяться, что настоящее издание будет встречено читателями с интересом.
Танцовщица[4]
Уголь погружен. В кают-компании второго класса пусто, напрасно включен яркий электрический свет. Обычно по вечерам здесь собирались любители карточной игры, сегодня же все ночуют в отеле, на берегу, так что на судне я остался один.
Пять лет минуло с тех пор, как сбылась моя заветная мечта: я был командирован в Европу. Помнится, и тогда у нас была остановка здесь же, в Сайгоне, и я не уставал дивиться всему, что видел и слышал. Мой путевой дневник ежедневно пополнялся все новыми и новыми пространными записями, которые позже были даже опубликованы в газете и снискали одобрение читателей. Ныне я содрогаюсь при одной только мысли о том, какое убийственное впечатление могли произвести на сведущую публику мои инфантильные и претенциозные очерки. Мне все тогда казалось диковинным – растения и животные, памятники архитектуры и местные обычаи. Зато теперь припасенная для дневника тетрадь остается девственно чистой. Как видно, годы, проведенные в Германии, приучили меня ничему не удивляться. Впрочем, пожалуй, дело даже не в этом.
Дело в том, что к себе на родину – на Восток – возвращался человек, совсем не похожий на того, который пять лет назад отправился на неведомый ему Запад. В науках я особенно не преуспел, зато достаточно хлебнул невзгод. Я понял, как зыбки человеческие чувства, и я в этом смысле не составляю исключения. Кого могут заинтересовать наши сиюминутные впечатления? Вчера вам что-то показалось любопытным, а сегодня вы уже забыли об этом. Не потому ли я не веду никаких записей? Да, причина, скорее, в этом.
Прошло уже более двадцати дней, как мы покинули Бриндизи.
Пассажиры, как водится, успели перезнакомиться и, как могли, скрашивали друг другу томительное путешествие. Я же, сославшись на нездоровье, заперся в своей каюте. Мои душевные терзания не располагали к общению. Мрак, окутывавший мое сердце, не позволял мне видеть ни горные пейзажи Швейцарии, ни достопримечательности Италии. Я ненавидел весь мир и самого себя и постоянно пребывал во власти нестерпимых мук. Мало-помалу, однако, боль как бы оседала на дне души и притуплялась. И все-таки, чем бы я ни занимался – читал ли или осматривал какой-нибудь памятник старины, во мне снова и снова, подобно мутному отражению в зеркале или далекому эху, всплывала тоска о прошлом.
Избавлюсь ли я когда-нибудь от этих мук? Говорят, что сочинение стихов исцеляет раненое сердце, но в моем случае это вряд ли способно помочь – слишком глубока и свежа рана. Сегодня на корабле царит тишина, и в моем распоряжении есть некоторое время до того, как каютный стюард вырубит свет. Попробую-ка изложить свою историю на бумаге.
Меня с малолетства воспитывали в строгости. И даже после смерти отца никаких поблажек не давали. В начальной школе родной провинции, а потом на подготовительных курсах в Токио и, наконец, на юридическом факультете университета – всюду Ота Тоётаро значился среди первых учеников. Мать видела во мне, своем единственном чаде, весь смысл жизни, поэтому вполне естественно, что мои успехи служили ей утешением.
Уже в девятнадцать лет я получил диплом бакалавра, в таком возрасте никто до меня не удостаивался подобной чести за все годы существования университета.
Меня приняли на службу в министерство. Обосновавшись в Токио, я выписал к себе из провинции мать, и мы неплохо прожили вместе три года. Начальство меня ценило, поэтому, когда возникла необходимость послать кого-то из сотрудников в Европу, выбор пал на меня.
Возможность упрочить свое служебное и материальное положение меня окрылила. Так что даже разлука с матушкой, которой к тому времени минуло пятьдесят, не слишком меня пугала. Итак, я оставил родные пенаты и отправился в далекий Берлин.
Полный честолюбивых надежд и всегдашней готовности трудиться, я оказался в столице одного из наиболее развитых европейских государств. Ее блеск меня ослепил, я закружился в бурном водовороте событий.
Название Унтер-ден-Линден в переводе означает: «Под кронами лип», и в воображении возникает тихое, уединенное место. Но попробуйте выйти на этот прямой, как стрела, проспект! Взгляните на толпы кавалеров и дам, фланирующих по его тротуарам в обоих направлениях! Бравые офицеры в яркой щегольской форме времен Вильгельма, прелестные женщины в парижских туалетах – все завораживало взор. По асфальтовым мостовым бесшумно катились экипажи. Почти достигая шпилей домов, уходящих ввысь, плескались фонтаны, создавая ощущение дождя, внезапно хлынувшего с ясного неба. Вдали, на фоне Бранденбургских ворот над купой парковой зелени парила богиня Победы. И тут, и там вашему взору представали диковинные картины, было от чего робеть новичку. Я дал себе слово не поддаваться власти этих чар.
Сразу же по прибытии в Берлин я отправился по нужным адресам, звонил у дверей в колокольчик и протягивал прусским чиновникам рекомендательные письма, объясняя в общих чертах цель своего пребывания в этой стране. Встречали меня приветливо, без излишней бюрократической волокиты, обещали содействие. К счастью, еще у себя на родине я выучил немецкий и французский и теперь не успевал представиться, как меня уже спрашивали, где и когда я научился так хорошо говорить по-немецки.
Заручившись официальным разрешением, я в свободное от служебных обязанностей время посещал лекции по политологии в местном университете.
Месяца через два я окончательно обосновался в Берлине и постепенно с головой погрузился в работу. По вопросам первостепенной важности я составлял отчеты и отсылал их на родину; все остальное тщательно фиксировал на бумаге, и вскоре таких записей у меня накопилось несметное множество. Я по наивности полагал, что, прослушав в университете курс лекций, смогу автоматически превратиться в политика. Однако после завершения курса политологии я понял, что надо продолжать образование и впредь. После мучительных раздумий я выбрал две-три программы по юриспруденции, внес плату и приступил к занятиям.
Три года пролетели, как во сне. Но рано или поздно человеку неизбежно выпадает какое-нибудь испытание. С малых лет я неукоснительно следовал наставлениям отца и поступал в соответствии с волей матери. Я прилежно учился и был счастлив, когда меня называли вундеркиндом. Потом я радовался, если меня хвалил начальник департамента. Однако при всем при том я оставался безвольным существом, механически выполняющим предписания свыше.
Но вот мне исполнилось двадцать пять лет, и, вероятно, под влиянием университетской атмосферы с ее свободомыслием во мне вдруг стал зарождаться какой-то внутренний протест. Постепенно начало проявляться мое истинное Я, ранее пребывавшее как бы в оцепенении; это Я пыталось сокрушить мою прежнюю самоуспокоенность. Я со всей очевидностью осознал, что из меня не получится ни политик, способный вершить судьбы мира, ни юрист, досконально знающий и уважающий закон. Да что и говорить, матушка мечтала сделать из меня ходячую энциклопедию, начальник же старался воспитать во мне примерного законника. В первом я, может быть, и усматривал нечто привлекательное для себя, второе же считал абсолютно бессмысленным.
До сих пор я старательно исполнял даже самые пустячные поручения, но теперь, составляя бумаги для своего начальника, позволял себе не вникать в юридические тонкости; я вел дела небрежно, словно рубил мечом бамбук. Лекциями по юриспруденции в университете тоже начал тяготиться, находя теперь больше смысла в занятиях историей и литературой.
Конечно, начальник смотрел на меня как на инструмент, которым можно манипулировать вполне свободно. Мой новый образ мыслей и независимые суждения были ему без надобности. Вот на такую рискованную стезю я ступил и сойти с нее уже не мог.
В Берлине училась довольно большая группа моих соотечественников, но с ними у меня отношения не сложились. От первоначальной настороженности они перешли к наветам в мой адрес и, вероятно, имели на то свои резоны. Они считали меня высокомерным. Ведь я не пил с ними пиво, не играл на бильярде, за это мне и воздавалось неприязнью и насмешками. В сущности, они не имели обо мне ни малейшего представления. Да и где им было меня понять, если я сам себя не понимал! Моя душа была подобна листьям «нэму»[5], стоило меня слегка задеть, и я уже немедленно замыкался в себе. Робок я был, как девица. Меня с младых ногтей приучили следовать указаниям старших. И успехи в учебе, и продвижение по службе не являлись следствием особых моих волевых усилий. Терпение и прилежность вводили в заблуждение не только окружающих, но и меня самого. Просто я шел по дороге, которую для меня выбрали другие.
У меня не хватало мужества игнорировать внешние императивы и проявить твердость. Я всегда страшился соприкосновения с внешним миром, у меня было такое чувство, словно я связан по рукам и ногам. Дома мне постоянно внушали, что я обладаю незаурядными способностями, и я уверовал-таки в собственную незаурядность. Но как только пароход отчалил из Иокогамы, от этой уверенности не осталось и следа. У меня из глаз хлынули слезы, что было полной неожиданностью для меня самого. Лишь позже я понял: в этом проявилась вся моя сущность.
Был ли я таким от рождения или это результат того, что моим воспитанием занималась только матушка? Впрочем, это не важно, важно, что я постоянно подвергался насмешкам, хотя вряд ли пристойно смеяться над слабым и жалким.
В кафе я наблюдал крикливо одетых женщин с накрашенными лицами, искусно заманивавших клиентов. Подойти к какой-нибудь из них хоть раз я так и не осмелился. Не общался я и с бонвиванами, щеголявшими в цилиндрах и пенсне и выговаривавших слова со свойственным пруссакам аристократическим прононсом. И даже со своими бойкими соотечественниками не мог наладить отношения, за что и терпел постоянные насмешки и обиды. Все это, вместе взятое, как бы подготовило почву для той истории, которая приключилась со мною чуть позже.
Однажды вечером мне захотелось прогуляться по Тиргартену. Выйдя из парка, я пошел по Унтер-ден-Линден. Чтобы попасть на улицу Монбижу, где я жил, мне предстояло пройти по Клостерштрассе мимо старой кирхи. После залитой морем огней Унтер-ден-Линден я очутился в темной, узкой улочке, по обе стороны которой тянулись дома с балкончиками, увешанными стираным бельем. Я миновал питейное заведение, в дверях которого торчал старый еврей с длинными пейсами, и вышел к большому зданию с двумя лестницами, одна из которых вела наверх, другая – вниз, в подвал кузнеца. Каждый раз, когда я смотрел на это причудливое строение трехсотлетней давности, во мне возникало какое-то щемящее чувство.
Сейчас у закрытых дверей кирхи я увидел рыдающую девушку. На вид ей можно было дать лет шестнадцать-семнадцать.
Из-под наброшенного на голову шарфа выбивались золотистые волосы. Одета она была скромно, но весьма опрятно. Заслышав мои шаги, она обернулась; только поэту под силу описать ее прелестное лицо. В ясных голубых глазах застыла грусть, из-под длинных ресниц одна за другой падали крупные слезы. Одного ее взгляда оказалось достаточно, чтобы повергнуть в смятение все мое существо.
Какое неутешное горе привело ее в столь поздний час сюда и заставило горько рыдать? Острое чувство жалости помогло мне преодолеть мою всегдашнюю робость и подойти к ней.
– Почему вы плачете? Я, правда, чужестранец, но, может быть, смогу вам чем-нибудь помочь? – спросил я, поражаясь собственной смелости.
Она недоуменно взглянула на меня и, по-видимому, прочитала на моей желтокожей физиономии искреннее сочувствие.
– Видно, вы добрый человек. Не такой жестокий, как он или моя матушка. – На миг она перестала плакать, но потом слезы снова покатились по ее прелестным щекам. – Пожалуйста, помогите мне! Помогите избавиться от позора! Матушка бьет меня за то, что я противлюсь его домогательствам. У меня умер отец. Завтра надо его хоронить, а в доме нет денег. – Слова девушки прерывались рыданиями. Ее горе отозвалось во мне безграничной жалостью.
– Я провожу вас домой, только, прошу вас, успокойтесь. Мы ведь на улице, не стоит привлекать внимание прохожих.
Слушая меня, она доверчиво склонила голову к моему плечу. Потом вдруг опомнилась, смущенно отпрянула и, опасаясь посторонних глаз, быстро пошла прочь.
Я последовал за ней. Мы вошли в парадную большого дома, поднялись по выщербленной каменной лестнице на четвертый этаж и остановились перед дверью, в которую можно войти, лишь пригнув голову. Девушка повернула ручку ржавого железного звонка, и за дверью тотчас послышался хриплый старушечий голос:
– Кто там?
– Это я, Элиза.
Не успела она ответить, как дверь распахнулась и моему взору предстала старуха. Поседевшие волосы, морщины на некогда миловидном лице свидетельствовали о трудно прожитой жизни. На ней было линялое бумазейное платье и грязные шлепанцы. Кивнув в мою сторону, Элиза переступила порог квартиры, старуха же захлопнула дверь перед самым моим носом.
В полной растерянности я продолжал стоять перед дверью. При тусклом свете керосиновой лампы мне удалось прочитать на дверной табличке «Эрнст Вайгерт, портной». Видимо, это было имя покойного отца девушки. Некоторое время из квартиры доносился сердитый голос старухи, потом все стихло и дверь приотворилась. Извинившись за проявленную ею нелюбезность, теперь она пригласила меня войти.
Я очутился в кухне. Справа было низкое оконце, задернутое белой ситцевой занавеской; слева громоздилась кирпичная печь – нелепое творение какого-то неумехи. В полуоткрытой двери напротив виднелась кровать, на которой, судя по всему, под белым покрывалом лежал покойник. Из кухни меня провели в соседствовавшую с ней так называемую мансарду. Потолка как такового там не было. Его заменяли приклеенные к балкам плотные листы бумаги, а в самом низком углу мансарды стояла кровать.
Посредине был стол, покрытый красивой шерстяной скатертью, а на нем несколько книжек и альбом с фотографиями да цветы в вазе, казавшиеся, пожалуй, даже несколько неуместными в подобной обстановке.
Девушка в смущении остановилась возле стола. Она была само очарование. Ее безупречно белое лицо при свете лампы приобрело бледно-розовый оттенок. Тонкие запястья мало походили на руки простолюдинки. Когда старуха вышла из комнаты, девушка заговорила, обнаруживая слегка провинциальный выговор:
– Может быть, не совсем удобно, что я привела вас сюда. Но вы показались мне добрым человеком и не должны думать ничего худого. Вы ведь не знаете Шаумберга, который взял на себя хлопоты о завтрашних похоронах отца? Он хозяин театра «Виктория», где я служу уже два года, поэтому-то я и обратилась к нему за помощью. Однако оказалось, что он из чужого горя хочет извлечь для себя выгоду. Помогите мне, пожалуйста. Я верну вам долг из своего скромного жалованья, даже если придется экономить на питании. В противном же случае матушка… – Она заплакала, ее взор выражал мольбу, которую невозможно было отвергнуть… Вряд ли она сознавала собственное очарование.
В кармане у меня оставалось несколько серебряных марок. Этого было, конечно, мало, поэтому я снял с руки часы и положил их на стол.
– На первое время это немного облегчит ваше положение. Я выкуплю их, если вы назовете ростовщику имя Оты с улицы Монбижу, три.
Глаза девушки выражали бесконечную благодарность. На прощанье я протянул ей руку, которую она поднесла к своим губам, обливая горючими слезами.
Ах, какой же злой рок привел ее вскоре в мою келью, чтобы выразить благодарность! Она поставила принесенный ею роскошный цветок на окно, возле которого я дни напролет проводил за чтением Шопенгауэра и Шиллера. Этот ее визит послужил началом наших отношений, о которых вскоре проведали мои соотечественники. Немедленно покатилась молва, что я ищу удовольствий в обществе танцовщиц. Между тем пока что нас связывала лишь самая целомудренная взаимная симпатия.
Один из них, известный интриган, – не стану называть его имя – доложил начальству, что я зачастил в театры и домогаюсь благосклонности актерок. Начальник, и без того раздраженный моими заумными штудиями, не преминул связаться с посольством, и в результате мне отказали от должности. Поставив меня об этом в известность, посланник сказал, что, если я пожелаю немедленно вернуться на родину, проезд мне будет оплачен. Если же я останусь здесь, то впредь рассчитывать на какую-либо помощь не смогу.
Я попросил неделю на размышления. И пока я предавался размышлениям, пришли два письма, повергнувшие меня в глубокое горе. Отправлены они были почти одновременно. Одно было написано рукой матери, второе – родственником, который сообщал о ее смерти, о смерти моей дорогой матушки. Пересказывать ее письмо у меня нет сил, слезы застилают глаза и мешают писать.
До этого времени наши отношения с Элизой были гораздо невиннее, чем это представлялось посторонним. Из-за бедности своего отца она не получила должного воспитания. В пятнадцать лет была принята в танцевальную труппу, причастилась к этому малопочтенному ремеслу. Потом поступила в театр «Виктория», где состояла на вторых ролях.
Удел танцовщиц несладок. Поэт Хаклендер[6] назвал их современными рабынями. Получают гроши за изнурительный труд, днем – на репетициях, вечером – на сцене. Для спектаклей их гримируют и облачают в роскошные наряды, а в повседневной жизни они влачат жалкое существование, особенно если приходится к тому же заботиться о родителях или сестрах и братьях. Немудрено, что многие из них скатываются на самое дно!
Элиза этой участи избежала – отчасти по причине природной скромности, отчасти благодаря строгости отца. С детских лет она пристрастилась к чтению, но, к сожалению, в руки ей попадали лишь посредственные романы, какими обычно снабжают книгоноши-лотошники. С момента нашего знакомства я стал руководить ее чтением, отчего ее вкус постепенно оттачивался, а речь становилась грамотнее. В письмах, которые она мне писала, заметно поубавилось ошибок. Можно сказать, что поначалу между нами установились отношения учителя и ученицы. Узнав, что меня уволили со службы, она изменилась в лице. Я, разумеется, умолчал, что она некоторым образом послужила тому причиной. Тем не менее она попросила меня ничего не говорить матери, опасаясь, что, узнав о моей финансовой несостоятельности, та перестанет проявлять ко мне благосклонность.
Не стану входить в подробности, но именно с этого времени мои чувства к Элизе начали перерастать в любовь, и наши отношения приняли серьезный оборот. Случилось это в самый критический момент, когда мне предстояло определять свою дальнейшую судьбу. Кто-то, возможно, сочтет меня легкомысленным, но я всегда смотрел на наши отношения серьезно. Она отвечала мне тем же и не допускала мысли о возможной разлуке. Ах, какая она была славная, какую растерянность выражало ее милое лицо! Я потерял рассудок.
Наступил день, когда я должен был сообщить посланнику о своем решении. Если сейчас, когда меня отстранили от должности, я вернусь на родину, всем откроется мой позор, и я уже никогда не смогу подняться на ноги. Здесь же оставаться тоже невозможно из-за отсутствия каких-либо средств к существованию.
Именно в тот момент на помощь мне пришел Аидзава Кэнкити[7] – мой давний товарищ, с которым сейчас мы вместе возвращаемся на родину. Он был личным секретарем графа Амакаты[8] и, узнав о моем увольнении, уговорил издателя одной токийской газеты использовать меня в качестве зарубежного корреспондента. Это позволило мне остаться в Берлине и зарабатывать репортажами на темы политической и культурной жизни.
Жалованье мне положили мизерное, но, переехав в более скромную квартиру и переключившись на дешевые кафе, я кое-как сводил концы с концами. Пока я беспомощно барахтался, привыкая к новой жизни, Элиза пришла мне на выручку, проявив истинную сердечность.
Не знаю, как она сумела уговорить мать, только вскоре я стал у них квартирантом. Объединив с Элизой наши скромные доходы, мы, невзирая на все житейские трудности, радовались жизни.
После утреннего кофе Элиза обычно отправлялась на репетиции и лишь иногда, когда в театре выдавались свободные дни, оставалась дома. Я шел на Кёнигштрассе в кофейню, знаменитую своим узким фасадом и вытянутым в длину залом. При свете голой лампочки под самым потолком я просматривал там свежие газеты и выписывал заинтересовавшую меня информацию. Это кафе посещала молодежь без определенных занятий; старики, выгодно ссужавшие свой небольшой капиталец; маклеры, забегавшие передохнуть в паузах между сделками. Можно себе представить, сколь странным казалось им присутствие здесь японца, подолгу сидевшего за холодным мраморным столом и что-то деловито кропавшего в своем блокноте. Чашка кофе, поданная официанткой, оставалась нетронутой, а я то и дело устремлялся в тот угол, где на длинных деревянных рейках вывешивались на всеобщее обозрение свежие газеты.
Иногда Элиза после репетиции заходила за мной в кафе. В таких случаях мы уходили вместе около часу дня – я и эта миниатюрная, хрупкая девушка. Порою нас провожали неодобрительными взглядами.
Лекции в университете я, конечно, забросил. Теперь при тусклом свете верхней лампы допоздна писал статейки для газеты, а Элиза, вернувшись из театра, садилась рядом и любовалась мною. Нынешняя моя работа не имела ничего общего с рефератами, в которых я пересказывал древние законы и установления.
Газета ждала от меня яркого комментария по поводу самых свежих политических новостей, а также новейших веяний в литературе и искусстве. Мне трудно сказать, насколько это мне удавалось, но в своих публицистических статьях я старался подражать Берне и Гейне[9], больше, конечно, Гейне.
Вскоре один за другим скончались Вильгельм I и Фридрих III[10]. Мне нужно было посылать в Японию подробную информацию о восшествии на престол нового императора, о низложении Бисмарка[11], словом, дел оказалось больше, нежели я мог предположить вначале. Так что читать даже те немногие книги по специальности, которые были у меня дома, мне оказывалось недосуг. Я продолжал числиться слушателем курсов, но на лекции не ходил, тем более что и оплачивать их было нечем.
Да, занятия пошли побоку. Зато я приобрел знания в области народного образования, которое в Германии было поставлено лучше, чем в какой-либо другой европейской стране. С тех пор как я стал корреспондентом, я прочитывал ежедневно множество статей и заметок, делал выписки и писал, так что навыки, приобретенные в студенческие годы, теперь мне весьма пригодились. Мои прежние – весьма скромные – представления об окружающем мире невероятно расширились. Этим я заметно отличался от большинства моих соотечественников, которые просматривали в германских газетах разве что передовицы.
Наступила зима двадцать первого года Мэйдзи. На центральных улицах тротуары очищали от снега и посыпали песком, по обочинам дорог громоздились сугробы. Но в районе Клостерштрассе снег не убирали, приходилось одолевать ухабы, покрытые ледяной коркой. Выходя поутру из дома, мы нередко видели лежащих на снегу замерзших воробьев. У нас в печке пылал огонь, но холод проникал и сквозь каменные стены, на улице же он пронизывал до костей.
На днях Элиза прямо на сцене упала в обморок, домой ее привезли сослуживцы. С тех пор она постоянно недомогала, от любой еды ее тошнило. Мать безошибочно определила причину подобного состояния. Неужели Элиза и вправду беременна? Это при моем-то непрочном положении!
Однажды воскресным утром мы были дома, Элиза сидела с задумчивым видом в кресле возле печурки. Казалось, все было как обычно, но душу томила какая-то смутная тоска.
Вдруг у входа в квартиру послышался незнакомый голос, и вскоре мать Элизы принесла мне письмо. Я сразу же узнал почерк Аидзавы, хотя марка была прусская и на штемпеле значился Берлин. Я с волнением распечатал конверт и прочел:
«Вчера вечером прибыл с министром Амакатой. Он желает тебя видеть, приезжай немедленно. Если твои дела еще можно поправить, то теперь представляется подходящий случай. Извини за краткость, страшно спешу».
Я взирал на письмо в полной растерянности.
– Из Японии? – спросила Элиза. – Надеюсь, ничего неприятного? – Видно, она подумала, что письмо из газеты и касается моей нынешней службы.
– Нет, все в порядке, – отвечал я. – Помнишь, я говорил тебе про Аидзаву. Так вот, он приехал сюда с министром. Министр желает меня видеть по какому-то срочному делу. Так что надо ехать.
Заботилась Элиза обо мне, как мать о своем единственном любимом чаде. Поскольку речь шла о встрече с министром, она, преодолевая недомогание, встала, выбрала самую лучшую белую рубашку, достала мой тщательно ею хранившийся фрак с двумя рядами пуговиц, собственноручно завязала мне галстук.
– Теперь у тебя безупречный вид. Взгляни-ка на себя в зеркало, – сказала она. – Только какой-то ты слишком мрачный, ну, хочешь, я поеду вместе с тобой? – Она одернула на мне фрак и добавила: – Смотрю я сейчас на тебя, и мне не верится, что это мой Тоётаро. Когда ты станешь богатым и знатным, ты ведь все равно меня не бросишь, правда? Даже если мамины предположения не сбудутся?
– Какое там богатство и знатность! – улыбнулся я. – С политической карьерой давно покончено. И встреча с министром мне ни к чему, просто съезжу повидаюсь со старым другом, которого сто лет не видел.
Мать Элизы вызвала по этому случаю щегольскую коляску; когда, скрипя по снегу, она подкатила к подъезду, я надел перчатки, накинул на плечи не первой новизны пальто, взял шляпу и поцеловал на прощанье Элизу. Когда я садился в коляску, она распахнула заиндевелое окно; ее распущенные волосы развевались на пронзительном ветру.
Я высадился у отеля «Кайзерхоф»[12], осведомился у портье, в каком номере остановился господин Аидзава, и стал подниматься по мраморной лестнице на нужный мне этаж. Давненько не бывал я в подобных местах! В просторном холле с колоннами, обставленном бархатными диванами и зеркалами, я снял пальто и направился по коридору к номеру Аидзавы. У дверей немного помедлил: как-то мы встретимся? В свое время, когда мы учились в университете, он находил, что у меня хорошие манеры.
И вот мы стоим друг против друга. Со времени нашей последней встречи он слегка погрузнел, посолиднел. Но выглядел, как всегда, бодрым и дружелюбным. Впрочем, входить в детали оказалось некогда: нас ждал министр.
Министр поручил мне срочно перевести с немецкого несколько документов. Я взял их и откланялся. Последовав за мной, Аидзава предложил вместе позавтракать.
Во время завтрака спрашивал главным образом он, а я отвечал. Его карьера складывалась, в общем, благополучно, это у меня то и дело происходили сбои. С полной откровенностью я поведал ему о всех перипетиях своей жизни. Слушая меня, он порой выказывал удивление, но осуждать не осуждал. Ханжество наших сограждан его даже возмутило. Но, когда я закончил свой рассказ, он сделался серьезным и после некоторой паузы стал меня корить за прирожденное безволие; мол, образованный, талантливый человек погряз по уши в истории с девчонкой, обрек себя на бесцельное времяпрепровождение.
Между тем графу Амакате на данном этапе требовалось мое знание немецкого языка, и ничего больше. Причина моего увольнения была ему известна, поэтому Аидзава даже не пытался просить за меня. Если граф подумает, что его пытаются ввести в заблуждение, ни к чему хорошему это не приведет, полагал Аидзава, будет лучше, если он увидит меня в деле и я сам смогу завоевать доверие, продемонстрировав свои способности. Что же касается женщины, то даже если между нами существует искренняя привязанность и наши чувства серьезны, все равно – это не тот случай, когда ставится на карту вся жизнь. Обычное житейское дело, мне следует набраться решимости и положить всему конец. Такую он начертал мне программу действий.
А я слушал его, и у меня было такое ощущение, словно я, доверившись волнам, дрейфую в океане, пытаясь разглядеть далекие горы на горизонте. Но горы эти окутаны густым туманом, и достигнуть их нет никакой надежды. А если достигнешь, то найдешь ли там то, к чему стремишься?





























