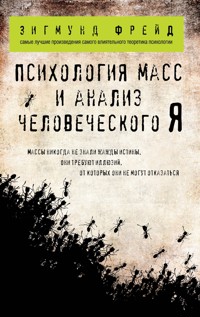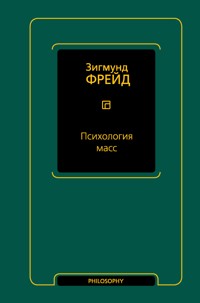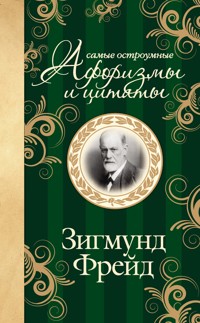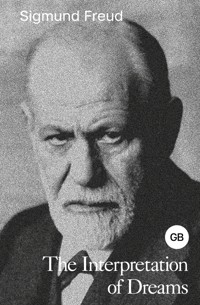Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Фрейд (Neoclassic)
- Sprache: Russisch
Зигмунд Фрейд. Доктор медицины, философ, ученый, создавший теорию психоанализа. Блистательный врач-психиатр, применивший ее на практике. В настоящий том включены знаменитый труд Зигмунда Фрейда «Тотем и табу», в котором автор сделал попытку проследить древнейшие истоки наших страхов, комплексов и морально-этических норм, статьи «Мотив выбора ларца», «Табу девственности», «Жуткое», «Сюжеты сказок в сновидениях» и другие произведения за период с 1907 по 1919 гг., большей частью посвященные религиозной тематике.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Зигмунд Фрейд Тотем и табуСборник
Серия «Фрейд (Neoclassic)»
Перевод с немецкого
А. Анваера
(Злободневное рассуждение о войне и смерти),
В. Желнинова
© Перевод. А. Анваер, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
От составителя
Религиозность – иначе говоря, потребность верить в наличие неких «сверхъестественных» сил, не обязательно высших, но способных воздействовать на человеческие мысли и поступки – была на Первом Всемирном конгрессе по психотерапии (Вена, 1996) объявлена «фундаментальной человеческой функцией». Конечно, следует принимать в расчет то обстоятельство, что слово «религиозность» употребляется здесь в очень широком, почти обезличенном смысле: это не приверженность тому или иному институциализированному вероучению, не соблюдение установленных догматов как таковых, а всего-навсего некое общее ощущение «нуминозной», как выражался К. Г. Юнг, сути бытия – словом, такое состояние души, такое мировоззрение, которое антрополог М. Энгельке охарактеризовал как ambient religiosity (данное словосочетание можно перевести как «ощущение религиозности в мире» или как «эмбиент-религиозность», по аналогии с одноименным стилем электронной музыки). Тем не менее, религиозность, потребность и желание верить в «потустороннее», действительно признается важной составляющей человеческой натуры, а исследованием этой составляющей сегодня занимаются многие науки о человеке – от традиционных теологии и философии до антропологии религии и даже физики.
Разумеется, пройти мимо религиозности не могла – при своих притязаниях на познание человека и его «темных» и «светлых» сторон – и психология. Пионером психологического изучения религиозности выступил, пожалуй, Ф. Ницше, сам себя именовавший «первым психологом» и громогласно объявивший, будто Бог умер, а все прочее на свете – «человеческое, слишком человеческое». А затем в «сокровенное» пространство человеческой веры и потребности в вере вторгся скандальный психоанализ, детище знаменитого венского психиатра З. Фрейда.
Не будет преувеличением сказать, что никакой другой раздел фрейдовской теории – за исключением, разумеется, учения о сексуальности – не вызывал столько противоречивых оценок и страстной полемики. При этом сам Фрейд, остро интересуясь религией и религиозностью на протяжении всей своей долгой научной и практической карьеры, не дал сколько-нибудь однозначного определения религии: он называл ее то «проецированной во внешний мир психологией», то «сублимированным продуктом сексуальных влечений», то «всеобщим неврозом навязчивых состояний», то «пережитком психического инфантилизма», то «коллективной иллюзией». Однако подобное разнообразие определений ничуть не мешало ему принимать религиозность за данность, которую надлежит учитывать и которая подлежит анализу наряду с прочими особенностями человеческого характера и мировоззрения. Именно этот факт и обеспечил фрейдовским взглядам на религию и религиозность место в истории изучения данного предмета: даже современная антропология религии, при всей своей рациональности и при всем стремлении к иным объяснительным моделям, признает за Фрейдом право считаться одним из основоположников научного осмысления религиозности.
В настоящий том включены работы Фрейда, имеющие отношение к религиозной тематике и охватывающие промежуток с 1907 по 1919 год[1]. Это и малые статьи конкретной направленности, и большие исследовательские работы, и предисловия к трудам других ученых, а также важнейшая для самого Фрейда и для истории изучения вопроса работа «Тотем и табу».
Навязчивые действия и религиозные обряды[2] (1907)
Безусловно, я не первый, кого поразило сходство между так называемыми навязчивыми действиями, характерными для людей, страдающих нервными расстройствами, и теми обрядами, посредством которых верующие выражают свое благочестие. О том свидетельствует и само определение «церемониальный», применяемое порой к отдельным навязчивым действиям. Как представляется, это сходство ни в коем случае нельзя относить к случайным совпадениям, а потому углубленное изучение происхождения невротических церемоний позволит, смею надеяться, сделать некоторые выводы по аналогии применительно к психологическим процессам религиозной жизни.
Люди, совершающие навязчивые действия или приверженные церемониям, принадлежат к тому же разряду, каковой охватывает всех, кто страдает навязчивыми мыслями, навязчивыми идеями, навязчивыми позывами и тому подобным. В совокупности они составляют особую клиническую группу, которую обычно обозначают как «невроз навязчивых состояний» (Zwangsneurose)[3]. Но попытки установить сущность болезни по ее названию бессмысленны, поскольку и все прочие проявления болезненных психических состояний, строго говоря, в равной степени притязают на обладание теми качествами, которые принято характеризовать как «обсессивные». Следует избегать определений и довольствоваться вместо этого скрупулезным изучением указанных состояний, ведь нам до сих пор не удалось отыскать критерий для оценки неврозов навязчивых состояний; по всей видимости, он скрыт очень глубоко, пусть мы как будто ощущаем его присутствие в каждом случае болезни.
Невротические церемониалы суть незначительные поправки к тем или иным повседневным действиям, едва заметные их дополнения, ограничения или условности, которые надлежит неизменно соблюдать и выполнять в определенном порядке (или как-то иначе, но тоже изо дня в день). Со стороны эти действия выглядят сугубыми формальностями (Formalitäten) и кажутся совершенно бессмысленными. Сам больной воспринимает их точно так же, но он не в силах отказаться от выполнения церемоний, ибо любое отклонение от церемониала пробуждает в нем нестерпимое беспокойство, побуждающее к немедленному исправлению допущенной оплошности. Столь же тривиальны, как церемониальные действия, те поступки, которые посредством церемоний обогащаются, отягощаются и при всем прочем продлеваются – к примеру, одевание и раздевание, отход ко сну или удовлетворение телесных потребностей. Исполнение церемониала можно описать, так сказать, перечислением последовательности неписаных правил. Возьмем в качестве примера отход ко сну: стул должен стоять в определенном месте рядом с кроватью; одежда должна лежать на этом стуле в определенном порядке; одеяло нужно подвернуть в изножье, а простыню разгладить; подушки должны быть расположены так-то и так-то, а собственное тело человека должно занять точно установленное положение. Лишь при соблюдении всех этих условий засыпание становится возможным. Словом, обыкновенно церемониал выступает не более чем преувеличением некоего упорядочивания, каковое представляется обыденным и оправданным; впрочем, чрезмерная тщательность, с которой он совершается, и то беспокойство, каковое порождается пренебрежением церемониями, помечает последние как «священнодействие». Любое прерывание церемониала вызывает, как правило, серьезное расстройство, а присутствие других людей при его исполнении почти всегда исключается.
Любые действия способны сделаться навязчивыми действиями в широком смысле этого слова, если они уточняются какими-либо дополнениями или если им придается посредством пауз и повторений ритмический характер. Вовсе не нужно думать, будто возможно провести строгое различение «церемониала» и «навязчивого действия». Чаще всего навязчивые действия проистекают из церемоний. Помимо двух указанных факторов, содержание душевного беспорядка составляют еще запреты и помехи (абулии[4]), причем последние фактически продолжают работу навязчивых действий, поскольку оказывается, что то-то и то-то пациенту запрещается целиком и полностью, а что-то дозволяется только при соблюдении предписанного церемониала.
Примечательно, что принуждения и запреты (то есть необходимость что-то делать и чего-то не делать) распространяются в первую очередь на самостоятельные действия индивидуума и довольно долго не затрагивают его поведение в обществе. Следовательно, люди, страдающие этой болезнью, могут считать свой недуг личным делом и прятать его от окружающих на протяжении многих лет. Вообще-то подобными формами невроза навязчивых состояний страдает куда больше людей, чем известно врачам. Вдобавок немалому числу больных прятать свой недуг тем проще, что они вполне способны выполнять общественные обязанности большую часть суток, а личным тайным делам уделять всего несколько часов, словно воплощая предание о Мелюзине[5].
Легко увидеть, в чем именно заключается сходство между невротическим церемониалом и священнодействиями религиозных обрядов: там и здесь налицо угрызения совести, вызванные пренебрежением правилами, полная оторванность от всех других действий (о чем говорит запрет прерывать исполнение) и та скрупулезность, с какой эти действия тщательно выполняются. Правда, различия столь же очевидны, причем некоторые из них выглядят настолько вопиющими, что само сравнение начинает казаться кощунственным: это и большее личное разнообразие церемониальных действий, в отличие от стереотипности обрядов (молитвенная поза, обращение лицом на восток и т. д.), и частный характер, в противоположность публичному и коллективному характеру религиозных обрядов, но прежде всего тот факт, что составные части религиозного обряда исполнены глубокого символического значения, а невротические поступки представляются глупыми и бессмысленными. В этом отношении невроз навязчивых состояний есть наполовину комическая, наполовину трагическая пародия на личное исповедание веры. С другой стороны, указанное заметное различие между невротическим церемониалом и религиозным обрядом исчезает, когда мы при помощи психоаналитической техники исследования проникаем в истинный смысл навязчивых действий[6]. В ходе такого исследования выясняется, что мнимая бессмысленность навязчивых действий полностью стирается, а причина этой мнимой бессмысленности получает разъяснение. Мы узнаем, что навязчивые действия значимы во всех своих подробностях, что они служат важным устремлениям индивидуума и выражают те чувства, которые продолжают на него воздействовать, и те мысли, которые сопряжены с аффектами. Это выражение может обеспечиваться как непосредственно, так и символически, а потому его надлежит истолковывать либо исторически, либо символически.
Нужно привести несколько примеров в доказательство моей точки зрения. Те, кто знаком с результатами психоаналитического исследования психоневрозов, вовсе не удивятся утверждению, что содержание навязчивых действий и церемоний обусловлено наиболее сокровенными, по большей части сексуальными, переживаниями индивидуума.
а) Девушка, которую я наблюдал, после умывания несколько раз подряд споласкивала умывальник. Значение этого обрядового действия вполне передается присказкой: «Не выливай грязную воду, пока не наберешь чистую». Своими действиями она как бы предупреждала сестру, которую сильно любила и которую старалась удержать от развода с мужем (в ком та совершенно разочаровалась) до тех пор, пока она не завяжет отношения с более достойным мужчиной.
б) Женщина, жившая отдельно от своего мужа, всякий раз за едой оставляла несъеденным самое лучшее – например, съедала только корочку от куска жареного мяса. Это поведение объяснялось датой его возникновения: она начала вести себя так уже на следующий день после того, как отказалась от супружеских отношений с мужем, то есть после отказа от лучшего.
в) Та же пациентка могла сидеть всего на одном конкретном стуле и вставала с него с немалым трудом. Применительно к подробностям ее супружеской жизни этот стул символизировал мужа, которому она хранила верность. Сама она объясняла свое поведение следующим образом: «Очень трудно расстаться с тем, к чему успела привыкнуть».
г) Снова и снова у той же пациентки проявлялось особенно заметное и бессмысленное навязчивое действие. Она выбегала из своей комнаты в другую, посреди которой стоял стол. Она расправляла складки скатерти на столе и звала горничную. Той полагалось подойти к столу, после чего ее отпускали с каким-нибудь мелким поручением. В попытках объяснить это поведение самой себе пациентка пришла к мысли, что на скатерти имелось пятно и что она всегда расправляла скатерть так, чтобы горничная обязательно увидела это пятно. Вся сцена оказалась на самом деле воспроизведением опыта супружеской жизни, к которому пациентка то и дело возвращалась мысленно, сама того не сознавая. В первую брачную ночь ее мужа постигла довольно обычное разочарование: он не сумел проявить себя мужчиной и «ночь напролет бегал из своего гостиничного номера к ней», чтобы вновь попробовать добиться успеха. Утром он сказал, что ему будет совестно перед горничной, которая придет застилать кровати, взял пузырек с красными чернилами и вылил его содержимое на простыню; но сделал он это так неуклюже, что пятно растеклось совсем не там, где требовалось. Если коротко, своим навязчивым поведением пациентка воспроизводила события брачной ночи, а «кровать и стол» («Tisch und Bett») между супругами олицетворяли собою их брак.
д) Другое навязчивое действие, с которым пациентка пришла ко мне, заключалось в ее стремлении записывать номер каждой банкноты, прежде чем с той расстаться; это действие тоже нужно истолковывать исторически. Когда она предполагала уйти от мужа, если ей встретится другой, более надежный мужчина, то позволила ухаживать за собой человеку, с которым познакомилась на морских водах; вот только следовало удостовериться, что новый знакомец движим честными намерениями. Однажды, не найдя при себе мелочи, она попросила этого мужчину разменять монету в пять крон. Он выполнил просьбу, положил монету себе в карман и с любезной улыбкой заявил, что впредь не расстанется с этой монетой, ибо та побывала в ее руках. При встречах впоследствии у пациентки часто возникало искушение попросить его предъявить монету, дабы лишний раз подтвердить искренность своих намерений. Но она подавляла это желание – по той простой причине, что невозможно невооруженным взором различить между собой две монеты одинакового номинала. То есть ее сомнения остались неразрешенными, что и заставило ее позднее записывать номер каждой банкноты, по которому эту купюру можно было отличить от всех других купюр того же номинала.
Ряд приведенных примеров, выбранных из огромного числа тех, с которыми я сталкивался, призван лишь наглядно доказать мое утверждение, что в навязчивых действиях все имеет значение и подлежит истолкованию. То же самое верно для церемоний в самом строгом смысле этого слова, разве что доказательство здесь потребуется более обстоятельное. Я вполне осознаю, сколь далеко наши разъяснения навязчивых действий уводят нас, по-видимому, от области религиозной мысли, однако они представляются мне необходимыми.
Одно из проявлений невроза состоит в том, что человек, подчиняющийся принуждению, делает это, не понимая смысла своих действий – во всяком случае, основного их смысла. Только благодаря усилиям психоаналитика он осознает и значение навязчивого действия, и мотивы, побуждающие его к этому действию. Мы отмечаем это важное обстоятельство, указывая, что навязчивое действие служит для выражения бессознательных мотивов и мыслей. Тут, кажется, наблюдается дальнейший отход от религиозного поведения, но мы должны помнить, что обычный благочестивый индивидуум выполняет положенные церемонии, не заботясь, как правило, об их значении, пусть священнослужители и ученые исследователи хорошо осведомлены о преимущественно символическом содержании обрядов. Для большинства же верующих мотивы, побуждающие к религиозному поклонению, или неведомы, или замещаются в сознании какими-то другими.
Анализ навязчивых действий дает некоторое представление об их причинах и о той цепочке мотивов, что вызывает эти действия. Можно сказать, что индивидуум, страдающий от принуждений и запретов, ведет себя так, будто им повелевает чувство вины, о котором сам он даже не подозревает; так что следует говорить о бессознательном чувстве вины, несмотря на явную противоречивость этого замечания. Источником такого чувства вины выступают некие ранние психические события, и оно постоянно подкрепляется новыми искушениями, возобновляется при каждом новом случае, а также вызывает затаенное беспокойство, этакое ожидание и предвкушение несчастья, обусловленное внутренним восприятием искушения как того, что непременно влечет за собою наказание. Когда церемониал только еще складывается, больной сознает, что должен поступать так-то и так-то, чтобы не случилось беды, причем обыкновенно природа грядущей беды вполне известна его сознанию. Но от него уже скрыта связь (всегда, к слову, доказуемая) между поводом, по которому возникает это беспокойство, и опасностью, которая его вызывает. Тем самым церемониал исходно складывается как защитное действие, как мера предосторожности или предупреждения.
Чувство вины у навязчивых невротиков находит свое отражение в поведении благочестивых верующих, которым ведомо в глубине души, что они суть жалкие грешники; а благочестивые обряды, будь то молитвы, воззвания и пр., которыми такие люди предваряют все свои повседневные поступки, в особенности же всякие необычные начинания, имеют, по-видимому, значение защитных или предохраняющих мер.
Мы придем к более глубокому пониманию механизма невроза навязчивых состояний, если примем во внимание первичный факт, лежащий в его основании, а именно вытеснение инстинктивного влечения (элемента полового влечения), которое присутствует в конституции индивидуума и находит себе временное выражение в его детстве, но позже подвергается подавлению. При вытеснении этого влечения вырабатывается особая сознательность, направленная против него, однако, будучи мимолетным психическим реактивным образованием, она постоянно ощущает угрозу со стороны таящегося в бессознательном влечения. Влияние вытесненного влечения воспринимается как искушение, а сам процесс вытеснения порождает беспокойство, которое в форме ожидания и предвкушения подчиняет себе будущее. Подавление и вытеснение, приводящие к неврозу навязчивых состояний, можно считать успешными лишь частично, поскольку они чреваты неизбежными проблемами. Оно сродни бесконечному конфликту; требуются все новые и новые психические усилия, чтобы уравновесить непосредственное давление влечения. Следовательно, церемониальные и навязчивые действия отчасти представляют собой защиту от искушения, а отчасти – защиту от ожидаемого зла. Судя по всему, меры предосторожности против искушения постепенно становятся недостаточными, и тогда вступают в силу запреты, назначение которых состоит в том, чтобы не допускать событий, порождающих искушения. Запреты явно подменяют собою навязчивые действия, подобно тому, как фобии предотвращают истерические приступы. Опять-таки, церемониал невротика есть совокупность условий, при которых разрешается то, что не является целиком и полностью запрещенным, а церковный обряд бракосочетания означает для верующего одобрение сексуального наслаждения, каковое в противном случае было бы греховным. Еще одна характеристика невроза навязчивых состояний, как и всех подобных заболеваний, заключается в том, что его проявления (симптомы, в том числе навязчивые действия) удовлетворяют требованию компромисса между противоборствующими силами психики. То есть они всегда воспроизводят что-то из того удовольствия, которое призваны предотвратить; служат вытесняемому влечению ничуть не меньше, чем те силы, которые его вытесняют. В самом деле, по мере развития болезни действия, первоначально направленные главным образом на поддержание защиты, все более и более приближаются к запретным, посредством которых влечение находило себе выражение в детстве.
Некоторые признаки такого состояния можно выявить и в области религиозной жизни. Становление религии также происходит, похоже, посредством подавления, посредством отказа от следования тем или иным инстинктивным позывам. Однако эти позывы не принадлежат, как при неврозах, исключительно к составляющим полового влечения; это корыстные, общественно вредные позывы, пусть и сопровождаемые обыкновенно сексуальным элементом. Чувство вины, обусловленное непрестанным искушением, и беспокойное ожидание (в форме страха перед божественной карой) знакомы нам, если уж на то пошло, в религиозной жизни намного лучше, чем при неврозах. Подавление влечения в религиозной жизни – быть может, вследствие отягощенности сексуальным элементом или из-за каких-то общих особенностей влечений – тоже оказывается неполным и длится бесконечно. Вообще впадение в грех в полном смысле слова распространено среди благочестивых людей шире, чем среди невротиков, благодаря чему складывается иная разновидность религиозной деятельности – акты покаяния, с которыми можно сопоставить неврозы навязчивых состояний.
В качестве любопытной уничижительной черты невроза навязчивых состояний мы выделили то обстоятельство, что его церемонии связаны с малыми событиями повседневной жизни и выражаются в нелепых правилах и ограничениях. Мы не сможем понять эту замечательную особенность клинической картины, пока не признаем, что в психических процессах невроза навязчивых состояний господствует тот же механизм психического смещения, который я выявил при толковании сновидений[7]. Уже из приведенных выше немногочисленных примеров навязчивых действий явствует, что их символизм и подробности действий вызваны смещением – с того, что по-настоящему важно, на нечто мелкое, например, с мужа на стул. Именно эта склонность к смещению постепенно меняет клиническую картину и в конце концов превращает то, что кажется тривиальным, в нечто чрезвычайно важное и безотлагательное. Нельзя отрицать, что и в религиозной жизни наблюдается подобная же склонность к смещению психических ценностей в схожем направлении, что мелкие церемонии религиозной службы мало-помалу становятся существенными и теснят свою идейную подоплеку. Вот почему религии подвержены реформам, имеющим обратную силу и призванным восстановить исходное равновесие ценностей.
Компромисс как признак навязчивых действий в качестве невротических симптомов в соответствующих религиозных обрядах установить, пожалуй, труднее всего. Однако и здесь об этой особенности неврозов поневоле задумываешься, когда вспоминаешь, как часто все действия, запрещаемые религией – выражения подавленных влечений, – совершаются во имя религии и якобы ради ее благополучия.
Ввиду этих сходств и подобий можно дерзнуть и впредь рассматривать невроз навязчивых состояний как патологический аналог становления религии, описывать этот невроз как индивидуальную религиозность, а религию – как универсальный невроз навязчивых состояний. Самое существенное сходство проступает в лежащем в основании обоих явлений отказе от следования влечениям, свойственным человеческой конституции, а главное различие заключается в природе указанных влечений: при неврозе они имеют исключительно сексуальное происхождение, тогда как в религии они обусловлены корыстью и себялюбием.
Постепенное отречение от телесных влечений, следование которым могло бы доставить удовольствие личности, можно считать одним из оснований развития человеческой культуры. Отчасти это вытеснение влечений происходит благодаря тем религиям, что требуют от индивидуума принесения в жертву Божеству своих инстинктивных удовольствий. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»[8]. По становлению древних религий как будто бросается в глаза, что многое, от чего человечество отреклось впоследствии как от «беззакония», приписывалось Богу и долго дозволялось от Его имени; передача Божеству дурных и общественно вредных влечений была средством, с помощью которого человек освобождался от их господства. По этой причине вряд ли случайно, что все свойства самого человека, заодно с проступками, из них проистекающими, охотно соотносились с древними богами. Сказанному нисколько не противоречит тот факт, что человеку не позволялось оправдывать собственные беззакония ссылками на божественный образец.
«Культурная» половая мораль и современная нервозность[9] (1908)
В своей недавно опубликованной книге «Половая этика» (1907) фон Эренфельс[10] останавливается на различии между «естественной» и «культурной» половой моралью. Под естественной мы должны понимать, по его мнению, такую половую мораль, при господстве которой род человеческий способен сохранять прочное здоровье и работоспособность, в то время как культурная половая мораль есть мораль, подчинение которой, с другой стороны, побуждает людей к активной и продуктивной культурной деятельности. Это различие, как ему кажется, нагляднее всего проявляется при сравнении врожденного характера народа с культурными достижениями этого народа (konstitutiven und kulturellem Besitz eines Volkes erläutert). Отсылаю заинтересованного читателя к работе фон Эренфельса за более подробным обсуждением этого важного различения, а сам ниже буду отталкиваться лишь от тех отрывков, которые потребны мне в качестве отправной точки для моих собственных рассуждений.
Нетрудно предположить, что при господстве культурной половой морали здоровье и трудоспособность отдельных индивидуумов могут подвергаться ослаблению и что в конечном счете этот ущерб, им причиняемый вследствие приносимых жертв, может оказаться столь велик, что на этом извилистом пути под угрозу подпадет и заявленная культурная цель. Фон Эренфельс в самом деле приписывает той половой морали, что преобладает сегодня в нашем западном обществе, целый ряд вредных последствий, вменяемых им в вину этой морали; он признает ее очевидные заслуги в развитии культуры, но все же вынужден признать, что эта мораль нуждается в реформировании. По его словам, для господствующей ныне культурной половой морали свойственно распространять требования, обыкновенно предъявляемые к женской сексуальности, на половую жизнь мужчин, а любые половые отношения вне моногамного брака запрещаются. Тем не менее рассмотрение естественного различия между полами заставляет менее строго осуждать мужские оплошности; тем самым для мужчин фактически устанавливается двойная мораль. Однако общество, принимающее такую двойную мораль, не способно выводить «любовь к истине, честности и человечности» (фон Эренфельс, указ. соч.) за точно определенные узкие пределы; оно обречено побуждать своих членов к сокрытию истины, к ложному оптимизму, к самообману и обману окружающих. При этом культурная половая мораль имеет еще более худшие последствия: прославляя моногамию, она наносит урон отбору по признаку мужественности, хотя влияние этого фактора способно привести к улучшению врожденной конституции индивидуума, ведь у культурных народов отбор по жизненной силе ослаблен до минимума гуманностью и гигиеной (указ. соч.).
Среди пагубных последствий, приписываемых культурной половой морали, выделяется одно, значение которого почти наверняка упустит обычный врач[11], о чем и пойдет речь в настоящей статье. Я имею в виду обусловленный этой моралью рост современной нервозности, то есть обилие нервических болезней, охвативших наше современное общество. Порой нервический пациент сам обращает внимание врача на значимость противоречия между телесной конституцией и требованиями культуры: «В нашей семье мы все сделались невротиками, потому что хотели стать лучше, чем нам, с нашим-то происхождением, суждено было стать». Нередко сам врач находит пищу для размышлений, подмечая, что среди страдающих нервными заболеваниями много тех, кто вырос в семьях, где отцы, родившиеся в суровых и крепких семействах, проживавшие в простых и здоровых деревенских условиях, когда-то успешно обосновались в крупных городах и за короткий срок обеспечили своим детям высокий уровень культуры. Да и специалисты по нервным заболеваниям объявили во всеуслышание о связи между «возрастающей нервозностью» и нынешней культурной жизнью. Основания, по которым они выявляют эту связь, будут ясны по выдержкам из утверждений ряда выдающихся ученых.
Так, В. Эрб[12] (1893) пишет: «Таким образом, главный вопрос, на который нужно дать ответ, заключается в том, присутствуют ли в современной жизни причины нервозности в такой степени, какая объяснила бы заметное увеличение этого заболевания. На этот вопрос можно твердо отвечать утвердительно, что докажет беглый взгляд на наше современное существование и его особенности.
Все становится совершенно очевидным из простого перечисления некоторых общих фактов. Выдающиеся достижения современности, открытия и изобретения во всех областях знаний, развитие перед лицом усиливающейся конкуренции – все это достигается и сохраняется лишь чрезмерными умственными усилиями. Требования, предъявляемые к пользе отдельно взятого индивидуума в борьбе за существование, значительно возросли, и только с приложением всех своих умственных способностей он способен их удовлетворить. При этом во всех слоях общества возросли индивидуальные потребности человека, стремление к получению удовольствия от жизни; неслыханная роскошь затронула и те слои населения, которым раньше она была неведома; безбожие, недовольство и алчность распространились в широких народных кругах. Повсеместное расширение связей благодаря телеграфным и телефонным сетям, что опоясали мир, целиком и полностью изменило условия торговли и коммерции. Все пребывают в спешке и волнении; ночью мы путешествуем, а днем ведем дела; даже «поездки для восстановления здоровья» представляют угрозу для нашей нервной системы. Крупные политические, промышленные и финансовые кризисы теперь становятся предметом обсуждения широких масс; политической жизнью занимаются очень и очень многие; политическая, религиозная и социальная борьба, партийная политика, предвыборная агитация и торжествующая поступь профсоюзного движения разжигают пыл, все больше терзают разум и отнимают часы, необходимые для отдыха, сна и покоя. Городская жизнь непрерывно становится все утонченнее и беспокойнее. Истощенные нервы ищут восстановления в повышенном возбуждении и в остро приправленных удовольствиях – только для того, чтобы истощиться сильнее прежнего. Современная литература озабочена преимущественно наиболее сомнительными проблемами, распаляет страсти, поощряет чувственность и тягу к удовольствиям, внушает презрение к основополагающим принципам морали и ко всякому идеалу. Она сводит читателя с патологическими фигурами и проблемами, связанными с психопатической сексуальностью, с революционностью и тому подобными темами. Наши уши внемлют обилию шумной и настойчивой музыки, от которой нет спасения. Театры подчиняют наши чувства своими захватывающими представлениями. Пластические искусства тоже отдают предпочтение всему, что отталкивает, что безобразно и отвратительно; без малейших сомнений, с жуткой достоверностью, они предъявляют нашим взорам все то ужасное, что только находится в окружающем нас мире.
Одного этого описания уже достаточно, чтобы указать на множество опасностей, характерных для развития нашей современной культуры. Позвольте далее дополнить общую картину кое-какими подробностями».
Бинсвангер[13] (1896) говорит: «В особенности неврастению описывают как преимущественно современное расстройство, и Берд[14], которому мы обязаны первым всеобъемлющим описанием этого заболевания, считал, что открыл новое нервное заболевание, присущее сугубо американской почве. Это предположение было, разумеется, ошибочным, но сам тот факт, что именно американский врач первым сумел уловить и описать своеобразные черты этой болезни как плода обобщенного опыта, указывает, без сомнения, на тесную связь между нею и современной жизнью, с ее необузданной погоней за деньгами и имуществом, с ее обширными достижениями в области технологий, которые сделали иллюзорными любые препятствия, временные или пространственные, для наших способов взаимодействия».
Фон Крафт-Эбинг[15] (1895) отмечает: «Образ жизни бесчисленного множества культурных народов в настоящее время обнажает изобилие антигигиенических факторов, что позволяет без труда понять роковое увеличение числа нервных заболеваний; ведь эти вредные факторы воздействуют в первую очередь на мозг. За последние десятилетия в политическом и социальном, особенно же в торговом, промышленном и сельскохозяйственном развитии цивилизованных народов произошли изменения, повлекшие за собой большие перемены в занятиях, общественном положении и собственности, и это не могло не сказаться на нервной системе, которой приходится удовлетворять возросшие социальные и экономические потребности за счет большего расхода энергии, зачастую располагая совершенно недостаточными возможностями для восстановления».
Недостаток, который нам предстоит выявить в этих и многих других сходных суждениях, заключается не в том, что они ошибочны сами по себе, а в том, что они не в состоянии полностью объяснить картину нервных расстройств, что они упускают из вида именно наиболее важные этиологические факторы. Если отбросить более смутные общие проявления «нервности» и рассматривать впредь специфические формы нервных заболеваний, мы установим, что пагубное влияние культуры сводится в основном к строгому подавлению сексуальной жизни культурных народов (или классов) посредством преобладающей «культурной» половой морали.
Я уже пытался представить доказательства этого утверждения в ряде технических статей[16] и не стану повторять здесь свои доводы, но приведу самые важные, на мой взгляд, соображения, проистекающие из моих исследований.
Тщательное клиническое наблюдение позволяет выделить две группы нервных расстройств: собственно неврозы и психоневрозы. В первой группе расстройства (симптомы), независимо от того, проявляются они в соматическом или психическом выражении, имеют токсическую природу (toxischer Natur). Они совершенно похожи на явления при слишком большом или недостаточном притоке известного рода яда. Эти неврозы, которые обычно объединяют в категорию «неврастения», могут вызываться теми или иными вредными особенностями сексуальной жизни, без непременного наличия какого-либо наследственного заболевания; сама форма, которую принимает болезнь, соответствует характеру таких повреждений, и довольно часто из клинической картины можно сразу вывести особую ее сексуальную этиологию. С другой стороны, наблюдается полное отсутствие регулярного соответствия между формой нервозности и прочими пагубными влияниями культуры, порицаемыми властями. Значит, мы вправе рассматривать сексуальный фактор как существенный при возникновении собственно неврозов.
При психоневрозах влияние наследственности более заметно, а причинно-следственная связь выглядит менее ясной. Однако особый метод исследования, известный как психоанализ, позволяет установить, что симптомы этих расстройств (истерия, невроз навязчивых состояний и т. д.) являются психогенными и зависят от действия бессознательных (вытесненных) мыслительных комплексов (Vorstellungskomplexe). Тот же метод учит опознавать эти бессознательные комплексы и показывает, что в целом для них характерно сексуальное содержание. Они возникают вследствие половых потребностей неудовлетворенных людей и предлагают таким людям своего рода замещающее удовлетворение. Следовательно, мы должны рассматривать все факторы, нарушающие половую жизнь, подавляющие ее активность или искажающие ее цели, как патогенные в том числе при психоневрозах.
Ценность теоретического различения между токсическими и психогенными неврозами, конечно, ничуть не умаляется тем обстоятельством, что у большинства людей, страдающих нервными заболеваниями, наблюдаются нарушения, восходящие к обоим источникам.
Кто готов согласиться со мною в том, что этиология нервозности обусловливается прежде всего нарушениями половой жизни, тот наверняка захочет проследить за дальнейшим обсуждением, призванным поместить тему усугубления нервозности в более широкий контекст.
Вообще говоря, наша культура опирается на подавление влечений. Всякий индивидуум отказывается от некоей части своих владений, будь то чувство всемогущества, агрессивные или мстительные наклонности в характере или что-то еще. Так складывается общее имущество культуры, материальное и идеальное. Помимо жизненных потребностей, к этому отречению отдельных индивидуумов побуждают, вне сомнения, семейные чувства, произрастающие из эротизма. На определенной стадии развития культуры отречение приносило пользу. Более того, в каких-то проявлениях оно одобрялось религией: толика инстинктивного удовлетворения от каждого человека приносилась в жертву Божеству, а приобретаемая тем самым общественная собственность объявлялась «священной». Человек, который вследствие непреклонной телесной конституции не справлялся с таким подавлением влечения, становится «преступником», «outlaw»[17], изгонялся из общества, если только социальное положение или исключительные способности не позволяли ему навязывать себя остальным как великую фигуру и «героя».
Половое влечение – или, вернее, влечения, поскольку аналитическое исследование показывает, что половое влечение у человека состоит из многих отдельных составляющих или элементов, – развито, смею думать, среди людей сильнее, чем у большинства высших животных; оно, безусловно, более постоянно, ибо почти не зависит от периодичности, свойственной животным. Оно предоставляет в распоряжение культурной деятельности чрезвычайный запас сил – благодаря своей ярко выраженной способности смещать цель без существенного сокращения насыщенности. Эта способность менять первоначальную сексуальную цель на другую, из иной области, но психологически связанную с первой, называется способностью к сублимации. Наряду со смещаемостью, в которой заключена ценность для культуры, половое влечение также может обнаруживать упорную фиксацию, каковая делает его непригодным для использования и порой приводит к тому, что оно перерождается в так называемые аномалии. Первоначальная сила полового влечения различна, полагаю, у каждого человека; и, бесспорно, различаются его доли, подходящие для сублимации. Нам кажется, что именно врожденная конституция каждого индивидуума определяет, прежде всего, насколько велика та часть полового влечения, какую можно будет сублимировать и использовать. Вдобавок воздействие опыта и интеллектуальное влияние на психический аппарат ведут к дополнительной сублимации. Однако продлять этот процесс смещения целей до бесконечности, конечно же, невозможно, как и в случае с превращением теплоты в механическую энергию в наших машинах. Определенная степень прямого полового удовлетворения необходима, по-видимому, для большинства организмов, и недостаток влечения, варьируясь от человека к человеку, сопровождается явлениями, которые из-за их пагубного воздействия на функционирование организма и вследствие субъективного неудовольствия следует расценивать как болезнь.
К дальнейшим выводам мы приходим, принимая во внимание тот факт, что половое влечение у человека изначально вовсе не служит целям воспроизводства, а ставит своей целью получение определенного удовольствия[18]. Так оно проявляется в человеческом детстве, когда цель получения удовольствия обеспечивается не только гениталиями, но и другими частями тела (эрогенными зонами), а потому влечение пренебрегает всеми прочими объектами, кроме наиболее удобных. Мы называем эту стадию стадией аутоэротизма, и задача воспитания ребенка, на наш взгляд, состоит в том, чтобы ограничить эту стадию, поскольку задержка на ней сделает половое влечение непреодолимым и непригодным для иных целей. Далее развитие полового влечения идет от аутоэротизма к объектной любви и от автономии эрогенных зон к их подчинению половым органам, то есть встает на службу воспроизводству. При этом развитии часть сексуального возбуждения, обеспечиваемого собственным телом индивидуума, отвергается как неподходящая для репродуктивной функции и при благоприятных условиях сублимируется. Значит, силы, необходимые для культурной деятельности, во многом приобретаются за счет подавления так называемых извращенных сторон сексуального возбуждения.
Если иметь в виду эту эволюцию полового влечения, то можно различать три стадии культуры: на первой половое влечение проявляется свободно, независимо от целей воспроизводства; на второй подавляются все половые влечения за исключением того, что служит размножению; на третьей разрешается лишь законное размножение в качестве сексуальной цели. Эта третья стадия и отражается в нашей современной «культурной» половой морали.
Если принять вторую из перечисленных стадий за среднее значение, то придется указать, что некоторое число людей в силу своей конституции не соответствует ее требованиям. У многих индивидуумов развитие полового влечения, описанное выше, от аутоэротизма к объектной любви с целью соприкосновения гениталий, не осуществляется правильно и достаточно полно. В результате таких нарушений развития возникают два вида ущербных отклонений от нормальной сексуальности – от такой, что полезна для культуры, – и отношение между ними почти такое же, как между положительным и отрицательным.
Во-первых (не беря в расчет тех, чье половое влечение чрезмерно и непреодолимо), существуют различные разновидности извращений, при которых инфантильная фиксация на ранней сексуальной цели препятствует установлению главенства репродуктивной функции; во-вторых, имеются гомосексуалисты, или инверты (Invertierten), у которых – еще не совсем понятным образом – сексуальная цель отклоняется от привязанности к противоположному полу. Если вредное воздействие этих двух нарушений в развитии меньше, чем следовало бы ожидать, то такое положение дел нужно поставить в заслугу именно тому сложному способу, которым устроено половое влечение, который позволяет половой жизни человека достигать полезной окончательной формы, даже когда один или несколько элементов влечения не получили развития. Конституция людей, страдающих от инверсии (гомосексуалистов), действительно часто отличается тем, что их половое влечение обладает особой способностью к культурной сублимации.
Более явно выраженные формы извращений и гомосексуализма, особенно исключительные, и вправду делают тех, кто им подвержен, общественно бесполезными и несчастными, а посему надо признать, что культурные потребности даже второй стадии являются источником страданий для определенной части человечества. Судьба этих людей, отличающихся по своей конституции от остальных, различна и зависит от того, родились ли они с половым влечением, которое по общим меркам считается сильным или сравнительно слабым. В последнем случае – когда половое влечение ослаблено – извращенцам удается полностью подавить те склонности, которые ведут к противоречиям с моральными ценностями текущей стадии развития культуры. Но это идеальное условие, единственное, пожалуй, чего им удается достичь; ведь для подавления своего полового влечения они расходуют силы, которые иначе были бы употреблены на культурную деятельность. Эти люди словно заторможены внутренне и парализованы снаружи. То, что будет сказано ниже о воздержании, необходимом для мужчин и женщин на третьей стадии культуры, применимо и к ним.
Там, где половое влечение достаточно сильное, но извращенное, возможны два исхода. Первый (о чем мы не будем говорить дальше), состоит в том, что человек остается извращенцем и вынужден мириться с последствиями отклонения от норм культуры. Второй исход гораздо интереснее. Дело в том, что под влиянием воспитания и социальных требований обеспечивается подлинное вытеснение извращенных влечений, но это подавление на самом деле вовсе не является подавлением. Лучше всего такой исход можно описать как неудавшееся подавление. Заторможенные половые влечения больше не проявляются как таковые – и в том заключается успех, – но они находят выражение иными способами, столь же вредными для индивидуума и столь же бесполезными для общества, как и при удовлетворении подавленных влечений в неизмененной форме. Это фактически провал того процесса, который в длительном развитии более чем уравновешивает его успех. Замещающие явления, следствия подавления влечений, сводятся к тому, что мы называем нервозностью – или, точнее, психоневрозом[19]. Невротики – это люди, которые, сталкиваясь с сопротивлением организма, преуспевают под влиянием культурных требований лишь в мнимом подавлении влечений, в таком подавлении, которое все очевиднее становится безуспешным. Поэтому только чрезмерными усилиями и ценой внутреннего оскудения они способны продолжать сотрудничество с культурной деятельностью – или им приходится прерывать его и заболевать. Я назвал невроз «негативной» перверсией, потому что при неврозах перверсивные позывы после вытеснения проявляются из бессознательной части психики (неврозы выказывают те же склонности, пусть и в состоянии «вытеснения», что и положительные извращения).
Опыт учит, что для большинства людей существует предел, за которым телесная конституция перестает соответствовать требованиям культуры. Все, кто желает быть благороднее, чем позволяет эта конституция, становятся жертвами невроза; они сохранили бы здоровье, не гонясь за благом. Осознание того факта, что перверсии и неврозы находятся в отношении положительного к отрицательному, нередко достоверно подтверждается наблюдениями за членами одной семьи в одном поколении. Довольно часто брат является сексуальным извращенцем, а его сестра, которая, будучи женщиной, обладает более слабым половым влечением, оказывается невротиком, причем ее симптомы передают те же наклонности, что свойственны извращениям ее более сексуально активного брата. Соответственно, во многих семьях мужчины здоровы, но с общественной точки зрения аморальны в нежелательной степени, тогда как женщины возвышенны и сверхутонченны – но сильно невротичны.
Один из очевидных социальных пороков состоит в том, что нормы культуры требуют от всех без исключения одинакового поведения в половой жизни; такому предписанному поведению часть общества способна без труда следовать благодаря своей организации, но на других оно налагает бремя тяжелейших психологических жертв (впрочем, нередко это противоречие стирается непослушанием, отрицанием правил морали).
Эти соображения опираются прежде всего на условие, важное для второй из обозначенных выше стадий культуры: данное условие гласит, что всякая сексуальная активность того рода, каковой считается извращенным, строго возбраняется, а вот так называемый нормальный половой акт разрешается и одобряется. Даже когда проводится четкая разграничительная линия между половой свободой и соответствующими запретами, все равно ряд индивидуумов причисляется к извращенцам, а какое-то количество других людей – они прилагают усилия, чтобы не стать извращенцами, хотя по своей телесной и душевной конституции должны быть таковыми – доводится до нервного расстройства. Нетрудно предсказать результат дальнейшего ограничения половой свободы и устрожения условий культурности до уровня третьей стадии развития культуры, на котором воспрещается всякая половая жизнь вне законного брака. Число сильных натур, готовых открыто противостоять требованиям культуры, начнет стремительно возрастать – как и число тех более слабых натур, которые, столкнувшись с противоборством культурного влияния и потребностями собственной конституции, попытаются найти спасение в нервозности.
Попробуем дать ответ на три вопроса, который встают перед нами.
1) Какую задачу ставят перед индивидуумом условия третьей стадии развития культуры?
2) Может ли допустимое и одобряемое законом сексуальное удовлетворение восполнить отказ от всех прочих удовольствий?
3) Каково отношение между возможными пагубными последствиями такого отказа и его применением в области культуры?
Ответ на первый вопрос связан с проблемой, которая часто обсуждалась и которая не может быть исчерпывающе описана в этой статье, – речь о проблеме полового воздержания. Наша третья стадия культуры требует, чтобы люди обоих полов воздерживались от половой близости до вступления в брак и чтобы все, кто не заключает законный брак, воздерживались от близости до конца своих дней. Утверждение (вполне приемлемое для всех властей), будто половое воздержание не вредит человеку и его довольно просто блюсти, принимается и распространяется врачами среди широкой публики. Однако следует указать, что обуздание столь сильного позыва, как тот, что исходит от полового влечения, любыми иными средствами, кроме его удовлетворения, наверняка потребует от индивидуума всех сил. Его подчинение посредством сублимации, то есть за счет отвлечения полового влечения от сексуальной цели и перенаправления на более возвышенные культурные цели, достижимо для меньшинства, причем лишь временно, а менее всего к нему склоняются в пору пылкой и пышущей здоровьем юности. Большинство же превращается в невротиков – или так или иначе страдает. Опыт доказывает, что большинство людей, составляющих наше общество, по самой своей конституции не приспособлено к воздержанию. Те, кто все равно заболел бы при более мягких половых ограничениях, тем скорее и тяжелее заболевают в условиях нашей сегодняшней половой морали; ведь мы не ведаем лучшей защиты от угроз нормальной половой жизни, будь то со стороны ущербных врожденных склонностей или со стороны нарушений в развитии, чем само сексуальное удовлетворение. Чем явнее кто-то предрасположен к неврозам, тем менее он способен переносить воздержание; влечение, изъятое из нормального развития (как то описывалось выше), становится фактически неудержимым. Но и люди, которые сохранили бы душевное и физическое здоровье в условиях второй стадии культуры, ныне все чаще оказываются подверженными нервозности. Психологическая ценность сексуального удовлетворения возрастает по мере отказа от него; «запруженное»[20] либидо обретает возможность выявлять те или иные слабые места, почти всегда находимые в области половой жизни, прорывается наружу и получает замещающее удовлетворение невротического свойства в виде патологических симптомов. Всякий, кто сумеет разгадать причины нервных заболеваний, быстро убедится, что рост числа таких болезней в нашем обществе обусловлен устрожением сексуальных ограничений.
Тем самым мы приблизились к вопросу о том, может ли половой акт в законном браке целиком восполнить воздержание от близости до брака. Материалов в пользу отрицательного ответа на этот вопрос столько, что здесь придется дать кратчайшее их изложение. Прежде всего следует иметь в виду, что наша «культурная» половая мораль ограничивает половые отношения даже в браке, навязывая супружеским парам необходимость довольствоваться немногочисленными, как правило, деторождениями. Вследствие этого удовлетворяющие супругов половые отношения в браке наблюдаются лишь на протяжении нескольких лет, из которых, разумеется, нужно вычесть промежутки воздержания, продиктованные заботой о здоровье женщины. Затем, по истечении трех, четырех или пяти лет, брак разрушается – как способ полноценного удовлетворения сексуальных потребностей. Ведь все изобретенные до сих пор приспособления для предотвращения зачатия мешают сексуальному наслаждению, затрагивают тончайшую чувствительность обоих супругов и могут даже обернуться болезнями. Страх перед последствиями половой близости поначалу ослабляет физическую тягу супружеской пары друг к другу, а далее обычно пропадает и близость духовная, которой, как считается, суждено становиться преемницей первоначальной страсти. Духовное разочарование и телесное отчуждение – удел большинства браков – возвращают обоих супругов в то состояние, в каком они пребывали до брака, вот только теперь они обеднели, расставшись с иллюзиями, и потому им предстоит снова прибегнуть к силе духа для обуздания и перенаправления своего полового влечения. Нет нужды уточнять, насколько успешно мужчины, достигшие зрелого возраста, справляются с этой задачей. Опыт показывает, что очень часто они обладают немалой сексуальной свободой, каковая им предоставляется – пусть неохотно и под покровом молчания – даже в рамках самого строгого кодекса полового поведения. «Двойная» половая мораль, принятая для мужчин в нашем обществе, есть наглядное признание того факта, что общество не верит в возможность исполнения и соблюдения предписаний, им самим установленных. Правда, опыт также показывает, что женщины, будучи действительными проводниками сексуальных интересов человечества, лишь в малой степени наделены даром сублимировать свои влечения (они способны отыскать замещение сексуальному объекту в виде младенца у груди, однако подросший ребенок их уже не привлекает), – так вот, опыт показывает, что женщины, пережившие разочарование в браке, склонны страдать тяжкими неврозами, навсегда омрачающими их жизнь. В наши дни замужество давно перестало служить панацеей от женской нервозности, и если мы, врачи, по-прежнему советуем замужество, то все же сознаем, что девушке надлежит быть здоровой душевно и физически, чтобы вытерпеть брак; мы настоятельно советуем пациентам мужского пола не жениться на тех особах, которые испытывали нервное расстройство до брака. Исцеление от нервозности через брак чревато супружеской неверностью. Чем строже женщина воспитывалась, чем покорнее она подчинялась требованиям культуры, тем больше она боится такого выхода, а потому, в конфликте между своими желаниями и чувством долга, снова ищет убежище в неврозе. Ничто не защищает ее добродетель надежнее, чем болезнь. В итоге супружество, которое внушается культурному человеку в юности как мера ослабления полового влечения, не соответствует даже повседневным требованиям такого человека, и не может быть и речи о том, чтобы оно могло восполнить воздержание, которое ему предшествует.
Но даже если признать тот вред, каковой несет в себе культурная половая мораль, в ответ на наш третий вопрос можно возразить, что культурная польза от столь обширных ограничений сексуальности более чем уравновешивает, быть может, эти страдания: они в конце концов в своей тяжкой форме затрагивают лишь меньшинство. Не стану скрывать, что сам я не в состоянии правильно сопоставить здесь выгоды и потери, но, как мне кажется, у меня найдется гораздо больше соображений в подтверждение урона, а не выигрыша. Если же вновь вернуться к вопросу о воздержании, буду настаивать на том, что оно наносит и другой вред, помимо неврозов, и что значение неврозов пока не оценено в полной мере.
Вообще задержка полового развития и сексуальной активности, предмет устремлений наших образования и культуры, сама по себе, конечно, не вредна. Она есть насущная необходимость, если принять во внимание поздний возраст, в котором молодые люди образованного сословия достигают самостоятельности и становятся способными зарабатывать на жизнь. (Между прочим, тут проявляется тесная взаимосвязь между всеми нашими культурными учреждениями, и поневоле вспоминаешь, сколь трудно изменить что-либо одно без оглядки на целое.) Но воздержание, которое затягивается надолго после порога в двадцать лет, уже начинает вызывать сомнения в своей полезности – и влечет за собой иные нарушения, даже если оно не приводит к неврозу. Да, считается, будто схватка с таким могучим инстинктом и накопление необходимых для этой борьбы этических и эстетических сил «закаляют» характер; что ж, это справедливо для некоторых натур с особо благоприятной душевной организацией. Следует также признать, что различие индивидуальностей, столь заметное в наши дни, становится возможным лишь при наличии половых ограничений. Но в подавляющем большинстве случаев борьба с сексуальностью поглощает энергию личности, причем как раз в ту пору, когда молодой человек нуждается во всех доступных силах, чтобы отвоевать себе положение и место в обществе. Соотношение возможной сублимации и необходимой сексуальной активности различается, естественно, от человека к человеку и даже от одного призвания к другому. Трудно вообразить воздержанного художника, однако воздержанный молодой ученый отнюдь не является редкостью. Этот последний может посредством воздержания высвобождать силы для занятий наукой, тогда как первый считает, полагаю, что его художественные достижения изрядно вдохновляются сексуальным опытом. В целом у меня не сложилось впечатления, будто сексуальное воздержание способствует увеличению числа деятельных и самостоятельных людей действия или оригинальных мыслителей, отважных борцов за свободу и реформаторов. Гораздо чаще оно оборачивается появлением благовоспитанных слабаков, которые со временем как бы растворяются в многолюдной массе тех, кто склонен неохотно следовать указаниям сильных личностей.
Тот факт, что половое влечение обыкновенно ведет себя своевольно и непреклонно, подтверждается и плодами усилий по соблюдению воздержания. Культурное воспитание лишь старается подавить влечение временно – до брака, с тем чтобы впоследствии дать ему полную свободу действий (и использовать на благо общества). Но крайние меры в этом случае более успешны, чем попытки ослабить влечение; посему подавление нередко заходит слишком далеко и приносит нежелательные результаты: когда влечение высвобождается, то выясняется, что оно необратимо нарушено. Поэтому полное воздержание в юности зачастую не лучшая подготовка к браку для молодого человека. Женщины это чувствуют и предпочитают видеть среди женихов тех, кто уже доказал свою мужественность с другими женщинами. А вредные последствия строгого воздержания от половой близости до замужества для женской природы особенно очевидны. Ясно, что воспитание вовсе не склонно недооценивать задачу подавления чувственности девушки до замужества, иначе откуда бы в нем взялись все эти самые решительные меры. Половые отношения возбраняются, соблюдению целомудрия придается немалое значение, а еще женщин стараются оградить от искушений по мере взросления, удерживая в неведении обо всех подробностях того положения, которое ей отводится в жизни, и не допуская никаких любовных порывов, не ведущих к браку. В результате, когда родители девушки внезапно позволяют ей влюбиться, она оказывается несостоятельной для этого психологического достижения и вступает в брак, нисколько не уверенная в своих чувствах. Вследствие этого искусственного замедления любовной функции она не может предложить ничего, кроме разочарований, тому мужчине, который копил для нее все свои желания. В своих душевных метаниях она все еще привязана к своим родителям, чей авторитет привел к подавлению ее сексуальности, а в своем физическом поведении она показывает себя холодной, лишая мужчину сколько-нибудь полного сексуального удовольствия. Не могу сказать, существуют ли анестетичные женщины вне культурного воспитания (на мой взгляд, это вполне возможно), однако я склонен думать, что наше воспитание действительно порождает такой женский тип, и те женщины, которые зачинают без удовольствия, почти не выказывают впоследствии желания вновь переносить муки деторождения. Выходит, что подготовка к браку расстраивает цели самого брачного союза. Когда впоследствии задержка в развитии преодолевается и у жены пробуждается способность любить в расцвете ее женственности, отношения с мужем уже давно испорчены, а в награду за предыдущую покорность ей остается выбор между неудовлетворенным желанием, неверностью или неврозом.
Сексуальное поведение человека часто задает образец для всех других его откликов на жизнь. Если мужчина настойчиво добивается внимания объекта своей любви, мы не сомневаемся в том, что он столь же упорно будет стремиться к достижению иных целей; но если он по каким-либо причинам воздерживается от удовлетворения своего могучего полового влечения, то и в других областях жизни, скорее всего, станет вести себя примирительно и покорно. Особое применение того утверждения, будто сексуальная жизнь закладывает образец для осуществления иных функций организма, не составит труда выявить применительно к женскому полу в целом. Воспитание запрещает женщинам проявлять интеллектуальный интерес к половым вопросам, однако они, тем не менее, испытывают крайнее любопытство; еще воспитание их пугает, осуждая такое любопытство как неженственное, как признак греховности. Тем самым женщин как бы отгоняют от всякого размышления, и знание теряет для них свою ценность. Запрет на мышление распространяется за пределы полового влечения – отчасти из-за неизбежной взаимосвязи с другими вопросами, а отчасти автоматически, подобно запрету мужчинам мыслить о религии или запрету верноподданным подвергать осмыслению свою лояльность. Не думаю, что женское «физиологическое слабоумие» («physiologischen Schwachsinn») нужно объяснять биологическим противопоставлением интеллектуального труда и сексуальной активности, как утверждал Мебиус в работе, которая вызвала широкое обсуждение[21]. По моему мнению, несомненную интеллектуальную неполноценность многих женщин можно, скорее, объяснить торможением мышления из-за подавления сексуальности. Вообще при рассмотрении воздержания недостаточно строго проводится различие между двумя его формами, а именно, между воздержанием от какой бы то ни было сексуальной активности и воздержанием от половых отношений с противоположным полом. Многие люди, похваляясь успехами в воздержании, смогли превозмочь свою природу только с помощью мастурбации и тому подобных удовольствий, связанных с аутоэротической сексуальной активностью в раннем детстве. Но по причине этой связи такие замещающие способы сексуального удовлетворения вовсе не безвредны; они предрасполагают к многочисленным неврозам и психозам, обусловленным обратным развитием половой жизни и возвращением к ее инфантильным формам. Более того, мастурбация далека от идеальных условий культурной половой морали; следовательно, она подталкивает молодых людей к тем самым конфликтам с идеалами воспитания, каковых надеялись избежать при посредстве воздержания. Еще она портит характер из-за потакания человека своим слабостям, причем во многих отношениях: во-первых, она учит достигать важных целей без труда, легкими путями, а не через последовательное приложение сил (следует тому принципу, что сексуальность задает модель поведения); во-вторых, в фантазиях, сопровождающих удовлетворение, сексуальный объект возвышается до такой степени совершенства, которую нелегко отыскать в подлинной жизни. Один остроумный автор (Карл Краус[22] из венского журнала «Факел») как-то выразил эту истину наоборот, цинично заметив: «Совокупление – не более чем неудовлетворительная замена мастурбации».
Суровость требований культуры и трудность задачи воздержания вместе ведут к тому, что стремление избегать соприкосновения гениталий у людей противоположных полов сделалось средоточием воздержания и благоприятным условием для прочих разновидностей сексуальной активности (каковые, можно сказать, тождественны частичному послушанию). Раз нормальные половые отношения столь безжалостно преследуются моралью – а также отвергаются гигиеной из-за опасности заражения какой-нибудь болезнью, – то так называемые извращенные формы половой близости между двумя полами, когда другие части тела перенимают функции половых органов, приобрели, несомненно, некую общественную значимость. Однако эти действия нельзя считать столь же безобидными, как и сходное с ними обогащение любовных отношений: они неприемлемы с этической точки зрения, ибо превращают любовные отношения между двумя людьми из серьезного факта в удобную игру, избавленную от риска и от духовной сопричастности. Еще одним следствием усугубления затруднений для нормальной половой жизни оказывается распространение гомосексуального удовлетворения; ко всем тем, кто гомосексуален от природы или стал таковым в детстве, нужно причислить немалое число тех людей, у кого уже в зрелом возрасте «запруживание» главного потока либидо обернулось перетоком влечения в гомосексуализм.
Все эти неизбежные и непреднамеренные следствия воздержания сходятся в общем результате полного разрушения подготовки к браку – к брачному союзу, каковой культурная половая мораль объявляет единственным наследником сексуальных побуждений. Каждый мужчина, чье либидо из-за мастурбации или извращенной половой жизни усвоило те условности удовлетворения, которые нельзя счесть нормальными, в браке выказывает пониженную потенцию. Женщины, сумевшие с помощью подобных мер сохранить девственность до брака, оказываются анестетичными и невосприимчивыми к нормальному половому акту в браке. Брак, который изначально опирается на ослабленную способность любить с обеих сторон, будет, разумеется, поддаваться распаду еще быстрее. Из-за слабой потенции мужчины женщина не получает удовлетворения и остается анестетичной даже в тех случаях, когда склонность к холодности, проистекающая из воспитания, вполне может быть преодолена ярким сексуальным опытом. Подобная супружеская пара вдобавок сталкивается с немалыми трудностями в предотвращении деторождения, так как сниженная потенция мужчины не позволяет широко применять противозачаточные средства. В этих условиях от половой близости как источника всех затруднений вскоре и вовсе отказываются, а вместе с нею отвергают и самые основы супружеской жизни.
Полагаю, что любой хорошо осведомленный человек подтвердит: я нисколько не преувеличиваю, я описываю истинное положение дел, одинаково скверные проявления которого наблюдаются вокруг снова и снова. Непосвященные едва ли поверят, сколь редко встречается нормальная потенция у мужа и сколь часто жена анестетична, если брать в расчет супружеские пары, живущие под господством нашей культурной половой морали; какова та степень самоотречения, зачастую с обеих сторон, какой требует на самом деле брак, и сколь узки рамки супружеской жизни – этого столь ревностно желаемого счастья. Я уже объяснял, что при таких обстоятельствах самым очевидным исходом является нервозность, однако нужно уточнить, каково влияние подобного брака на немногочисленных его отпрысков или на единственного ребенка, рожденного в супружестве. На первый взгляд кажется, что здесь налицо передача нервозности по наследству, но более пристальное рассмотрение показывает, что на самом деле речь идет о воздействии сильных инфантильных впечатлений. Жена-невротик, неудовлетворенная мужем, как мать чрезмерно нежна и чрезмерно беспокоится по отношению к своему ребенку, на которого она переносит собственную потребность в любви; именно она пробуждает ребенка к половой зрелости. Плохие отношения между родителями, кроме того, отравляют эмоциональную жизнь ребенка и заставляют его остро ощущать любовь и ненависть уже в очень раннем возрасте. Строгое воспитание, которое не терпит никакой активности, присущей столь рано возбужденной половой жизни, поддерживает подавление влечения, и этот конфликт детского возраста содержит в себе все необходимое для того, чтобы вызвать пожизненную нервозность.
Возвращаюсь теперь к более раннему утверждению: при изучении неврозов их полное значение, как правило, не принимается во внимание. Я не имею в виду недооценку этого болезненного состояния, легкомысленное пренебрежение со стороны родственников или хвастливые уверения врачей, будто несколько недель лечения холодной водой или несколько месяцев отдыха непременно приведут к выздоровлению. Это совершенно невежественные мнения – по большей части, не более чем речи, призванные краткосрочно утешить страждущих. Общеизвестно, что хронический невроз, даже не полностью лишая больного способности к существованию, обнажает в его жизни серьезный изъян – быть может, того же порядка, что туберкулез или сердечная недостаточность. Пожалуй, все было бы проще, исключай невротическая хворь из общественной деятельности лишь часть индивидуумов, заметно более слабых, и позволяй она всем остальным продолжать жить – по цене чисто субъективных, чисто личных неприятностей. Но я смею настаивать на том, что неврозы, каков бы ни был их размах и где бы они ни возникали, всегда препятствуют устремлениям культуры и тем самым фактически выполняют работу подавленных психических сил, враждебных культуре. Общество, расплачиваясь за послушание далеко идущим предписаниям распространением нервозности, не может притворяться, будто получило какую-то выгоду за счет малых жертв; оно вообще не может притязать на выгоду. Возьмем, например, повсеместный случай: женщина не любит своего мужа, потому что, вследствие условий, при которых она вступала в брак, у нее нет причин его любить; зато она хочет его любить, ибо к тому побуждают идеальные представления о браке, на которых она воспитывалась. Думаю, она станет подавлять всякое побуждение, обнажающее истину и противоречащее ее стремлению воплотить указанный идеал, приложит особые усилия к тому, чтобы казаться любящей, ласковой и внимательной женой. Итогом такого самоподавления станет невротическое заболевание, причем невроз за короткий срок отомстит нелюбимому мужу и причинит ему столько же неудовлетворенности и беспокойства, сколько проявилось бы вследствие признания истинного положения дел. Этот пример вполне типичен для оценки неврозов. Подобная же неудача в восполнении утраченного наблюдается и при подавлении тех враждебных культуре позывов, которые нельзя счесть непосредственно сексуальными. Если, к примеру, человек сделался чересчур добрым в результате насильственного подавления своей конституциональной склонности к грубости и жестокости, то зачастую он теряет при этом столько энергии, что не может выполнять задачи, к которым подталкивают восполняющие позывы, а потому приносит обществу меньше пользы, чем принес бы без подавления.
Добавим, что ограничение сексуальной активности в обществе обычно сопровождается усилением страхов по поводу жизни и смерти, мешающих индивидууму получать удовольствие; эти страхи ослабляют его готовность принять смерть ради достижения какой-либо цели. Как следствие, снижается склонность к деторождению, а потому данное общество или народ лишается своей толики будущего. Ввиду этого мы вполне можем поставить вопрос, заслуживает ли наша «культурная» половая мораль тех жертв, которые подразумевает, особенно если учесть, что мы до сих пор порабощены гедонизмом и неизменно включаем в число целей нашего культурного развития определенную степень индивидуального счастья. Конечно, не врачу выдвигать предложения по реформированию общества; но, на мой взгляд, я поддержал бы безотлагательность таких предложений, расширив данное фон Эренфельсом описание пагубных последствий нашей «культурной» половой морали и указав на важное значение этой морали для распространения современной нервозности.
О противоположном значении первослов[23] (1910)
В своем «Толковании сновидений» я отметил, сам не понимая его значения, один из выводов моего аналитического исследования. Повторю его здесь в качестве предисловия к данному обзору:
«Чрезвычайно интересно отношение сновидения к категориям противоположности и противоречия. Ими просто-напросто пренебрегают, как будто слова “нет” для сновидения не существует. Противоположности с особым пристрастием собираются в единое целое или изображаются в чем-то одном. Сновидение позволяет себе даже изображать любой элемент в виде его противоположности, а потому ни про один элемент, способный иметь свою противоположность, вначале неизвестно, какое качество он имеет в мыслях сновидения – положительное или отрицательное»[24].
Древние толкователи сновидений очень широко, по всей видимости, прибегали к представлению о том, что всякое нечто во сне может означать свою противоположность. Эта возможность иногда признается и современными исследователями сновидений, если они вообще готовы согласиться с тем, что сны содержательны и могут быть истолкованы[25]. Не думаю, что меня опровергнут, если я скажу, что все мои последователи в изучении сновидений с научной точки зрения нашли подтверждение приведенному выше утверждению.
Мне не удавалось понять своеобразную склонность работы сновидения к пренебрежению отрицанием и к использованию одних и те же изобразительных средств для выражения противоположностей, пока я случайно не наткнулся на статью филолога Карла Абеля[26], изданную в 1884 году отдельной брошюрой и включенную в следующем году в «Филологические изыскания» автора. Тема кажется любопытной в достаточной степени, чтобы оправдать мое желание процитировать важнейшие отрывки из этой статьи Абеля (мы опустим большинство примеров). Из них можно почерпнуть поразительные подробности: оказывается, работа сновидения, описанная мною, тождественна некоей особенности среди древнейших известных нам языков.
Отметив древность египетского языка, который должен был сложиться и развиться задолго до появления первых иероглифических текстов, Абель продолжает:
«В египетском языке, этом единственном свидетельстве первобытного мира, имеется довольно много слов с двумя значениями, одно из которых прямо противоположно другому. Предположим, если можно вообразить столь очевидную бессмыслицу, что по-немецки слово “сильный” означает и “сильный” и “слабый”; что в Берлине существительное “свет” используется как для обозначения “света”, так и для обозначения “тьмы”; что один житель Мюнхена называет пиво “пивом”, а другой употребляет то же слово, говоря о воде. Вот к чему сводится удивительный обычай, которому древние египтяне исправно следовали в своем языке. Как можно обвинять кого-то в том, что он недоверчиво качает головой, услышав такое?..»
(Далее): «Ввиду этих и множества других подобных случаев употребления слов с противоположным значением не подлежит сомнению, что хотя бы в одном языке имелось большое количество слов, обозначавших одновременно нечто и его противоположность. Как это ни удивительно, мы столкнулись с фактом и вынуждены с ним считаться».
Затем автор отвергает объяснение этого обстоятельства, исходящее из мнения, будто два слова по случайному совпадению сходны по звучанию, а также не менее твердо и решительно опровергает желание соотнести эту картину с «низшей стадией» умственного развития Египта:
«Нелепо приписывать Египту стремление сохранять приверженность бессмыслице. Наоборот, это была колыбель развития человеческого разума… Там сложилась четкая и достойная мораль, там были изложены едва ли не целиком десять заповедей, причем еще в те времена, когда народы, руками которых ныне крепится и поддерживается культура, имели обыкновение приносить человеческие жертвы кровожадным идолам. Народ, зажегший факел справедливости и культуры в столь темную эпоху, вряд ли мог быть настолько глупым в своей повседневной речи и в способе мышления… Люди, способные изготавливать стекло, поднимать и перемещать с помощью разных приспособлений огромные камни, уж всяко должны были, по крайней мере, обладать достаточной рассудительностью для того, чтобы не рассматривать что угодно как одновременно самое себя и свою противоположность. Как же примирить сказанное с тем фактом, что египтяне пользовались странным в своей противоречивости языком?.. Что они применяли одно и то же звуковое выражение для враждебных друг другу мыслей и сочетали в неразрывном единстве то, что состояло в сильнейшей противоположности друг другу?»
Прежде чем предпринимать какие-либо попытки объяснения, необходимо упомянуть вот какую стадию развития и непонятного поведения египетского языка. «Из всех странностей египетского словаря наиболее, возможно, необычной его особенностью является то обстоятельство, что, помимо слов, сочетающих противоположные значения, в нем имеются иные составные слова, в которых два слога противоположного значения объединяются, составляя сложное слово со значением какой-либо одной из двух частей. Так, в этом необычном языке есть не только слова, способные обозначать одновременно “силу” и “слабость”, “повеление” и “повиновение”, но и слова вроде “старый-молодой”, “далеко-близко”, “связать-разорвать”, “снаружи-внутри” и пр. …которые, несмотря на соединение крайностей, означают, скажем, “молодой”, “близкий”, “связывать” и “внутри” соответственно. В этих составных словах противоположные понятия намеренно объединяются не ради какого-то третьего значения, как порой случается в китайском языке, но ради того, чтобы использовать составное слово для выражения значения одной из его противоречащих друг другу частей – той, что и сама по себе имеет такое же значение…»
Однако разгадать загадку проще, чем кажется. Наши понятия обязаны своим существованием сравнениям. «Будь всегда светло, мы не смогли бы отличить свет от тьмы, и, следовательно, у нас не появилось бы ни понятия о свете, ни слова для его обозначения… <…> Ясно, что все в этом мире относительно и имеет самостоятельное существование лишь постольку, поскольку отличается от прочего. <…> Раз всякое понятие в этом отношении есть близнец своей противоположности, то помышление о нем и все попытки передать его другим людям, которые пытались это понятие постичь, попросту не могло осуществляться иначе, кроме как через сопоставление с его противоположностью» (там же). «Раз понятие силы могло появиться лишь в противопоставлении слабости, то слово со значением “сильный” заключало в себе одновременно воспоминание о “слабом” как о том явлении, посредством которого оно впервые возникло. На самом деле это слово обозначало не “силу” и не “слабость”, а отношение и различие между ними, создавшее обоих в равной степени». «Вообще человек не способен был усвоить древнейшие и простейшие понятия без противоречий и противоположностей; лишь постепенно он научился разделять две стороны противоположности и мыслить одну без сознательного сравнения с другой» (там же).