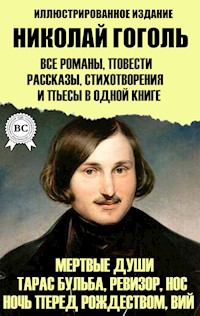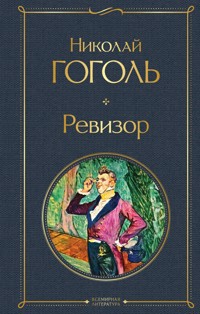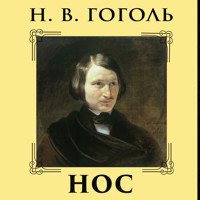Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machaon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Классная классика
- Sprache: Russisch
В книгу великого русского писателя, классика мировой литературы Николая Васильевича Гоголя вошли повести «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести проиллюстрированы знаменитым художником Олегом Коминарцем, с большим мастерством, живо и достоверно передавшим колорит бессмертных произведений писателя.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
На фронтисписе:портрет Н. В. Гоголя работы Федора Моллера (1840)
Вступительная статьяНаталии Дровалевой
Гоголь Н. В.
Вечера на хуторе близ Диканьки : повести / Николай Васильевич Гоголь ; вступ. ст. Н. Дровалевой ; худож. О. Коминарец. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023. – ил. – (Классная классика).
ISBN 978-5-389-24287-6
0+
В книгу великого русского писателя, классика мировой литературы Николая Васильевича Гоголя вошли повести «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести проиллюстрированы знаменитым художником Олегом Коминарцем, с большим мастерством, живо и достоверно передавшим колорит бессмертных произведений писателя.
© Коминарец О. И., иллюстрации, 2023
© Оформление, вступительная статья.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023
Machaon®
«ОБРАЩАТЬСЯ С СЛОВОМ НУЖНО ЧЕСТНО. ОНО ЕСТЬ ВЫСШИЙ ПОДАРОК…»
Бывают такие ночи, когда случаются чудеса. Все вокруг вдруг замирает и готовится к чуду, «вверху все дышит; все дивно, все торжественно». Именно такой ночью во время пребывания у родителей на каникулах отцу Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), Василию Афанасьевичу Гоголю-Яновскому, которому в ту пору было всего четырнадцать лет, приснился удивительный сон. Во сне ему привиделась Богородица, которая указала на маленькую девочку у Ее ног: «Ты будешь одержим многими болезнями, но то все пройдет, ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». Сон позабылся, а лицо младенчика навсегда врезалось юному Василию в память. Однажды они с отцом были в гостях у соседей. Каково же было удивление юноши, когда в маленькой дочке дворян Косяровских Василий узнал того самого младенчика у ног Богородицы. Машенька! Так звали девочку.
С тех пор Василий стал частым гостем семьи, играл с девочкой, рассказывал ей сказки. Когда пришло время выбирать невесту, Василий решил повременить. Он много лет ждал свою Машеньку и посватался именно к ней – тогда еще совсем юной девушке. Терпение молодого человека было вознаграждено. Они вышли из церкви после венчания уже в новом звании – пана и пани. Мария Ивановна стала настоящей опорой и подругой жизни для погруженного в хозяйственные и рабочие хлопоты Василия Афанасьевича.
Николай Васильевич Гоголь родился в одном из самых живописных мест Малороссии (ныне Украины). Местечко Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии стояло на правом берегу речки Псел, которая встретится читателям на страницах его произведений: «Глазам наших путешественников начал уже открываться Псел… Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревьев».
Мальчик появился на свет слабеньким, и доктор отпустил ребенка с матерью домой не сразу. Только спустя несколько недель Николаша, которого назвали в честь Николая Чудотворца, закутанный в пеленки и белую шаль, взирал из коляски на мир, расстилавшийся перед ним, – этот мир, который станет и вовсе отдельным действующим лицом в каждом его сочинении. Птица-тройка неслась мимо речек, где прятались русалки, мимо папоротников, указывающих на сокровища, мимо хаток и речки Псел, и речка эта была такая быстрая и прозрачная, что дно видно даже в самом глубоком месте… Вот-вот выйдет из-за поворота Петрусь из повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830) и отправится на поиски клада под цветком папоротника, а вот вдруг прошмыгнет хитрый черт, которого в самом отвратительном виде изобразил кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» (1832).
Будущий писатель был непохожим на других детей. Щупленький и нервный, он не ходил, а летал, напоминая черненькую остроносенькую птичку. Николаша сторонился общества, а бледный вид придавал ему загадочности. Товарищи по гимназии в Нежине даже дали ему прозвище «таинственный карла» в честь героя романа Вальтера Скотта «Таинственный Карло» – одинокого мечтателя, недоверчивого и скрытного.
Именно ко времени учебы в Нежине относятся первые литературные опыты Гоголя. Сам он позднее признавался, что эти сочинения были «в лирическом и серьезном роде», и ни его товарищи, ни сам он не думал, что придется быть писателем, да еще и писателем комическим и сатирическим. Буква цеплялась за букву, слово – за слово, и вот уже из-под пера вышла поэма «Ганс Кюхельгартен» (1829). Молодой человек издал ее в Петербурге на деньги, присланные любимой матушкой. Казалось, что литературный успех он ухватил за хвост. Но не тут-то было. В одной из рецензий на свою поэму он прочитал: «Свет ничего бы не потерял, если бы сия первая попытка юного таланта залежалась бы под спудом». Весь тираж Гоголь сжег. И стал оттачивать мастерство слова заново, понимая, что слово – это эхо мысли, оно требует особого обращения. Отсюда и медлительность работы писателя – он выверял каждую деталь, зачеркивал и сочинял заново, вводил все новые и новые подробности.
Работая чиновником в Министерстве внутренних дел, Гоголь не оставил мечты о писательстве. Спустя всего пару лет вышли уже названные выше произведения в составе сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» (1831–1832), куда были помещены и другие сочинения – «Сорочинская ярмарка», «Пропавшая грамота», «Страшная месть, старинная быль», «Иван Федорович Шпонька и его тeтушка», «Заколдованное место». Николай Васильевич проснулся знаменитым. В это время он познакомился с В.А. Жуковским, А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским. Именно Пушкин смог определить мастерство слова Гоголя, всемирно известного писателя, автора комедии «Ревизор» (1836) и поэмы «Мертвые души» (1842), которое не перепутаешь ни с кем другим: он мог заставить читателя «смеяться сквозь слезы грусти и умиления». Со словом Гоголь обращался бережно и честно, зная, что оно есть высший подарок Бога человеку, что неточное слово сродни лжи, поэтому писательское дело – совершенно особый род «служения земле своей».
Наталия Дровалева,кандидат филологических наук
За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ – нам, простым людям, мудрено и назвать их – писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, – один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, – привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку:
– Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?
Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.
– Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.
– Кто вам сказал, что это мои слова?
– Да чего лучше, тут и напечатано: рассказанная таким-то дьячком.
– Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий москаль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.
Мы придвинулись к столу, и он начал.
Дед мой (Царство ему Небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь – целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля везть [1], да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню – покойная старуха, мать моя, была еще жива, – как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы – есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, – вот не люби Бог меня и Пречистая Дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм – что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете [2] было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те открещивались от ведьм. Но приснись им… не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.
Лет – куды! – более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма – вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.
В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь – снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка – как вода… Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, – так называли этого бесовского человека, – именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь – так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда – и отвязаться нельзя: бросишь в воду – плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.
В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не Святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на Светлое воскресение не бывал в церкви, задумал было пожурить его – наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, паноче! – загремел он ему в ответ, – знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!» Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.
В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук Бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, – а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, – что полненькие щеки козачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то что седь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого… сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз – ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, – вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, – чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! – настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью, за неимением фузеи [3] и пороха.
Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, невзвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими как звонок от мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец – враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»
Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча – моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел, – пропадать так пропадать!» – да прямехонько и побрел в шинок.