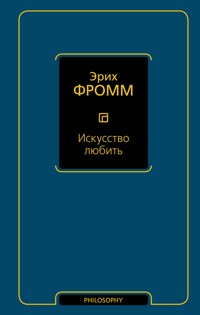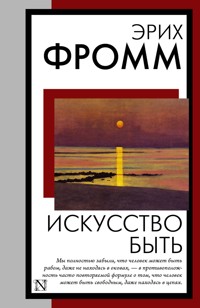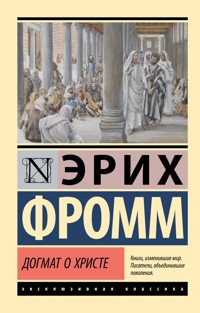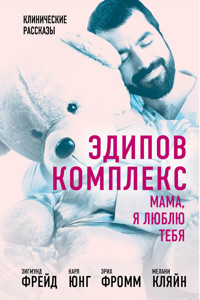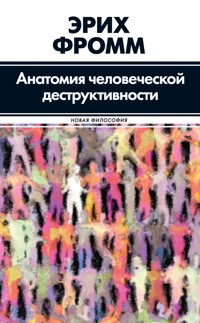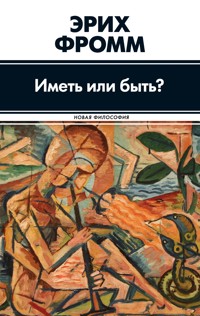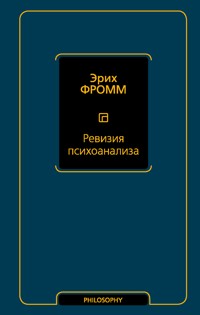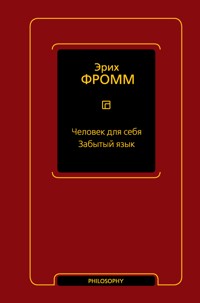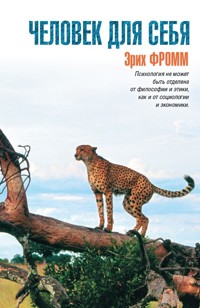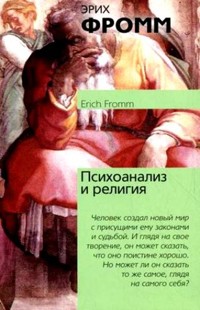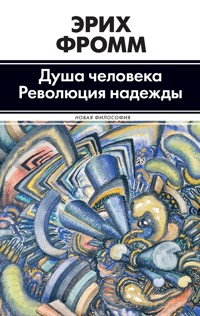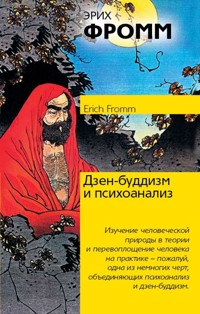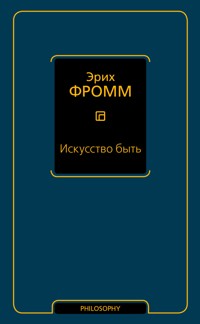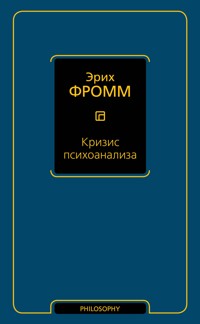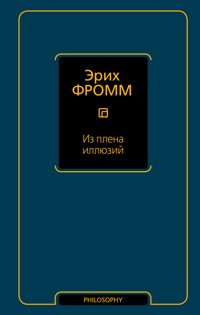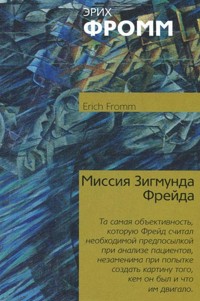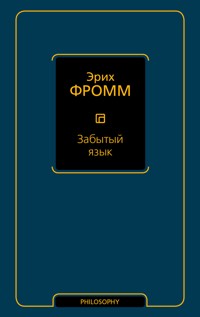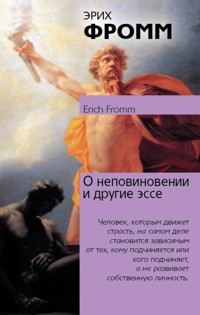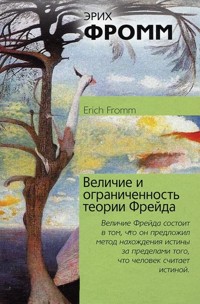
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Эрих Фромм — крупнейший мыслитель ХХ века, один из великой когорты «философов от психологии» и духовный ли-дер Франкфуртской социологической школы. Труды Эриха Фромма актуальны всегда, ибо основной те-мой его исследований было раскрытие человеческой сущнос-ти как реализации продуктивного, жизнетворческого начала.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Эрих Фромм Величие и ограниченность теории Фрейда
Предисловие
Чтобы полностью оценить значение психоаналитических открытий Фрейда, нужно начать с понимания принципа, на котором они основаны, и этот принцип нельзя выразить более адекватно, чем словами Евангелия: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна, 8:32). Действительно, идея о том, что истина спасает и исцеляет, представляет собой старинное прозрение, и хотя никто из великих учителей жизни не сформулировал его с такой ясностью и категоричностью, как Будда, однако эта мысль является общей для иудаизма, христианства, Сократа, Спинозы, Гегеля и Маркса.
Согласно буддистскому учению, иллюзия (неведение) является, вместе с ненавистью и алчностью, одним из зол, от которых человек должен избавиться, если не хочет остаться в состоянии страстного желания, неизбежно ведущего к страданию. Буддизм не отвергает мирских радостей и удовольствий – при условии, что они не проистекают из страстного желания и алчности. Жадный человек не может быть свободным и не может быть счастлив. Он – раб вещей, которые им управляют. Процесс пробуждения от иллюзий – условие свободы и освобождения от страданий, которые неизбежно порождает алчность. Отказ от иллюзий (Enttäuschung) создает условия для ведения жизни, которая более всего благоприятна для полного развития человека, или, по словам Спинозы, образца человеческой природы. Менее основополагающими и радикальными, поскольку они осквернены идеей бога-идола, являются концепции истины и необходимости в разочаровании в христианской и иудейской традициях. Однако когда эти религии пошли на компромисс с властью, они неизбежно предали истину. В учениях протестантских сект истина снова заняла выдающееся положение, потому что главную свою задачу они видели в раскрытии противоречий между христианским учением и христианской практикой.
Идеи Спинозы во многом напоминают учение Будды. Человек, который подчиняется иррациональным порывам («пассивным аффектам») неизбежно имеет неадекватные идеи о себе и мире – другими словами, живет иллюзиями. Тот, кто руководствуется разумом, перестает поддаваться соблазну чувств и следует двум «активным аффектам»: рассудку и смелости. Маркс следует традиции тех, для кого истина – условие спасения. Вся его работа в первую очередь посвящена не тому, чтобы показать, как выглядело бы хорошее общество, но беспощадной критике иллюзий, которые не дают человеку построить хорошее общество. По словам Маркса, нужно разрушить иллюзии, чтобы изменить обстоятельства, требующие существования иллюзий.
Фрейд не смог сформулировать то же положение как подходящий эпиграф для терапии, основанной на психоаналитической теории. Он необычайно расширил концепцию истины. Для него истина имела отношение не только к тому, во что человек верит или что думает осознанно, но и к тому, что он подавляет из-за нежелания думать об этом.
Величие открытия Фрейда состоит в том, что он предложил метод нахождения истины за пределами того, что человек считает истиной, и сделать это он смог, открыв эффекты подавления и, соответственно, рационализации. Фрейд эмпирически продемонстрировал, что путь к исцелению лежит в прозрении собственной ментальной структуры и тем самым «деподавлении». Такое приложение принципа, согласно которому истина освобождает и исцеляет, возможно, является величайшим достижением Фрейда, даже несмотря на то, что оно подверглось многочисленным искажениям и часто создавало новые иллюзии.
В этой книге я хочу подробно представить важнейшие открытия Фрейда. В то же время я постараюсь показать, где и каким образом буржуазное мышление, такое типичное для Фрейда, сужало и иногда даже скрывало его открытия. Поскольку моя критика Фрейда обладает собственным развитием, я не смогу избежать отсылок к более ранним утверждениям, которые я делал на этот счет.
Эрих Фромм
1. Ограничения научного знания
Причина того, почему каждая новая теория неизбежно неточна
Попытка понять теоретическую систему Фрейда, как и любого творчески и систематически мыслящего ученого, не может быть успешной без понимания того факта и его причин, почему любая система, по мере того как она развивается и представляется автором, неизбежно содержит ошибки. Это является следствием не отсутствия изобретательности, творческого подхода или самокритичности у автора, а фундаментального и неизбежного противоречия: с одной стороны, автор имеет сказать нечто новое, нечто, о чем не думали и не говорили раньше. Однако, говоря о новизне, ее помещают всего лишь в описательную категорию, не отдавая должного тому, что является сутью творческой мысли. Творческая мысль всегда мысль критическая, поскольку она разрушает определенную иллюзию и приближает к пониманию реальности. Она расширяет пространство человеческого понимания и увеличивает силу разума. Критическая и тем самым творческая мысль всегда выполняет функцию освобождения благодаря тому, что отрицает мысль, основанную на иллюзии.
С другой стороны, мыслитель должен выразить свою новую мысль в духе своего времени. Разным обществам свойственны разные виды «здравого смысла», разные категории мышления, разные системы логики; каждое общество имеет собственный «социальный фильтр», сквозь который могут пройти только определенные идеи, концепции и события; те, которые не обязательно должны оставаться в подсознании, могут стать осознанными, когда фундаментальные изменения социальной структуры приводят к соответственному изменению «социального фильтра». Мысли, которые не могут пройти сквозь социальный фильтр определенного общества в определенное время, оказываются «немыслимыми» и, конечно, «непроизносимыми». Для среднего человека мыслительные паттерны общества, в котором он живет, выглядят просто логическими. Мыслительные паттерны фундаментально иных обществ рассматриваются как нелогичные или просто бессмысленные. Однако не только «логика» определяется «социальным фильтром» и в конце концов анализом жизненной практики данного общества, но также содержание определенных мыслей. Возьмем, например, распространенное представление о том, что эксплуатация одного человека другим является «нормальным», естественным и неизбежным явлением. Для члена неолитического общества, в котором каждый мужчина или женщина жили только собственным трудом, такое положение было бы немыслимым. С точки зрения всей социальной организации того общества эксплуатация одного человека другим была бы «безумной» идеей, потому что не существовало еще излишков, которые сделали бы осмысленным найм других людей (если бы один человек принудил другого на себя работать, это не означало бы, что объем продукции увеличился; в таком случае «наниматель» только вынужденно страдал бы от праздности и скуки). Другой пример: многие общества, в которых была известна не частная собственность в современном понимании, а только «функциональная собственность», когда, скажем, инструмент, «принадлежавший» одному человеку, поскольку он им пользовался, с легкостью мог в случае надобности использоваться другими.
Для того, что «немыслимо» и «невыразимо», в языке не существует слов. Многие языки не имеют слова для «иметь» и вынуждены выражать концепцию владения другими выражениями, например, «это для меня», что отражает существование функциональной, а не частной собственности (частной в смысле латинского privare, означающего «лишать» – т. е. собственности, которой лишены все, кроме собственника). Многие языки в начальной форме не имели слова для «иметь», но в процессе развития, как можно предположить, с появлением частной собственности, слово с соответствующим значением приобрели (см., например, [2]). Вот другой пример: в X и XI веках в Европе представление о слове, лишенном выражения почтения к Богу, было немыслимым, а потому термин типа «атеизм» существовать не мог. Язык сам по себе испытывает влияние социального запрета некоторых выражений, не соответствующих структуре данного общества; языки различаются в зависимости от того, какие действия запретны и поэтому невыразимы[1].
Отсюда следует, что творческий мыслитель должен мыслить в терминах логики, мыслительных паттернов и выразимых концепций своей культуры. Это означает, что он еще не имеет подходящих слов для выражения творческой, новой, освобождающей идеи. Он вынужден разрешать неразрешимую проблему: выразить новую мысль при помощи концепций и слов, еще не существующих в его языке (они могут с легкостью существовать в более позднее время, когда его творческие открытия будут приняты обществом). Как следствие, новая мысль, сформулированная ученым, оказывается смесью того, что действительно ново, и традиционной мысли, которую она превосходит. Мыслитель, однако, не осознает этого противоречия. Традиционные мысли его культуры, несомненно, остаются для него верны, и поэтому он мало осознает различия между творческим содержанием своей мысли и тем, что чисто традиционно. Только в историческом процессе, когда общественные изменения найдут отражения в мыслительных паттернах, становится очевидным, что́ в мысли творческой личности на самом деле ново и до какой степени его система является отражением традиционного мышления. Задачей последователей мыслителя, живущих в другой системе идей, является интерпретация вклада мастера благодаря отделению «оригинальных» мыслей от традиционных и анализ противоречий между старым и новым, а не попытки гармонизировать имманентные противоречия его системы с помощью разнообразных ухищрений.
Процесс ревизии творений мыслителя, отделяющий главное и новое от случайных, заданных временем элементов, сам по себе также является продуктом определенного исторического периода, который влияет на интерпретацию. В таком творческом толковании креативные и валидные элементы в свою очередь смешиваются с зависящими от времени и случайными. Ревизия не является просто истинной, как и оригинал не является просто ошибочным. Некоторые элементы ревизии остаются верны, а именно те, которые освобождают теорию от шор предшествующего традиционного мышления. В процессе критического отвержения предыдущих теорий мы обнаруживаем приближение к истине, но не саму истину; мы и не можем ее найти, пока социальные противоречия и силы не потребуют идеологического удовлетворения, пока рассуждения человека затемнены иррациональными страстями, укорененными в дисгармонии и иррациональности общественной жизни. Только в обществе, где нет эксплуатации и, следовательно, нет нужды в иррациональных предположениях, направленных на сокрытие или оправдание эксплуатации, в обществе, где базовые противоречия разрешены и где социальная реальность может быть выявлена без искажений, человек может полностью пользоваться рассудком, может понять реальность в неискаженной форме – другими словами, понять истину. Иначе говоря, истина зависит от исторических условий, от степени рациональности и от отсутствия противоречий внутри общества.
Человек способен осознать истину, только когда он способен регулировать свою социальную жизнь гуманным, достойным и рациональным образом, без страха и без алчности. Говоря политико-религиозным языком, только в мессианское время истина может быть познана в той мере, в какой она познаваема.
Корни ошибок Фрейда
Приложение этого принципа к мышлению Фрейда означает, что для понимания Фрейда нужно попытаться выявить, какие из его открытий действительно новы и креативны и в какой степени он был вынужден выражать их в искаженном виде и как, освободив его идеи от этих шор, можно сделать его открытия еще более продуктивными.
Обращаясь к тому, что вообще говорилось об учении Фрейда, задаешься вопросом: что было действительно немыслимо для Фрейда и тем самым оказалось препятствием, дальше которого он не смог пойти?
Пытаясь ответить на этот вопрос, я вижу всего две системы:
Теорию буржуазного материализма, в особенности в той форме, в которой она получила развитие в Германии в трудах Фогта, Молешотта и Бюхнера. В книге «Сила и материя» (1855) Бюхнер утверждал: нет силы без материи и нет материи без силы; эта догма была общепринятой во времена Фрейда. Догма буржуазного материализма в выражении Фрейда была той же, какой придерживались его учителя, в особенности самый значительный из них, фон Брюкке. Фрейд оставался под сильным влиянием учения фон Брюкке и буржуазного материализма в целом и поэтому не мог себе представить, что возможно существование могучих физических сил, специфические физиологические корни которых не могут быть продемонстрированы.
Истинная цель Фрейда заключалась в понимании человеческих страстей, которыми раньше занимались философы, драматурги и романисты – но не психологи и невропатологи.
Как же Фрейд разрешил эту проблему? Во времена, когда относительно немного было известно о гормональных влияниях на психику, существовал один феномен, применительно к которому связь между физиологией и психикой была хорошо известна: сексуальность. Если рассматривать сексуальность как корень всех побуждений, то требования теории были удовлетворены, физиологические источники психических сил обнаружены. Позже Юнг отказался от этой концепции и тем самым, на мой взгляд, сделал действительно ценный вклад в учение Фрейда.
Второй комплекс немыслимых вещей заключался в буржуазной и авторитарно-патриархальной установке Фрейда. Общество, в котором женщины были бы действительно равны мужчинам, в котором мужчины не правили бы по причине своего предполагаемого физиологического и психического превосходства, для Фрейда было просто немыслимым. Когда Джон Стюарт Милль, которым Фрейд восхищался, высказывал идею равенства женщин, Фрейд написал в письме: «В этом отношении Милль просто безумен». Слово «безумный» типично для определения немыслимых вещей. Большинство людей называет некоторые идеи безумными, потому что разумность заключена только в границах традиционного мышления. То, что выходит за эти границы, для среднего человека безумно (дело обстоит иначе, впрочем, если писатель или художник добивается успеха. Разве успех не свидетельствует о разумности?) Немыслимость для Фрейда идеи равенства женщин привела его к созданию женской психологии. Мне представляется, что его уверенность в том, что половина человечества биологически, анатомически и умственно стоит ниже другой половины, является единственным положением его учения, не имеющим ни малейшего оправдания, и представляет собой отражение его мужского шовинизма.
Однако буржуазный характер учения Фрейда отражается совсем не только в его чрезвычайной патриархальности. Существует очень немного мыслителей, радикально выходящих за пределы мышления своего класса. Фрейд к ним не принадлежал. Классовые истоки взглядов Фрейда видны практически во всех его теоретических построениях. Да и как могло быть иначе – ведь радикальным мыслителем Фрейд не был. Тут не на что было бы жаловаться, если бы не тот факт, что его ортодоксальные (и неортодоксальные) последователи поощрялись в своем некритичном отношении к обществу. Такая установка Фрейда также объясняет, почему его создание – которое было критической теорией, а именно критикой человеческого сознания, – привело к появлению всего лишь небольшой кучки радикально мыслящих политиков.
При желании проанализировать наиболее важные концепции Фрейда с точки зрения их классовых истоков[2] пришлось бы написать целую книгу. В пределах данной работы такое, несомненно, сделать невозможно. Однако приведем три примера.
1. Целью терапии Фрейда был контроль над инстинктивными побуждениями путем усиления Эго; инстинктивные побуждения сдерживались Эго и Суперэго. В этом отношении Фрейд близок к средневековой теологической системе мышления, хотя и с существенным отличием: в его системе нет места благодати и материнской любви, кроме как при вскармливании ребенка. Ключевое слово – контроль.
Психологическая концепция соответствует общественной реальности; точно так же, как социально большинство контролируется правящим меньшинством, считается, что психика контролируется авторитетом Эго и Суперэго. Опасность прорыва бессознательного несет с собой опасность социальной революции. Подавление есть репрессивный авторитарный метод защиты внутреннего и внешнего status quo. Это ни в коем случае не единственный способ справиться с проблемами социальных изменений. Однако угроза применения силы для подавления «опасности» – единственная возможность для авторитарной системы, главная цель которой – сохранение status quo. С другими моделями личностной и социальной структур можно экспериментировать. Окончательный анализ сводится к вопросу: какой отказ от счастья необходим в обществе для правящего меньшинства, чтобы властвовать над большинством? Ответ лежит в развитии производительных сил общества и, следовательно, в той степени, в которой индивид неизбежно испытывает фрустрацию. Вся структура «Суперэго, Эго, Ид» иерархична, что исключает возможность того, что общество свободных, то есть не эксплуатируемых людей может существовать гармонично без неизбежного контроля зловещими силами.
2. Не нужно и говорить, что гротескное изображение Фрейдом женщин (см. лекция 33 [26]) как в основе своей нарциссических, неспособных к любви и сексуально холодных, – мужская пропаганда. Представительница среднего класса была, как правило, сексуально холодной. Это задавалось собственническим характером буржуазного брака. От женщины как от собственности ожидалось, что в браке она будет «безжизненной». Только представительницам высших классов и куртизанкам разрешалось быть сексуально активными (или по крайней мере притворяться таковыми). Неудивительно, что в процессе завоевания мужчины испытывали вожделение; чрезмерно высокая оценка «сексуального объекта», согласно Фрейду, существовавшая только для мужчин (еще один недостаток женщин!), основывалась, насколько я могу судить, на удовольствии от преследования и, наконец, завоевания. Как только завоевание оказывалось обеспеченным первым сношением, женщине отводилась функция деторождения и успешного ведения домашнего хозяйства; она переходила из разряда объекта преследования в категорию не-личности[3]. Если бы у Фрейда было много пациенток из высших слоев французской и английской аристократии, его ригидное представление о холодной женщине могло бы измениться.
3. Возможно, самым важным примером буржуазных свойств кажущихся универсальными концепций Фрейда является концепция любви. Фрейд говорит о ней больше, чем его ортодоксальные последователи. Однако что он понимает под любовью?
Очень важно отметить, что Фрейд и его приверженцы обычно говорят об «объектной любви» (в противовес любви нарциссической) и об «объекте любви» (имея в виду того, кого любят). Однако существует ли в действительности такая вещь, как «объект любви»? Не перестает ли возлюбленный быть объектом, то есть чем-то внешним и противостоящим мне? Разве любовь не именно внутренняя активность, объединяющая двух людей, так что они перестают быть объектами (то есть собственностью друг друга)? Взгляд на объект любви как на владение, исключая любую форму личностности (см. [38]) – то же самое, что представление торговца о вложении капитала.
Во втором случае вкладывается капитал, в первом – либидо. Только логично встретить в психоаналитической литературе определение любви как «вложения либидо» в объект. Нужна банальность деловой культуры, чтобы низвести любовь к Богу, любовь мужчины и женщины, любовь к человечеству до уровня вложения; энтузиазм Руми, Экхарта, Шекспира, Швейцера показывает мелочность воображения тех людей, классовое сознание которых рассматривает вложения и прибыль как смысл жизни.
Теоретические предпосылки заставляют Фрейда говорить об «объектах любви», поскольку «либидо остается либидо, направлено ли оно на объект или на собственное Эго» [16; 420]. Любовь – это сексуальная энергия, направленная на объект; она всего лишь физиологически вызванный инстинкт, направленный на объект. Это побочный и излишний продукт биологической необходимости, удовлетворение которой требуется для выживания вида. «Любовь» человека по большей части – это тип привязанности, то есть привязанность к лицам, ставшим драгоценными благодаря удовлетворению других жизненных потребностей (в пище и в питье). Другими словами, любовь взрослого человека не отличается от любви ребенка; они оба любят того, кто их насыщает. Это, несомненно, верно для многих; такая любовь – нежная благодарность за насыщение. Хорошо, но сказать, что это и есть суть любви, – мучительно банально (женщинам, как сказано в работе Фрейда [26; 132f], недоступно это высокое достижение, потому что они любят «нарциссически»: в другом они любят себя).
Фрейд утверждает: «Любовь сама по себе, до тех пор пока она остается стремлением и лишением, понижает самоуважение, в то время как взаимность и обладание объектом любви снова его повышает» ([15]; 99. – Курсив мой. – Э.Ф.). Данное утверждение – ключ к пониманию фрейдовской концепции любви. Любовь, предполагающая желание и лишение, понижает самоуважение. Тем, кто утверждает, что любовь приносит восторг и силу, Фрейд отвечает: «Вы все неправы! Любовь делает вас слабыми; вы делаетесь счастливыми, когда вас любят. А что значит „вас любят“? Это – обладание любимым объектом!»
Таково классическое определение буржуазной любви: счастье составляют обладание и контроль, будь это обладание материальной собственностью или женщиной, которая, принадлежа, владеет любовью своего владельца. Любовь начинается в результате кормления ребенка матерью. Она заканчивается, когда мужчина владеет женщиной, которая все еще должна насыщать его своей привязанностью, сексуальным удовлетворением и пищей. Здесь мы, возможно, находим корни Эдипова комплекса. Воздвигая соломенное чучело инцеста, Фрейд прячет то, что считает главной сутью мужской любви: вечную привязанность к матери, которая кормит ребенка и в то же время находится под контролем мужчины. То, что Фрейд говорит между строк, весьма, пожалуй, подходит патриархальному обществу: мужчина остается зависимым, но опровергает это, похваляясь силой и доказывая ее тем, что делает женщину своей собственностью.
Суммируя, можно сказать: главным фактором патриархальной мужской установки является зависимость от женщины и ее отрицание через контроль над женщиной. Фрейд, как это часто делается, трансформировал специфический феномен: превратил патриархальную мужскую любовь в универсальный человеческий принцип.
Проблема научной «истины»
Сегодня стало модным говорить – к этому особенно склонны представители различных ветвей академической психологии, – что теория Фрейда «ненаучна». Такое утверждение, конечно, полностью зависит от того, что каждый ученый называет научным методом. Многие психологи и социологи имеют довольно наивное представление о научном методе. Коротко говоря, ожидается, что сначала человек собирает факты, затем подвергает их различным количественным измерениям – их математическая обработка стала чрезвычайно легкой с появлением компьютеров, – а затем в результате всех этих усилий приходит к теории или по крайней мере к гипотезе. Как и в случае естественных наук, доказательство правильности теории заключается в возможности повторения эксперимента другим исследователем с теми же результатами. Проблемы, которые не поддаются такому типу количественного выражения и статистическому подходу, считаются имеющими ненаучный характер и, таким образом, лежащими вне научной психологии. Согласно такой схеме один, два или три примера, позволяющих наблюдателю сделать определенные заключения, объявляются более или менее бесполезными, если нельзя получить значительного количества примеров, пригодных для проведения статистической процедуры. Главным для этой концепции научного метода является предположение по умолчанию, что факты сами по себе порождают теорию, если использован должный метод, а роль творческого мышления наблюдателя чрезвычайно мала. Что от ученого требуется, так это способность провести кажущийся удовлетворительным эксперимент без предварительного выдвижения теории, которая может быть доказана или опровергнута в ходе эксперимента. Такая концепция науки как простой последовательности отбора фактов, эксперимента и уверенности в результате устарела, и важно отметить, что настоящие ученые – физики, биологи, химики, астрономы – давно отказались от этой примитивной концепции научного метода.
Сегодня творческих личностей от псевдоученых отличает вера в возможности разума, вера в то, что разум и воображение человека могут проникнуть сквозь обманчивую поверхность феномена и выдвинуть гипотезы, касающиеся основополагающих сил, а не поверхностных явлений. Важно отметить, что последнее, чего они ожидают, – это уверенность в окончательной истине. Они знают, что каждая гипотеза будет вытеснена другой, которая не обязательно отрицает первую, но модифицирует и расширяет ее.
Ученый может справиться с неопределенностью именно в силу своей веры в человеческий разум. Для него имеет значение не окончательное заключение, а уменьшение степени иллюзии, более глубокое проникновение к корням. Ученый даже не боится ошибиться, зная, что история науки – это история ошибочных, но продуктивных утверждений, порождающих новые прорывы, преодолевающих относительную ошибочность прежних воззрений и ведущих к новым открытиям. Если бы ученые были одержимы желанием никогда не ошибаться, они никогда не достигли бы прозрений, которые оказались бы относительно правильными. Конечно, если социолог задает только тривиальные вопросы и не обращается к фундаментальным проблемам, его «научный метод» приносит результаты, достаточные для бесконечной публикации статей, которые он должен написать для продвижения в научной карьере.
Это вовсе не всегда было методом социологов. Достаточно вспомнить таких ученых, как Маркс, Дюркгейм, Мэйо, Макс и Альфред Вебер, Теннис. Они обращались к наиболее фундаментальным проблемам, и данные ими ответы не основывались на наивных позитивистских методах; они не полагались на статистические данные как порождающие теории. Для них сила разума и вера в эту силу были столь же неколебимы и значимы, как и для самых выдающихся ученых естественников. Однако в социальных науках ситуация изменилась. С ростом влияния большой промышленности многие социологи подчиняются обстоятельствам и занимаются только теми проблемами, которые могут быть разрешены без потрясения системы.
Какова же сегодня процедура, создающая научный метод как в естественных, так и в социальных науках?
1. Ученый не начинает работу на пустом месте; скорее его мышление определяется имеющимися у него знаниями и вызовом, который бросают неисследованные области.
2. Условием оптимальной объективности является самое скрупулезное и подробное изучение феномена. Ученого характеризует величайшее уважение к доступным для наблюдения деталям: многие великие открытия были сделаны потому, что ученый обратил внимание на мелкое событие, которое было замечено, но проигнорировано другими.
3. Ученый формулирует гипотезу на основании известных теорий и максимума подробных знаний. Функцией гипотезы является некоторое упорядочение наблюдаемых феноменов и осторожное расположение их так, чтобы это казалось осмысленным. Также очень важно, чтобы исследователь был способен в любой момент заметить новые данные, противоречащие его гипотезе, что ведет к ее пересмотру, – и так далее до бесконечности.
4. Такой научный метод требует, конечно, чтобы ученый был хотя бы относительно свободен от принятия желаемого за действительное и от нарциссического мышления; другими словами, чтобы он был способен наблюдать факты объективно, без искажений или придания им непропорционального веса из-за своего стремления доказать правильность своей гипотезы. Сочетание богатого воображения и объективности достигается редко, и в этом, возможно, причина того, что великие ученые, для которых выполнялись бы оба условия, так немногочисленны. Высокий интеллект необходим, но сам по себе недостаточен для того, чтобы его обладатель стал творческой личностью. На самом деле полная объективность вообще едва ли может быть достигнута. Как уже говорилось, на ученого всегда оказывает влияние здравый смысл его времени; более того, только чрезвычайно одаренные люди не страдают нарциссизмом. Все же дисциплина научного мышления порождает определенную степень объективности и то, что может быть названо научной совестью, что редко встречается в других сферах культурной жизни. Действительно, тот факт, что великие ученые яснее, чем кто-либо другой, видят опасности, угрожающие сегодня человечеству, и предупреждают о них – это выражение их способности быть объективными и не поддаваться давлению заблуждающегося общественного мнения.
Эти принципы научного метода – объективность, наблюдение, формулирование гипотез и пересмотр их при дальнейшем исследовании фактов, – хотя и являются валидными для всех направлений науки, не могут одинаково прилагаться ко всем объектам научной мысли. Хотя я не компетентен в области физики, существует, несомненно, выраженное различие между наблюдением за живым человеком в целом и наблюдением определенных аспектов личности, выделенных из нее и изучаемых без оглядки на целое. Это не может быть сделано в любой системе без искажения указанных изолированных аспектов, которые хотелось бы изучить, потому что они находятся в постоянном взаимодействии с каждой частью системы и не могут быть поняты вне целого. Если пытаться изучать один аспект личности в отрыве от целого, необходимо разъять личность – другими словами, разрушить ее целостность. Тогда можно изучать тот или иной изолированный аспект, но все выводы, которые будут сделаны, неизбежно окажутся ошибочными, потому что будут получены на мертвом материале – расчлененном человеке.
Живой человек может быть понят только как целое и живое существо, пребывающее в постоянном состоянии изменений. Поскольку каждый индивид отличается от любого другого, даже возможность обобщений и формулирование законов ограничены, хотя ученый-наблюдатель всегда будет стараться найти какие-то общие принципы и законы, применимые к множеству индивидов.