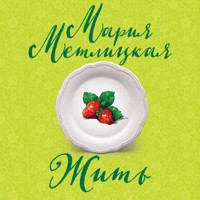Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: За чужими окнами. Романы Ю. Лавряшиной
- Sprache: Russisch
Мы выбираем, нас выбирают… Счастье, когда чувства взаимны. А если нет? История, которая легла в основу повести «Верный муж», открывающей эту книгу, — реальна. На одной из многочисленных читательских встреч ко мне подошла женщина и вручила сверток с письмами. Я о них, признаться, забыла, а когда вспомнила и начала читать, не смогла оторваться. В этих письмах было столько страсти, столько муки, столько радости… Я никогда не знала мужчину, который писал эти письма, не была знакома с женщиной, которой они адресованы. Но мне казалось, я слышу их голоса, вижу их лица. И прекрасно представляю, чувства своей героини, которая после смерти любимого мужа обнаружила их — чужие письма, где были те самые слова, которых она ждала всю жизнь… Мария Метлицкая
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Мария Метлицкая Верный муж
Верный муж
Теперь ее день начинался совсем по-другому. Не так, как прежде. Прежняя жизнь канула в Лету: и привычки, и распорядок, и планы – все поменялось и развернулось в другую сторону.
Все закончилось со смертью мужа. Началась новая жизнь. Каждый день Надя уговаривала себя, что и к этому привыкают. Да ко всему люди привыкают, что говорить! А уж сколько вдов в ее возрасте! Гораздо больше, чем вдовцов, – таковы реалии жизни, никуда не деться.
Со смерти мужа времени прошло совсем мало – всего-то полгода. Что это по сравнению с целой жизнью длиною в двадцать семь лет! Приятельницы, уже прошедшие нелегкий путь вдовства, утешали как могли и делились опытом. Одна предлагала вязать на спицах, другая – уехать к родне в другой город, третья – отправиться в путешествие по разным странам. Четвертая фанатично занялась здоровьем – бассейн три раза в неделю и какая-то новомодная аэробика.
Все это было не для нее. Вязание и всякое рукоделие ее только раздражали, родни в провинции не имелось вовсе, путешествовать было уж совсем неохота – все поездки были семейными, и представить себя одной на пароходе или на пляже было совсем нелепо и даже страшновато.
А уж про фитнес-центры – ну это вообще смешно! Спортсменка из нее…
Дочка Любочка жила в Португалии – муж-грек (вот как бывает) отправился туда в поисках лучшей доли. Кризис в Греции давал о себе знать, и у детей был сейчас тоже несладкий период – жили у брата мужа, работал один зять, дочка искала работу, но пока безуспешно.
Что оставалось в пенсионерской и одинокой отныне жизни? Да по сути – ничего. Готовку Надежда забросила – столько лет у плиты! Осточертело.
К подругам часто не поездишь – усталость, да и, потом, у всех свои дела и проблемы. Выходило, что в сухом остатке у нее книги, телевизор, походы в магазин и, пожалуй, все – как ни прискорбно.
Все лето она провела на даче, хотя с погодой не повезло – в июне беспрерывно лили дожди, в июле стояла невыносимая жара, а в августе опять зарядили дожди и стало холодно, да так, что печку приходилось топить ежедневно. А как только закончились дрова, она с облегчением и радостью закрыла ставни, убрала подушки и одеяла на чердак, укрыла гортензию и розы лапником и поспешила в Москву.
В квартире тоже было не ахти – и сыро, и холодно. И тоже совсем одиноко. В комнату мужа Надежда не заходила. Пока не заходила. Ждала, пока чуть отпустит, хотя бы самую малость. Только приоткрывала дверь, пытаясь уловить хоть какой-то знакомый запах, но… Запахов не было. Запахи, даже самые стойкие, имели способность улетучиваться и испаряться. В отличие от человеческой боли, воспоминаний и переживаний.
Теперь она могла спать хоть до полудня и в первые месяцы так и делала – вставала в двенадцать, пила чай и снова ложилась. Потом взяла себя в руки. Пыталась хлопотать по дому. Да какие это были хлопоты! Смешно, ей-богу! После той ее жизни, где все было подчинено семье, мужу, заботам о его здоровье, особенно в последние годы, когда он уже тяжело и безнадежно болел. Да и раньше, до его болезни, расслабиться ей не удавалось – слишком требователен был Григорий Петрович, даже капризен. Впрочем, здесь и ее доля вины, да еще какая! Дочка говорила, что ее шея – отличный плацдарм, удобный и комфортный. Если уж кто присядет, обратно не сгонишь точно.
Но здесь надо было учитывать особые обстоятельства ее жизни. А именно то, что она вышла замуж, да и за приличного, очень интересного внешне, обеспеченного и интеллигентного человека, и это было огромной удачей и везением. Ей к тому времени исполнилось тридцать два года, и внешность у нее была совсем незначительная, плюс к тому – отчаянная бедность и отсутствие всяких надежд на какие-либо перемены.
Знакомство с Григорием Петровичем было дано свыше, не иначе, так как ее шансы были ничтожны. Она уже перестала мечтать не только о замужестве, но и просто о незначительных отношениях с мужчиной – она была согласна на роль любовницы или подруги, жилетки или плеча, но и их ей, увы, никто не предлагал. И даже мать, не терявшая надежду до последнего, перестала ходить в церковь (разумеется, потихоньку от дочки) и ставить свечки всем святым подряд.
Подруги все были давно при мужьях и при детях, самые отчаянные заводили интрижки на работе и курортах, горели в страстях, убивались в семейных хлопотах, меняли наряды и прически и больше всего боялись, что молодость исчезает, испаряется, и трагично отмечали, как неумолимо бежит время.
А Наденька Круглова была спокойна и рассудительна: так – значит, так. Не всем быть при муже и не всем иметь ребенка. У всех своя судьба, ее, как известно, не обманешь и вокруг пальца не обведешь.
Обвела. Обвела судьбу тихая Наденька. Да еще как обвела! Вот уж дала она тогда повод для пересудов всем подружкам и соседкам! Было чем заняться. Все диву давались – Надька! Все тихой сапой! Скромная такая, мышка серая! Не просто замуж – вот ведь в чем дело. Не из серии – на каждую гаденькую найдется свой плохонький. Где там! Мужа оторвала интересного, солидного, с положением. Зарплата, квартира, машина! Вот дела! И непьющий мужик, и вроде не гулящий! Интеллигент, одно слово. Приличный человек. И завидовали Наде – как без этого – даже те, кто давно был «в семье» и с детишками. Что поделаешь – так человек устроен. А все потому, что у красавиц и умниц таких мужей не было. А у «этой Надьки»…
За что, спрашивается? За какие такие заслуги? А не за какие. Просто судьба.
А что у Нади на сердце, какие печали – это всем знать ни к чему.
А были печали, были! И слезы были, и бессонные ночи. Все было. Только никому-никому она об этом не рассказывала, потому что личное на то и личное, чтобы без посторонних глаз.
Нет! Все равно она считала, что счастлива! Бога не гневила – ни-ни! И муж порядочный, и дочку родила. И это почти в тридцать пять! Все успела. Муж слова грубого за всю жизнь не сказал, дурой не обозвал ни разу. И дочка удачная – всем бы таких детей! Болела не много, в школе успевала хорошо. Шляться не шлялась, по подъездам не терлась, не курила и на дискотеки не бегала. В восемнадцать замуж вышла за иностранца. И опять пересуды – дала Любашка! Всем нос утерла! А ведь не такая красавица – ничего примечательного! Таких миллионы. Укатила в Грецию.
Ну без гадостей не обошлось – дескать, бросила родителей в такую минуту! Отец почти не встает, мать буквально рвется.
А Любаша уехала. Не бросила их, а уехала, за мужем, потому что у нее теперь семья. А семья – это святое, так ее мать воспитала. И не забывала их, между прочим, звонила по три раза в неделю. Лекарства присылала отцу иногда.
Да, на похороны отца Любочка не приехала. Не потому, что денег пожалела, а потому, что Наденька дочь пожалела, кровиночку свою. Не написала, что отец скончался. Вернее, написала, но потом, после похорон. Знала, как у детей плохо с деньгами. И было ей наплевать на пересуды за спиной.
Семья – это государство. Свой король и свои подданные. Свои устои и свои законы. Хочешь – принимай и живи счастливо. Хочешь – бастуй и живи в немилости.
Королем в семье был муж, Гриша. А Наденька с Любашей – подданные. И что в этом плохого? Король отвечает за них, за подданных. Заботится и оберегает. Все решения принимает сам. И они с этим согласны. Так спокойнее, не правда ли?
Будущий муж, тогда еще жених, был предельно честен. Сказал сразу: «Примешь то, что я говорю, жить будем мирно и спокойно. Хорошо будем жить. Будешь возражать, ничего не выйдет – ни семьи, ни дома. Вот так. И это мой ультиматум».
Надя хотела. И приняла все, без уточнений и вопросов. Потому что из понятливых и еще потому, что любила. Вот и объяснение. Все просто. Она даже не удивилась мужниному ультиматуму. Тихо сказала: «Хорошо. Я согласна». Не думала ни минуты.
А ультиматум был серьезный. Из нескольких пунктов. Во-первых, никаких гостей. Мой дом – моя крепость. И в гости тоже – ни-ни. Не любит он это. Сама – пожалуйста, бога ради. И в театры, и в кино – с мамой или с подружками. Он не изверг и не садист. Далее, влажная уборка каждый день – Григорий Петрович аллергик. Дальше – завтрак, обед и ужин. Как «Отче наш». С утра – овсянка. В обед суп и второе. Кисель (предпочтительней) или компот. Ужин легкий – здесь уж она сама разберется.
Спальни разные – так всем будет удобнее. Он привык читать за полночь, да и спит неважно – что ее беспокоить. Что ж, разумно. Обиделась про себя и ненадолго. Против логики и здравого смысла не попрешь.
Потом даже оценила. С возрастом, правда.
Отдыхать вместе – через год. Он любит уединение. По этой же причине в его комнату без стука не входить.
Обидно? Да ерунда, бросьте. Человек имеет право! К тому же надо понимать: он так привык. Столько лет прожил в одиночестве!
И это Надя приняла. Ну в конце концов – в чем здесь трагедия? Зарплату муж отдавал до копейки. В кино и к подружкам отпускал. Правда, к его приходу она должна была быть дома… А что тут такого? Работа у него тяжелая, ответственная. Это не ее работа – курам на смех. Синекура, а не работа – пешочком да на полдня, в поликлинике районной статистиком. Прошлась по свежему воздуху, размялась. Не спеша, по липовой аллейке. Ни транспорта общественного, ни давки. На обратном пути – в булочную и молочную. Сказка, а не работа!
И тряпкой влажной полы и мебель протереть не грех и не тяжесть. А кашу овсяную сварить и кисель – тоже невелик труд.
Да и пылесос муж тут же купил импортный. И стиральную машинку.
И на курорт ездили по путевке. Никаких каморок и столовых – номер с видом на море, питание диетическое, виноград и персики на блюде. Свой пляж с лежаками. Райская жизнь!
Дочку муж любил. Ничего ей не жалел – ни игрушек, ни платьев, ни развлечений. В семь лет купил пианино, чтобы Любочка слух развивала.
На что жаловаться? Не на что, правильно. Только господа и судьбу каждый день благодарить за такого отца и мужа. И к маме ее, кстати, относился хорошо: ни слова грубого, ни взгляда. Денег на новый холодильник дал.
Все делал для семьи и все во благо. Упрекнуть человека не в чем! Не муж, а идеал всех женщин.
Да, все так. Все правда. Только вот слова «люблю» он Наде за всю жизнь ни разу не сказал. «Спасибо» – да, было. Особенно под конец жизни, когда болел.
А за что, собственно, «спасибо»? За то, что ухаживала? Честно исполняла свой долг?
Ну тогда она ему каждый день должна была кланяться. Поклоны бить.
А разве он требовал? Никогда себя не хвалил и ее не попрекал.
Сложный человек, понятно. А кто простой? Вот покажите!
Да нет, не показывайте! Потому что ей неинтересно, как и кто там живет.
У нее есть семья! Государство! Ее, личное. Ее и его. И они в нем сами разберутся. Не сомневайтесь.
А про то, что «люблю» не говорил…
Так он однажды сказал: «Человек определяется не словами, а делами. У тебя есть претензии?»
Нет. Претензий у нее не было.
А вот было ли счастье? Вопрос.
***
Интересное дело – судьба. И на танцы ведь молодая ходила, и в кинишко, и на каток с подружками. Позже – в компании разные. С мамой ездила на курорт. И ничего! Ни одного серьезного романа! Так, пара-тройка незначительных свиданий.
А тут поехала к тетке на Сретенку, села на бульваре передохнуть. Рядом мужчина – солидный, интересный. Газету читает. Она взгляд мельком кинула и отвернулась. Доела мороженое, передохнула и встала со скамейки. А он газету отложил и спрашивает: «Торопитесь?»
Она от неожиданности головой мотнула и снова на скамейку плюхнулась.
Так и познакомились. Прошлись по Сретенскому, потом до самой Сухаревки дошли. Как – за разговорами и не заметили.
Назавтра снова встретились. Опять гуляли. Осень тогда стояла сказочная! Октябрь, а тепло, как летом.
Гуляли три недели. А потом Григорий Петрович предложил Наденьке выйти за него замуж.
Она почему-то расплакалась и сразу кивнула.
А ночь не спала и думала, что назавтра он рассмеется и скажет, что пошутил.
Не сказал. И через два месяца сыграли свадьбу.
***
Что она знала о своем муже? А ничего. Сразу поняла: спрашивать не надо. И не в том дело, что Надя Круглова, в замужестве Панкратова, была шибко умной или шибко опытной – какой у нее опыт, смешно! А потому, что чуйка у нее была, природное такое свойство: не лезть в чужую душу, не интересоваться подробностями, не стремиться узнать того, о чем ей не пожелали рассказать. Нелюбопытной была Надя – наверное, так. И еще – стеснительной. Конечно, понимала: муж Гриша достался ей человеком сложившимся, взрослым. К тому же красавец, что говорить. Понятно, что баб у него было в избытке. А вот от подробностей увольте. Не ее это дело. Важно, что есть сейчас. А про прошлое бог с ним. Как говорила мама, меньше знаешь, крепче спишь.
Правда, одна Гришина родственница, Лена-беленькая, препротивная, надо сказать, особа, сплетница и интриганка отъявленная, за которой водился грешок людей, как собак, стравливать, поймала ее в коридоре, завела в темный угол и попыталась «рассказать все, как оно действительно было». Надя, совсем молодая жена, болтливую родственницу остановила резко, что в принципе ей было не свойственно:
– Не интересно нисколько, не тратьте зря времени!
Ленка эта аж кипящей слюной подавилась:
– Как это так? Про баб его не интересно? Такие были темы! – И она в блаженстве закатила глаза.
– Ни капли не интересно! – подтвердила Надя и, решительно отодвинув Лену, пошла прочь.
Та так и осталась с открытым ртом, да еще и обиделась – пару лет трындела, что жена у Гришки неполноценная. Дура прям какая-то. Хорошая пара: он, придурок спесивый, и она, недоделанная.
Потом Надежда поняла, почему Гриша к этим «родственничкам» ни ногой. Ни на праздники, ни на дни рождения. Только если похороны – здесь не отбрешешься.
Жили хорошо – ни ругани, ни скандалов. Мужа Надя уважала, ценила и… побаивалась немного, совсем чуть-чуть. Особенно когда он брови хмурил и покрякивал недовольно – была у него такая привычка. Отцом Григорий Петрович был для Любаши справедливым – ни разу на нее просто так не сорвался, не заорал, как это часто у мужиков бывает, когда устали или настроения нет. Правда, и не занимался с ней никогда – в игрушки не играл, книжек не читал. А что тут такого? Все мужики такие. Ну или почти все. Все женщины на мужей жаловались. Только не Надя. Никогда – даже матери родной, не говоря о подружках, слова дурного о муже не сказала. Ни разу! Да и говорить было особенно нечего.
А что неласковый – так это характер такой, куда деваться!
Иногда, когда ехали в машине и радио слушали, а там какая-нибудь песня про любовь, «Опустела без тебя земля» например, у Нади от волнения в горле перехватывало. Бросала она взгляд на мужа и мечтала, что посмотрит он сейчас на нее нежно, возьмет за руку и чуть сожмет ее пальцы.
И им обоим станет понятно, что они друг для друга значат. Можно и без слов – и так понятно, даже если просто взгляд и ладонь в ладонь.
Нет. Не было этого. Взгляд ее он чувствовал, а вот головы не поворачивал. Только брови хмурил и губы поджимал – сразу видно, что раздражался.
Надя вздыхала и смотрела на дорогу – так, значит, так. Несентиментальный человек – вот что это значит. И больше ничего.
А то, что называется интимная жизнь, с Наденькиным-то опытом… Откуда ей было знать, как и что в этой самой интимной жизни бывает! И с подружками на эту щекотливую тему она, разумеется, не разговаривала. А с мамой – тем паче.
Правда, когда видела в метро или в театре, как мужчина держит спутницу за руку, или поправляет ей воротничок на платье, или просто смотрит на нее, екало в сердце, ныло как-то тревожно.
Не было у нее ничего подобного. Ни разу в жизни не было. Обидно, а что делать? Было чем себя утешить – такого мужа, как у нее, еще поискать: верного, порядочного, непьющего. Сколько бы ей позавидовало женщин! А она разнюнивается, сопли распускает. Корила себя, стыдила.
Мама однажды спросила:
– Любишь его, Наденька?
А она споткнулась на ответе, задумалась. Минуту всего, а мама вздохнула, да так тяжело…
И тихо сказала:
– А я так и думала.
Надя тотчас спохватилась и даже на маму накричала.
– Думала? О чем таком ты думала, позволь спросить? Нет, давай уточним! – горячилась она.
Тихая мама обиделась и всплакнула.
А Наденька на нее еще долго злилась, почти целый месяц.
А потом подумала: не на себя ли она злится? А может, на Гришу? Или вообще – на жизнь?
Еще Надя наблюдала потихоньку за мужем – реагирует ли он на красивых женщин? Нет, ничего похожего. Можно спать спокойно. Головой, как петух, вслед красавицам не крутит, взгляды исподтишка не бросает, на пляже стройных красоток не отслеживает.
А однажды в санатории в Хосте за их столиком в столовой оказалась одна такая активная дамочка, полковничья жена Виолетта Семеновна. Стройная не по годам, талия, грудь – ну Мэрилин Монро просто. «Бабетта» вполметра на голове, «стрелки» до ушей, помада фиолетовая. Видно за версту – полковая Мессалина. К вниманию привыкла, как солдат к побудке.
В столовую заходит лебедью белой – плывет между столиками, как танцовщицы из «Березки». Духами разит за версту. Вот так соседка досталась – даже сердце у Наденьки тоскливо заныло.
И глазами эта Виолетта шьет, как машинка «Зингер», и смехом хрустальным заливается:
– Григорий Петрович, ах, салатик передайте, если, конечно, не трудно! Хлебушка белого пару кусочков будьте добреньки! Мне, знаете ли, что черный хлеб, что белый… Без разницы! С моей-то конституцией!
Обращается только к Грише, Нади за столом вроде как и нет.
И все балаболит, балаболит без остановки – и про погоду, и про персонал, и про танцы ежевечерние. А Гриша только лоб морщит. И еще губы кривит. Видно, что осточертела ему эта мадам – дальше некуда. Даже за соседний стол хотел пересесть. Надежда остановила – сказала, неприлично. Слишком явно как-то.
Так и мучился весь срок, гримасы корчил. Торопился поскорее поесть и из столовой убежать.
Потом до этой Виолетты дошло – обиделась даже.
– Нелюбезный вы какой-то, Григорий Петрович! Не умеете с дамами обращаться! И как жена ваша вас такого терпит!
Гриша руками развел:
– Ну уж какой есть! Простите великодушно!
А Наденька даже рот открыла, чтобы эту хамку осадить, да не успела – муж ее за руку взял и быстренько из столовой увел.
Впрочем, кукла эта пустая, Виолетта, не показатель. Была еще у Наденьки в молодости подруга, Тая Стукалина. Вот уж где имелись красота природная и ум – два в одном. Таечка эта была похожа на молодую Марину Влади – белые волосы по плечам, высокие скулы.
Молчаливая, тихая, а видно, что в глазах огонь. О такую опалиться раз плюнуть – так хороша и непонятна как-то. Что у нее на сердце, какие страсти?
Таечка поэзией увлекалась – Ахматовой, Блоком. Стихи читала тихо, вполголоса, а пробирало до основания, до слез. Да и сама писала стихи – очень неплохие, кстати, стихи.
Гриша тоже слушал. А потом встал и сказал:
– Спасибо. Хорошо читаете. А сейчас – извините, дела. – И ушел к себе в комнату.
Однажды даже Ленка-беленькая на очередных поминках многочисленной Гришиной родни Наде шепнула:
– А у Гришки твоего, часом, все ли в порядке по мужской части? Или вывеска одна?
– Это, видно, у тебя не все в порядке, – грубо ответила негрубая Надя. – Ты ведь без мужа, кажется, лет пять уже? Или больше? – ехидно уточнила она.
Ленка дернулась и побледнела.
– Оперилась пташка, дерзкая стала, – прошипела она и больше к Наде не подходила.
Впрочем, были пару раз у Нади сомнения, были. Именно сомнения – не подозрения. Уже хорошо.
Уезжал иногда муж Гриша. Уезжал внезапно и резко. Она уже ужин подогревала и на часы посматривала, а он ей из автомата звонил с вокзала – слышно голос диктора, что время прибытий и отправлений объявляет. Муж коротко так бросал:
– Мне надо уехать, Надежда. По срочным делам. Дня на три или на два – как выйдет. Срочная командировка.
Слышно плохо, она в трубку кричит:
– Что-то случилось, Гришенька? К чему такая срочность?
– Все нормально, – весь ответ. И короткий зуммер в трубке.
Чего греха таить – искала по карманам билеты, искала. Хоть какие-нибудь доказательства. Ничего. Ни билетов, ни каких-то записок. Куда, зачем? И к кому – вот главный вопрос.
Возвращался Григорий, правда, на следующий день – почти всегда. Злой, раздраженный. И еще – задумчивый. Зашла однажды в его комнату – со стуком, как положено, а он стоит у окна – как окаменел. Даже на нее обернулся спустя пару минут. У Нади тогда сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Посмотрел на нее так… Словно она пыль под ногами.
А она – ни одного вопроса – ни-ни.
– Есть будешь, Гришенька? Я уже щи подогрела.
И еще было – квитанцию она в кармане его пиджака нашла. Перед химчисткой карманы вывернула. А там квиток о почтовом переводе на сумму тридцать рублей. Серьезная сумма. Получатель – какая-то Э. Минц. Или какой-то? А адрес – город Калуга. Кто этот Минц? Раньше она про такого не слышала. Или – такую?
Две ночи не спала и все-таки решилась. Показала мужу квиток и задала естественный для любой женщины вопрос.
Он смутился и даже покраснел – чуть-чуть. Сказал резко:
– Родственник. Бедный и одинокий. Иногда… Иногда, – повторил Григорий Петрович, слегка повысив голос, – я ему помогаю. И на тебе, кстати, это никак не отражается, заметь! Ни на тебе, ни на дочке! А по моим карманам впредь прошу не лазать! Убедительно прошу! И в вещах моих не копаться! – Голос его совсем окреп.
Надя тихо залепетала – да не копалась я, Гриша! Просто пиджак перед чисткой…
А через неделю муж принес ей путевку в Германию – на работе выпросил.
Как извинился, что ли. И как на такого мужа обижаться? Грех, одно слово.
В ГДР она, разумеется, поехала. Поездка была интересная, насыщенная. По музеям, городам – всю Восточную Германию проехали. И подруга у нее там появилась – первая, с кем она о жизни своей и тревогах поделилась – так вышло.
Долго этот Минц не давал ей покоя, много месяцев. А новая знакомая оказалась женщиной мудрейшей – за спиной три брака, и все счастливые, смеялась она.
– А что же вы тогда от хороших мужей уходили? – удивилась Надя.
– А следующий лучше предыдущего оказывался, – опять смеялась новая приятельница.
Звали ее Эра Львовна. Было ей за пятьдесят, и работала она экскурсоводом в Музее революции. Говорила, что всю жизнь «брешет про героев Октября». На языке язвы должны появиться от такого вранья.
Про почтовую квитанцию для загадочного Минца она Наде сказала так:
– Забудьде. Скорее всего, это и вправду бедный родственник. Или приятель. Может, жалость. А может – долг. Кто знает? Такие закрытые и суровые люди, как ваш Григорий, часто оказываются в душе людьми трепетными и сентиментальными. А если это и грешки юности – так и бог с ними. Каждый человек имеет право на тайну. И вы, Наденька, тоже.
– Какие у меня тайны, – удивилась она. – Вся моя жизнь – как на ладони.
И почему-то успокоилась. Бог с ним, с этим Минцем. Откровения действительно не для ее мужа. Да и какая жена обрадуется, что от семьи отрываются деньги?
***
Однажды Григорий ей сказал:
– Спасибо тебе!
Она подумала, что про холодец, который он обожал. Заглянула в холодильник – лоток с холодцом был не тронут.
Она позволила себе уточнить:
– За что, Гриша?
– А за то, что жить не мешаешь! – ответил он.
Она тогда села на стул и полчаса не вставала. Даже молоко из кастрюли выкипело и запеклось коричневой коркой на новой плите. А запах стоял! Ну понятно – когда молоко убегает.
«Сомнительный комплимент, – подумалось ей. – Очень сомнительный». Можно долго переживать и искать в этом глубокий смысл. А переживать не хотелось. Так же, как и уточнять: «В смысле?»
И она выкинула эту фразу из головы. Не сразу, но выкинула. Пусть лежит на задворках вместе с этим самым Минцем – тю-тю!
Долго потом вспоминала наставления туристической подруги Эры: «Живи веселей! Неприятности сами в ворота постучат, без твоей помощи!» А сколько потом она удивлялась Гришиной сердечности и порядочности!
Когда заболела мама, устраивал в лучшие клиники, говорил, чтобы денег ни на что не жалела, ни на врачей, ни на лекарства. И похороны мамочкины обставил: гроб, отпевание, поминки в кафе. Потом памятник – камень выбрал не из дешевых, ограду кованую. Ни на чем не экономил.
Заставил Надю шубу пошить каракулевую – коричневую, которая была в два раза дороже заезженной черной.
И дочке – все самое лучшее. Джинсы, магнитофон, сапожки итальянские.
Правда, расстроила его Любаша – институт бросила и замуж выскочила. Но он слова не сказал – не попрекнул ни разу.
А Надя видела, как муж страдает, что единственная дочка неучем осталась и сразу замуж – да еще и за иностранца.
Правда, сказала ему:
– Не печалься, Гриша! Там, за границей, жизнь сытней и проще! Пусть ей будет полегче!
Он тогда взглянул, как полыхнул:
– Ты, Надя, дура! – В первый раз обозвал! – Там хорошо, где нас нет. А что внуков своих будешь видеть раз в пятилетку – об этом ты подумала? Считай, что нет у тебя теперь ни дочери, ни внуков.
А ведь прав оказался! И легко Любаше не было ни одного дня! Ни одного! Поняла – везде простому человеку несладко, если ты не богач.
Да и про внуков она думала. Когда их увидит? Впрочем, Любаше было совсем не до детей – самим бы выжить и выстоять. Что ж получалось? Никакого рая там, за границей, нет? Выходит, так. Надежда даже начала уговаривать дочку вернуться. Та ни в какую:
– Что ты, мама? О чем говоришь? Лучше будем биться за кусок хлеба там, чем у вас, в России.
Так и написала – «у вас». Поняла Надя, что о возвращении и говорить нечего, не вернется дочь.
Григорий Петрович болел долго, почти восемь лет. Всю жизнь прожил крепким мужчиной, даже простудами не болел. А после пенсии весь посыпался. Все и сразу – гипертония, язва, артрит и прочие прелести. Надя тоже стала прибаливать, но было не до себя. Муж стал требовать такого внимания и такой заботы, что даже не оставалось времени измерить себе давление.
Теперь он стал требовать строжайшей диеты, прогуливался в парке по часам, спать укладывался в десять вечера. Не забывал и про дневной сон. Давление мерил по десять раз на дню. Надя только и слышала пикание аппарата.
Сначала посмеивалась, а потом стала раздражаться. Один раз не сдержалась:
– Ну, что ты, ей-богу!
Муж обиделся и весь вечер с Надей не разговаривал. И язык свой она опять прикусила – нельзя с ним так. Такой вот сложный человек ее муж.
Два раза в год Григорий Петрович ложился в больницу – на обследование. Врачами был всегда недоволен – нет должного внимания. Одна врачиха, довольно, кстати, милая женщина, посоветовала ему заняться делом.
Он возмутился и опять обиделся (в том числе и на бедную и ни в чем не повинную Надю):
– Каким таким делом? Я всю жизнь работал! Пахал как проклятый. А сейчас, на пенсии, когда я стал инвалидом, меня в чем-то смеют попрекать?
– Ну, какой вы инвалид, Григорий Петрович? Это сильное преувеличение, – вздохнула врачиха и с жалостью посмотрела на Надю.
Надя свои проблемы от мужа скрывала – как и всю жизнь скрывала свои печали и горести. Однажды случился гипертонический криз. Пришлось вызвать «Скорую». Предлагали больницу – она написала отказ:
– Как я мужа оставлю?
Врач возмутился:
– А что, он у вас неходячий? Или незрячий, может?
Надя прижала палец к губам:
– Тише, пожалуйста, тише!
«Скорая» уехала, и она через десять минут поднялась и поплелась на кухню готовить мужу ужин.
Ужин он съел молча и с обидой сказал:
– Как ты меня расстроила! Даже голова разболелась!
И Надя поняла – будет помирать, а «неотложку» не вызовет. Ляжет тихонько и просто закроет глаза.
Правда, жаловалась дочке в письмах. А та отвечала: «Гони его, мама, на работу. Ну хоть гаражи во дворе сторожить. Или в магазин пусть шастает, на рынок».
Про работу Надя, естественно, говорить не посмела – даже намеком. А в магазин сходить попросила. Крику было! И про артрит, и про радикулит, и про давление. Она лепетала что-то в свое оправдание и рот свой закрыла уже навсегда.
А Григорий Петрович как накликал – и вправду заболел серьезно. Сделали операцию, и уж после нее… Что там говорить. После операции он себя заживо закопал.
Вставать почти перестал, даже ел в кровати.
Онколог сказал:
– Нужна воля к жизни. А у него ее нет. Ни желания, ни мотивации. Сколько протянет – неизвестно. А мог бы прожить еще немало.
Последние два года были совсем тяжелые – истерики, капризы, обиды.
Надя даже к психологу пошла. Та (идиотка!) посоветовала ей почаще уходить из дома, купить себе новое пальто и туфли на каблуках. И разумеется, не бросаться к мужу по первому зову.
Все это было такой чушью, что Надя рассмеялась ей в лицо:
– Господи! И что такое вы мне советуете!
Ушла, не попрощавшись. Только деньги на стол положила.
Хорошо, что онколог Гришин выписал ей снотворное. Стала хоть спать по ночам – пусть тревожно, некрепко.
За неделю до смерти Григорий Петрович попросил показать ему альбом с семейными фотографиями. Она принесла его – кстати, довольно тощий. Фотографироваться семейно муж никогда не любил. Пара свадебных снимков, пара снимков «на югах», еще несколько прибалтийских. Ее карточки из той поездки в Германию и остальные – Любашины: детство, школа, выпускной, свадьба в болгарском ресторане «София».
Муж долго и внимательно рассматривал старые фото, задерживаясь взглядом на тех редких, семейных. Вертел в руках ее «немецкие» снимки. Вдруг стал подробно расспрашивать про ту давнюю поездку. Она посмеялась:
– Ничего уже почти не помню, Гриша!
А он тихо сказал:
– А я помню. Ты тогда все только мне и Любе привезла. Себе – ничего. А я еще долго носил и рубашки, и галстуки. И свитер синий в серую полоску обожал. И ботинки черные.
– Ну и на здоровье! – улыбнулась Надя. – Значит, с душой покупала!
Муж внимательно посмотрел на нее и тихо сказал:
– Спасибо. То, что с душой, – определенно.
Надежда погладила мужа по бледной, заросшей щеке, и он впервые не дернулся, не мотнул головой и даже задержал ее руку в своей.
– Спасибо, что с душой, – задумчиво повторил он и отвернулся к стене.
Она тихо вышла из комнаты. Села на кухне и заплакала. Не от обиды – от нежности и от того, что все поняла: скоро она останется совсем одна.
И расценивала она это не как освобождение или облегчение, а как большое, огромное и очень страшное горе.
***
После похорон и поминок – пара ее приятельниц-пенсионерок, пара Гришиных родственников во главе со все той же Ленкой-беленькой и Женя, соседка по лестничной клетке, всегда готовая прийти на помощь, – Надя почти три месяца не выходила из дома, и Женя покупала ей продукты – хлеб, молоко, масло, сыр. Иногда, краснея и извиняясь, приносила кастрюльку бульона или еще теплых блинов.
Надя благодарила ее и не отказывалась – зачем обижать хорошего человека. Бульон и блины съедала, совсем не чувствуя вкуса. Тупо глядела в экран телевизора или в книжку, совершенно не понимая, о чем идет речь.
Потом постепенно взяла себя в руки. Куда ж деваться! Жизнь продолжается! Банально, но факт.
Стала писать дочке подробные письма, полные воспоминаний – а помнишь, Любашка?
После каждого письма дочка сразу же отвечала тревожным звонком. Голос ее был обеспокоен и растерян.
– Чем же я могу помочь, мам? – почти плакала она. – Нам тут тоже, знаешь ли, не сладко!
Надя перестала писать длинные письма – к чему тревожить дочь? И вправду, чем та ей может помочь на таком расстоянии?
Продала машину и гараж – за копейки, а все равно деньги. Все до копейки выслала Любаше. Та обрадовалась и сообщила, что они наконец поменяли машину.
– Может, продашь дачу? – спросила дочь. – Тебе, наверное, тяжеловато на нее без машины ездить?
Дачу продавать не хотелось. На дочку обиделась – так, слегка. На письмо это не ответила, и больше Люба эту тему не поднимала. Ума хватило.
***
Надя попыталась находить что-то приятное в своей свободе и одиночестве. Например, то, что можно наконец поваляться по утрам в постели – за всю свою жизнь. Не стоять у плиты, не бежать, как заполошенная, на рынок и в магазины – почти ежедневно. Свежий кефир, сегодняшний хлеб.
Кефир она не любила, а хлеб не ела. Можно прилечь и после обеда (чашка кофе и кусочек сыра. Счастье!). Потом, не вставая, щелкнуть пультиком и посмотреть ток-шоу. И никто не скажет: «Как ты можешь смотреть такую чушь!» Вечером можно сварить пельмени, и никто не осудит за то, что она польет их сметаной и присыплет черным перчиком.
Можно разбросать в комнате колготки и лифчики. Можно не закрыть тюбик с зубной пастой. Можно не пылесосить и не вытирать ежедневно пыль!
Можно, можно, можно… Сколько всего стало можно! Того, что всю жизнь было нельзя!
Может, это и есть свобода?
Только какой ценой…
За месяц своей свободы Надя наотдыхалась выше крыши – так, что стало тошно. Решила заняться Гришиным памятником. Съездила в гранитную мастерскую, договорилась.
Купила новые сапоги – необходимость, не прихоть. Сходила в парикмахерскую, привела в порядок голову – краска, стрижка. Впервые сделала маникюр. Педикюр почему-то постеснялась.
Загорелась переклеить в квартире обои. Соседка Женя предложила своих маляров – недорого и прилично. Присмотрела на рынке люстру – старая совсем пришла в негодность. Безобразие, а не люстра. А муж менять не хотел. Он привыкал к старым вещам.
Он ничего не хотел менять. Ничего. Стыдно сказать – кухонной мебели двадцать с лишним лет, ремонт делали до Любашиного рождения. Людей в дом позвать было неловко. Впрочем, каких людей… Людей в их доме не бывало.
Да! Еще надо бы выкинуть хлам, которого накопилось за долгую жизнь столько…
«Наверное, так у всех», – подумала Надежда, забравшись на стремянку и распахнув дверцы антресолей. Божечки мои! Выцветший рулон обоев. Старые лыжные ботинки. Эмалированное ведро без ручки. Помятый алюминиевый таз. Любашин школьный портфель. Крышка от кастрюли. Пожелтевшая и свалявшаяся вата, которой они сто лет назад прокладывали рамы между стеклами. Две старые потертые сумки. Гришины пиджаки и ботинки. Дочкины санки. Кипа газет и перестроечных «Огоньков» – муж не разрешал их выбрасывать. Мешок со старой пряжей. Банка из-под краски и еще банки, банки, банки. Ящик с елочными игрушками.
«Нет, – решила Надя. – Так наверняка не у всех, а только у таких нерадивых хозяек. И еще – у таких Плюшкиных, каким был мой муж. Стыдоба, да и только».
Хорошо, что на подмогу не позвала Женю – а ведь была такая мысль! Вот бы тогда точно стыда не обобралась!
Надо все достать, скинуть. И, ничего не разбирая и ни в чем не ковыряясь, все – на помойку! Вынести к ночи, чтобы никто не видел! Да! И завтра купить на рынке черные пластиковые мешки, чтобы все в них и все сразу!
Надя вздохнула и уже собралась сползать со стремянки, как вдруг увидела пластиковый пакет с яркой надписью «CAMEL» и верблюдом. Она потянула его к себе и сбросила на пол.
Кряхтя, осторожно спустилась с лестницы (кто за ней будет ухаживать, если, не дай бог, что), присела на коридорную банкеточку и взяла в руки пакет с жизнерадостным верблюдом.
Из пакета выпала связка писем, плотно и аккуратно сложенная и перевязанная бельевой веревкой. У нее почему-то сжалось сердце и тревожно заныло где-то внутри, на уровне грудины.
Конверты были старого, советского образца, трухлявые и пожелтевшие. Надя поднесла их к лицу и увидела знакомую фамилию. Ту, что не давала ей покоя и тревожила ее много лет. Ту, о которой она помнила всю жизнь. И, наверное, что-то чувствовала – дальним, точным и безупречным женским чутьем.
Получателем корреспонденции значился тот самый Минц.
То ли от нехорошего предчувствия, то ли от того, что она спустилась с лестницы, закружилась голова, и перед глазами поплыли бурые пятна.
Дрожащими руками Надя принялась сдирать аккуратно (чувствовалась рука мужа) завязанную на нелепый бантик веревку.
Веревка, как назло, зацепилась за углы конвертов и слегка их надорвала.
Надя бросила бечевку на пол и от нетерпения первый, верхний конверт разорвала. Буквы плясали и расплывались. Она встала и пошла за очками. Долго искала их на кухне и в комнате и все никак не могла найти. Наконец, чуть не заплакав, увидела их на обычном месте – на кухонном столе. И как она могла их не заметить? Нелепость какая-то! Усевшись теперь в кресле в комнате, она, пытаясь унять противную дрожь в руках и ногах, глубоко вздохнув, снова взяла в руки письмо.
Ну вот. Снова здорово. Просто смешно, как ты пытаешься оградить себя от неприятного. Твои действия подтверждают наши предыдущие разговоры – всю нашу жизнь.
Ты не хочешь ничего слушать и ничего знать – того, что может разволновать тебя или расстроить. Избегаешь того, что всегда называла нежелательными эмоциями. Того, что может лишить тебя покоя или, что значительно хуже, – испортить тебе настроение.
В который раз – дурак! – я снова удивляюсь этому. И еще – снимаю шляпу перед твоим постоянством. Ничего – ничего! – не смогло переделать тебя! И за одно это ты достойна уважения (не ищи иронию в моих словах).
Не попрекаю – ни-ни! Восхищаюсь твоей непробиваемости.
Ладно, мои, как ты всегда говоришь, нравоучения наверняка опять мимо.
Итак, ты пишешь, что И. не желает с тобой иметь дел – никаких. Считаешь это для себя оскорбительным. Разумеется, с такой персоной, как ты, так обходиться не имеет право никто. Даже он.
Ну призадумайся – ты же человек неглупый и иногда вполне вменяемый.
И. не хочет иметь с тобой дела по весьма определенным причинам – он только что наладил свою жизнь. Расставание ваше было весьма непростым, если не сказать тяжелым. Тому, чем ты его попрекала, я, как человек опытный, не удивляюсь. А вот его растерянность вполне понимаю (помню себя в первые годы нашей жизни).
Ему бы успеть прийти в себя и не рухнуть в инфаркт, а тут снова ты. Денег у него, видимо, нет. Семья требует расходов, да и дела его, думаю, уже не так хороши. Не забывай про его больного сына – тоже расходы, от которых он никогда не отказывался, как бы ты ни старалась контролировать и это.
Ты утверждаешь, что денег его тебе не надо, – позволь не поверить. Но даже если это и так – не все люди считают, что после кровавого развода надо пытаться оставаться друзьями! Таких дураков, как я, не так много на свете, уж ты мне поверь!
Звонки его жене – вот уж полная глупость! Как ты не понимаешь, что такой ход разозлит его еще больше?
Опять буду давать совет – нудеть, как ты говоришь. Прекрати его домогаться! Я ведь знаю, что тебе надо: признание, что только с тобой он был счастлив. Что его новая жена скучна и обыденна (после тебя, разумеется!). Что он хочет вернуться. Хочет, но не может. Тебе нужны его слезы, раскаянье, признание его неправоты и ошибок. И еще признание в неземной любви. Причем его «валяние» у тебя в ногах нужно непременно неоднократное – минимумом ты не насытишься ни за что. Пусть походит полгода, а там уж пинком за дверь навсегда. Как было с М. – когда начались цветы, цветы, и проч., ночевки на коврике подле твоей входной двери, – тебе быстро наскучило, и ты вызывала милицию.
Или с Иловайским – он далеко не дурак, понял сразу – гарантия его спокойной жизни без тебя – ежемесячный конверт в почтовом ящике.
И еще – скука, скука, – собственно то, что всегда было самым страшным в твоей жизни. Любыми путями, любыми средствами – только не это!
Кстати, надо бы успокоить И. – как только появится новый претендент на твое сердце, ты от него отстанешь!
Ладно, читать морали тебе – нет занятия более глупого и расточительного.
Все-таки я большой дурак, ты права. Потому, что еще продолжаю нудеть и надеяться, что это письмо ты внимательно прочтешь.
Я не приеду, как ты просишь. Причин много, подробности тебе ни к чему. То, о чем ты просишь, тоже сейчас невозможно. Дочке нужно купить путевку в лагерь на море, желательно на два месяца, так что довольствуйся тем, что есть, – увы!
Умерить свой аппетит не советую – глупо и смешно. Всё. Будь здорова – хотя бы.
Г.
Надя перечитала письмо. В голове было пусто и гулко, как в пустом жестяном ведре. Руки безжизненно упали и повисли, как плети. Письмо, выпавшее из рук, валялось на полу.
Сколько она просидела так, не двигаясь, уставившись в одну точку, она не заметила. Потом словно очнулась. Побрела, шаркая тапками, как старуха, на кухню и выпила воды из-под крана – чего раньше никогда не делала.
Москвичи давно не пьют проточной воды. Потом она опустилась на табуретку и опять словно застыла. Точнее – окаменела. Дверь из кухни была раскрыта, и она увидела пакет с верблюдом на полу в коридоре.
Она встала, вышла в коридор, тяжело нагнулась и подхватила оставшуюся пачку писем.
– Что ж, продолжим! – сказала она почему-то вслух и усмехнулась.
Теперь она расположилась в кресле – уютно и удобно угнездилась, включила торшер, нацепила на нос очки и открыла второй конверт.
Эва, Господи! Ну, сколько можно так издеваться над собой! Вспомни, сколько хорошего было в жизни – в нашей и в твоей дальнейшей, без меня! Ты проживала ее, жизнь, так, как сама, собственно, и придумала! И у тебя это отлично получалось! Я не обвиняю тебя – ни в коем случае! Каждый волен распоряжаться своей судьбой, ради бога! Я пытаюсь убедить тебя только в одном – не надо так драматично переживать свой возраст. Ты – уверяю тебя – женщиной, а не старухой или теткой останешься всегда. Ну или тебя станут называть дамой. Не товарищем, не гражданкой, не мадам и уж точно – не бабушкой.
Все – увы – стареют, милая моя! Никому не подвластно остановить этот процесс. Главное, чтобы было здоровье и силы, а этого у тебя вполне. И желания! Вот здесь я тоже не волнуюсь – желать чего-нибудь ты будешь всегда. Да и слава богу! Пока есть желания – жив человек.
Держись. Не страдай на пустом месте. Твои незначительные, возрастные хворобы (уж прости) – совсем не трагедия.
Пей таблетки от давления – по чуть-чуть, но каждый день. Я говорил с В.В. – ты его помнишь по Первой градской. Терапевт он приличный, и советы его игнорировать не стоит. Адельфан на ночь по полтаблетки. И корвалол – если начинается тревога. Всё! И успокойся! «Скорую» больше не вызывай – смешно! Побольше гуляй и поменьше смотри свой дурацкий телевизор.
Ну, по поводу курева – разговор бесполезный, и я его не начинаю. И по поводу твоих тортиков и шоколадок тоже молчу – заметь.
М.б., удастся приехать на майские. Постараюсь вырваться.
Держи хвост пистолетом!
Г.
P.S. Перевод вышлю чуть позже, но чуть больше – это тебя утешит (будет премия) и купишь себе «те самые австрийские сапоги».
Она отложила письмо. Вспомнилась фраза соседа по даче Матвеича – «Хорошие дела!».
Хорошие дела, по-другому не скажешь.
Теперь все вставало на свои места – ну, или почти все. По крайней мере, ясно, что Э. Минц – бывшая дама его сердца. Или, скорее всего, та самая первая жена, о которой Надя знала совсем немного: «Да, был женат в глубокой и наивной молодости, брак не сложился, детей не было, и, собственно, все. О чем говорить?»
Это были его слова в тот день, когда он сделал Наде предложение руки.
Надя ничего тогда не спросила – все понятно, достался он ей не юным мальцом, а зрелым мужчиной. Первый свой брак не скрыл – в чем его она могла заподозрить? Про бывшую жену никакой информации не было – вполне понятно, он не из болтливых, она не из любопытных. Хотя – что скрывать – она женщина, и это ей было, конечно, интересно. Но не настолько, чтобы пытать мужа или тем более Ленку-беленькую.
Пытаясь все это осознать и переварить (вот поди так сразу и попробуй!), она поняла, что было здесь болезненнее всего.
Не то, что обнаружилась ложь. Или правда? То, что он продолжал общаться с этой Минц. В конце концов, можно только уважать людей, сохранивших приличные отношения после развода. И не то, что он высылал той регулярно деньги, – семья от этого не страдала. И не то, что он не рассказал об этом жене, – тоже понятно: начнутся обиды, расспросы, попреки.
А то, что он баловал ее! И был в курсе ее желаний – новые австрийские сапоги.
Никогда! Никогда она, Надя, его жена и мать его единственного ребенка, не морочила ему голову подобной ерундой!
Сапоги покупала – кстати, те самые австрийские, замшевые, мечта всех советских женщин, у нее тоже были. Денег на все хватало – не в этом дело.
Впрочем, была она не из франтих и в желаниях своих оставалась довольно скромна. Но ей и в голову бы не пришло рассказывать ему какую-то чушь про устойчивый каблук, теплую подкладку и удобную молнию спереди.
Она хорошо запомнила, как однажды, на заре их брака, задумав сшить пальто, в польском журнале нашла понравившийся фасон и показала мужу. Он сморщился, как от зубной боли, и внятно объяснил, что в этих делах полный профан – ни в ткани, ни в модели ничего ровным счетом не понимает. И убедительно просит ее с подобными вопросами к нему не обращаться – есть мама, подруги, соседки и прочее, прочее.