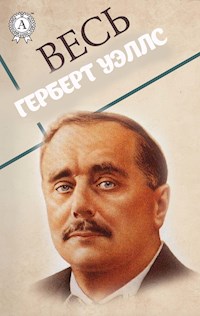
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Имея в своей библиографии множество серьезных политических и исторических трудов, Герберт Уэллс прославился главным образом как автор художественной литературы. Вместе с Жюлем Верном он стал первопроходцем в жанре научной фантастики и оказал невероятное влияние на развитие литературы и культуры в целом. Все книги Герберта Уэллса отличаются оригинальностью, непредсказуемым сюжетом и яркими, интересными героями. А некоторые изобретения, описанные им еще сто лет назад, сегодня действительно созданы. Купить книги Герберта Уэллса стоит всем ценителям настоящей классической фантастики.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1403
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Весь Герберт Уэллс
Имея в своей библиографии множество серьезных политических и исторических трудов, Герберт Уэллс прославился главным образом как автор художественной литературы. Вместе с Жюлем Верном он стал первопроходцем в жанре научной фантастики и оказал невероятное влияние на развитие литературы и культуры в целом. Все книги Герберта Уэллса отличаются оригинальностью, непредсказуемым сюжетом и яркими, интересными героями. А некоторые изобретения, описанные им еще сто лет назад, сегодня действительно созданы. Купить книги Герберта Уэллса стоит всем ценителям настоящей классической фантастики.
Морские разбойники
I
Haploteuthis Ferox — громадное головоногое животное, обитающее на больших глубинах, было известно зоологам только по трупам и по отдельным частям его тела, изредка находимым на берегах океанов или во внутренностях китов и кашалотов.
Так, в 1895 году, принц Монакский, катаясь на своей яхте, наткнулся на кашалота, раненного каким-то китобоем и околевшего в виду яхты. Во время агонии кашалот этот выбросил множество каких-то больших предметов, которые принцу удалось выловить из моря и которые оказались остатками головоногих животных, неизвестных до того времени науке. В числе их был, между прочим, и Haploteuthis Ferox.
Вплоть до необыкновенного приключения в Сидмауте, о котором я хочу рассказать, никто никогда не видывал этого ужасного чудовища живым, и зоологи не знают ни его привычек, ни его образа жизни, а потому и не могут объяснить причин его появления на берегах Англии. Как бы то ни было, но его на этих берегах видели.
Единственным человеком, видевшим Haploteuthis (по крайней мере, единственным оставшимся в живых, так как целый ряд несчастных приключений на море, у берегов Корнваля и Девона, в мае 1897 года, был, весьма вероятно, обусловлен именно этими чудовищами), был некто Файсон, чайный торговец на покое, остановившийся в Сидмаутской гостинице.
Однажды вечером он прогуливался по скалистой тропинке, между Сидмаутом и Лядрамским заливом. Берег на этом пространстве очень высок, но в одном его месте проделано нечто вроде лестницы, спускающейся к морю. Находясь как раз около этой лестницы во время отлива, Файсон увидал вдали нечто розоватое, движущееся и блестевшее на солнце, принятое им сначала за группу птиц, которые возились над какой-нибудь падалью. Происходило это довольно далеко, среди больших камней и луж, оставшихся после прилива, да, кроме того, и солнце светило прямо в глаза Файсона.
Присмотревшись внимательнее, он увидал, что ошибся. Птицы были там, правда — преимущественно чайки, — но они кружились в воздухе, как бы не смея опуститься на землю, да и по размерам они казались крошечными в сравнении с тем, что привлекло внимание Файсона, и по цвету не подходили.
Предполагая, что это, может быть, какая-нибудь большая рыба, случайно оставшаяся на берегу при отливе, Файсон решился пойти взглянуть на нее, так как делать ему все равно было нечего. Поэтому он стал спускаться с лестницы, останавливаясь на каждых тридцати футов, чтобы перевести дыхание.
Чем ниже он спускался, тем хуже, конечно, видел занимавший его предмет, хотя и становился к нему ближе: камни и водоросли загораживали горизонт. Благодаря близости, однако же, все-таки можно было различить семь каких-то круглых тел, не то вместе сросшихся, не то разъединенных. Птицы, носившиеся над ними, отчаянно кричали, но спуститься, очевидно, боялись.
Мистер Файсон, сильно заинтересованный, пошел прямо на эту группу, по скользким камням, обросшим водорослями, а для того, чтобы удобнее было идти, снял обувь и засучил панталоны. Такие предосторожности были, пожалуй, и не нужны, но мистеру Файсону доставило удовольствие еще раз почувствовать себя каким-то мальчиком на каникулах. Как бы то ни было, этому пустому обстоятельству он обязан спасением своей жизни.
Шел он совершенно беспечно, так как по берегам Англии не водится никаких животных, которых следовало бы остерегаться. Круглые тела продолжали двигаться, но, только поднявшись на гряду камней, совсем уже близко от того места, где они находились, мистер Файсон вдруг понял, с кем он имеет дело.
На небольшой, ровной площадке, между камнями лежал наполовину объеденный человеческий труп — тот предмет, который издали казался розовым, — а вокруг него, крепко держась за землю щупальцами, сидело семь или восемь животных, похожих с виду на осьминога. Каждое из них было величиной с большую свинью. Голая, гладкая кожа их блестела на солнце; между длинными щупальцами у каждого виднелся роговой клюв и два больших интеллигентных глаза, с любопытством смотревших на Файсона. Ярдах в двенадцати далее, из волн начавшего уже подниматься прилива вылезали еще два таких животных.
Мистер Файсон не только не испугался, но даже и не счел себя находящимся в опасности. Ему казалось, что животные эти, как бы они свирепы и сильны не были, не могут быстро двигаться по земле. Его возмутило их бесцеремонное отношение к человеческому трупу, и потому он стал сначала кричать на них, а потом даже бросил в ближайшего камнем.
Тогда все семеро стали медленно приподниматься на своих щупальцах, с каким-то особенным, мягким звуком отклеивая их от земли. Файсон тотчас сообразил, что оставаться на месте, было бы, пожалуй, рискованно, а потому, попробовав еще раз попугать животных криком и бросанием камней (причем даже бросил свои сапоги), он побежал назад, к берегу. Отбежав ярдов двадцать, он оглянулся посмотреть, далеко ли отстали преследователи. Но каков же был его ужас, когда он увидал, что передний из них касается своими щупальцами того самого камня, на котором Файсон стоял!
Вскрикнув, — на этот раз скорее от страха, чем для того, чтобы испугать кого-либо, — Файсон бросился бежать изо всех сил, перепрыгивая через камни, скользя и спотыкаясь. Высокие, красные скалы берега, казалось, отодвинулись от воды, и на них, как два муравья, двое рабочих копались над починкой лестницы, не подозревая, какая скачка на жизнь и смерть происходит под ними. Один раз Файсон слышал, как один из его преследователей шлепнулся в лужу, находившуюся шагов в двадцать сзади от него; в другой раз он споткнулся и чуть не упал. Чудовища гнались за ними до самого подножия скалы и отстали только тогда, когда рабочие, поняв, наконец, в чем дело, бросились к нему на помощь. Все трое, стоя на лестнице, стали тогда бросать камни в животных, а потом поспешили в Сидмаут за народом и за лодкой, чтобы отнять у этих поганых чудовищ человеческий труп.
II
Не довольствуясь испытанной опасностью, мистер Файсон тоже отправился вместе с другими на лодке, чтобы показать место, где лежит труп.
Так как прилив еще не поднялся, то понадобилось много времени для того, чтобы подойти к этому месту, а когда к нему подошли, то трупа уже не было. Вода медленно поднималась, заливая террасу за террасой, и четверо людей в лодке, то есть Файсон, два рабочих и лодочник, обратили теперь свое внимание на окружавшее лодку морское дно.
Сначала они там ничего не увидели, кроме водорослей, раковин да кое-каких рыбок. Это их даже огорчило: охотничьи инстинкты расходились. Но потом, через несколько времени, показалось одно из животных, ползшее по дну в направлении к открытому морю. Движения его напоминали Файсону покачивания привязанного воздушного шара. Почти тотчас же стебли водорослей заколебались, и сквозь них стали видны еще три чудовища, повидимому, боровшиеся за какую-то добычу, — может быть, за тот же труп, который исчез с берега. Через минуту эта сцена вновь была закрыта оливково-зелеными лентами ляминарий.
Возмущенные охотники стали кричать и бить веслами по воде. В ответ на этот вызов, все видимое пространство водорослей заволновалось, и через несколько секунд мистер Файсон, взглянув в воду, увидел все дно «покрытым глазами», как он выражается.
— Подлые свиньи! — сказал один из сидевших в лодке. — Да тут их целая дюжина!
Вслед затем животные стали подниматься со дна кверху. Мистер Файсон, который сам мне это рассказывал, — говорит, что сначала были видны одни только глаза, потом показалось множество щупалец, и, наконец, водоросли окончательно скрылись под телами животных. На все это потребовалось, вероятно, несколько секунд, но Файсону показалось, что прошло много времени, прежде чем щупальцы стали там и сям подниматься над водою.
Одно из чудовищ храбро подошло к борту лодки, присосалось к нему тремя щупальцами, а четвертое закинуло за румпель, как бы желая или опрокинуть лодку, или взобраться на нее. Мистер Файсон тотчас же схватил багор и отчаянными ударами его по щупальцам заставил последние оторваться от лодки, но в это время сам чуть не кувыркнулся за борт от толчка лодочника, отбивавшегося веслом от такой же атаки с другого борта. Щупальца с обеих сторон спрятались в воду.
— Надо бы нам поскорее убираться отсюда, — сказал Файсон, дрожа с ног до головы. Он сел к рулю, тогда как лодочник и один из рабочих начали грести. Другой рабочий стал на носу с багром в руке, готовый отбиваться от нападений. Все молчали, понимая опасность положения, да не только опасность, а даже безвыходность, — таким оно, по крайней мере, всем тогда показалось. С вытянутыми, бледными лицами, выбиваясь из сил, все спешили уйти от беды, в которую так легкомысленно попали.
Не прошло, однако же, нескольких минут, как весла с обеих сторон были оплетены щупальцами, так же как и руль и борта лодки. Гребцы употребляли страшные усилия, чтобы двинуться вперед, но это оказалось столь же невозможным, как если бы лодка попала в густую заросль тростника или ляминарий. Файсон и рабочий, стоявший на носу, принялись помогать гребцам, а лодочник стал кричать: «Помогите!»
Вдруг рабочий с багром — его звали Эван или Эвен — вскочил, схватил опять свое оружие и стал отчаянно тыкать им вниз с одного борта, около которого виднелись глаза животного, повидимому, обхватившего своими щупальцами киль лодки. В то же время гребцы встали, чтобы ловчие было выдергивать весла, задерживаемые чудовищами. Лодочник, передав свое весло Файсону, вынул большой складной нож и, перегнувшись через борт, стал резать щупальца, которые были поближе.
Мистер Файсон, стараясь не вывалиться из лодки, сжав губы и задыхаясь, из всех сил удерживал весло, причем случайно ему пришлось повернуться лицом к открытому морю и там он увидал, не дальше как в пятидесяти ярдах расстояния, большой бот, который вместе с волной прилива, быстро приближался к ним. В боте находились три дамы и ребенок, кроме лодочника, сидевшего на веслах, и молодого человека, маленького роста, во всем белом и в соломенной шляпе с розовой ленточкой, стоявшего у руля и что-то кричавшего. Первая мысль Файсона была о близкой помощи, но потом он вспомнил о ребенке. Бросив весло, он протянул руки к боту и отчаянным голосом крикнул: «Ради Бога, не приближайтесь!» Это, конечно, делает большую честь мужеству мистера Файсона, а также и его скромности, потому что он и до сих пор, кажется, не видит в своем поступке ничего геройского. Брошенное весло тотчас же скрылось под водою и потом всплыло ярдах в двадцати от лодки.
Одновременно с этим лодка под мистером Файсоном сильно покачнулась, и Хилль, лодочник, вскрикнул от ужаса. Позабыв о боте и его пассажирах, Файсон немедленно обернулся и увидал, что Хилль с искаженным лицом почти лежит на борту, резко и отрывисто крича: «ай! ай! ай!», а правая его рука уже в воде и, очевидно, захвачена щупальцами. Файсон думает, что это случилось в то время, когда Хилль резал их своим ножом под водою, но теперь трудно решить, так ли это было. Лодка сильно накренилась, так что борт был всего в каких-нибудь десяти дюймах от поверхности моря, и оба рабочих, один с веслом, другой с багром, отчаянно колотили по воде, стоя с обеих сторон Хилля. Файсон инстинктивно перегнулся на другой борт, чтобы не дать лодке опрокинуться.
Тогда Хилль, дюжий, здоровенный малый, встал в лодке почти во весь рост и вытащил свою руку из воды, хотя на ней висел целый узел бурых веревок. Даже глаза чудовища, которому принадлежали щупальцы, показались на минутку над водою, и лодка, между тем, накренивалась все более и более, так что, наконец, черпнула бортом. Хилль поскользнулся при этом и упал боком на край борта, а рука его опять ушла в воду. Почти тотчас же новая пара щупалец схватила его за голову и вытащила из лодки. Только ноги несчастного Хилля мелькнули в воздухе, и одна из них задела Файсона каблуком по колену. Лодка тотчас же выпрямилась, при чем Файсон чуть не вывалился на другой борт.
Стараясь сохранить равновесие и оглянувшись вокруг, он заметил, что борьба с чудовищами и постоянно поднимавшийся прилив приблизили лодку к берегу и что теперь она находилась не больше как в четырех ярдах от поросших водорослями камней, по которым он бежал недавно. Выхватив весло из рук Эвана, он сильно оттолкнулся им от кормы лодки и потом, перебежав на нос, прыгнул с него на берег, поскользнулся было, вскочил, вновь прыгнул, упал на колени и, наконец, поднялся на ноги.
«Берегись!» — крикнул кто-то сзади, и чье-то тяжелое тело вновь сбило мистера Файсона с ног, в лужу. Это был один из рабочих, выпрыгнувших вслед за ним на берег. Поднимаясь, Файсон слышал сзади себя чьи-то отчаянные крики. Ему сначала показалось, что это кричит Хилль, но потом послышались какие-то другие голоса. В то же время кто-то через него перепрыгнул, обдав грязью из лужи. Когда Файсон поднялся, наконец, на ноги, то пустился бежать к сакле, не оглядываясь назад. Перед ним бежали два рабочих, ярдах в двенадцати друг от друга.
Отбежав довольно далек, он решился оглянуться и, не видя погони, остановился. С того момента, когда из воды показались щупальца чудовищ, и до настоящей минуты Файсону некогда было и наблюдать ни думать. Только теперь он понял, что с ним произошло; только теперь он мог осмыслить все свои действия, совершавшиеся инстинктивно, и теперь все происшедшее показалось ему каким-то тяжелым сном.
Никаких следов этого сна не осталось, повидимому. Небо было безоблачно, море — как зеркало, пустая лодка мирно покачивалась на нем, ярдах в пятнадцати от берега и на всю эту тихую картину сверху лился мягкий свет заходившего солнца. Хилль, морские чудовища, борьба, отчаяние — все это исчезло, как будто никогда и не бывало.
Сердце мистера Файсона отчаянно билось, он едва переводил дух.
Успокоившись немного и взглянув опять на расстилавшуюся перед ним картину, он вдруг смутно почувствовал, что в ней чего-то недостает. Но чего именно? Солнце, небо, море, скалы, лодка — все, кажется, цело! А, между тем, чего-то нет… Нет бота с его пассажирами! — внезапно пришло в голову Файсону. Бот исчез, так что Файсон даже усомнился в его существовании. Был ли, на самом деле, бот? Не пригрезился ли он его расстроенному воображению?
Обернувшись назад, мистер Файсон увидал обоих рабочих, стоявших рядом на выступе скалы. На минутку ему пришло в голову попытаться спасти Хилля, но страшная физическая и психическая усталость сделала его самого беспомощным, так что он с большим трудом мог дойти до скалы и присоединиться к товарищам своего бедствия. Взглянув сверху на море, он увидел и бот, плававший кверху дном, немного подальше лодки…
III
Таким образом, Haploteuthis Ferox показался у берегов Девоншира. Если сблизить рассказ мистера Файсона с громадным количеством различных несчастий, случавшихся в этом году на море (то лодка с пассажирами пропадает без вести, то пойдет человек купаться и не возвратится), то окажется, что нашествие его стоило Англии очень дорого. Тем более, что и рыба ушла от берегов; надо думать, что она испугалась прожорливых чудовищ, державших всю страну как бы в блокаде.
Что касается причин этого нашествия, то многие объясняют его голодом, наступившим в морских глубинах, где преимущественно водится Haploteuthis. Пораспугав всех своих сожителей, последний, в конце концов, и сам принужден был идти искать себе пищи в других местах. Это, конечно, возможно. Но почему же он пришел именно к берегам Англии, столь отдаленным от его обычного местожительства?
Мне больше нравится гипотеза Гексли, который предполагает, что какая-нибудь отдельная группа этих животных, случайно попробовав человеческого мяса (мало ли судов гибнет ежегодно!) и привыкнув к нему, стала гоняться за судами, по большим морским дорогам, и дошла по ним до конечного их пункта, то есть, берегов Англии. Очень многое говорит за справедливость этого взгляда, но здесь не место подробно развивать его, а потому я перехожу к изложению фактов.
Таким образом, в один описанный мистером Файсоном день в Сидмауте было съедено морскими чудовищами одиннадцать человек (по справкам оказалось, что в боте было не шесть пассажиров, как думал Файсон, а целых десять). Удовлетворив свой аппетит, они больше не показывались. Весь вечер и всю ночь между Ситоном и Солтертоном разъезжали по морю четыре спасательных бота с матросами, снабженными достаточным количеством оружия, подходящего для охоты за морским зверем, то есть гарпунов, топоров и больших ножей; кроме того, несколько подобным же образом обставленных экспедиций, снаряженных частными людьми (мистер Файсон ни в одной из них не участвовал), присоединились к этому правительственному патрулю, но никто из них ничего не встретил.
Зато около полуночи морские разбойники были замечены пассажирами одной невооруженной и неподготовленной к борьбе лодки, отошедшей мили на две к юго-западу от Сидмаута. Эти пассажиры — священник, моряк и два ученика местной школы — видели под килем своей лодки, на глубине футов пятнадцати или двадцати, трех чудовищ, медленно плывших к юго-западу. Они были ясно видны, благодаря фосфоресценции, свойственной почти всем животным, обитающим на больших глубинах. Повидимому, они спали, так как держались в воде совершенно неподвижно, с поджатыми щупальцами. Увидав чудовищ, пассажиры лодки тотчас же подняли тревогу: стали кричать и махать фонарем. Сигнал этот был замечен всеми судами, отправившимися на охоту, и скоро к лодке собралась целая флотилия, шумевшая так сильно, что тревога распространилась по всему берегу. Чудовища, однако же, успели уйти; никто, кроме пассажиров в лодке, их не видел, и скоро все суда благополучно вернулись назад.
Страннее всего в этой истории то обстоятельство, что после первого и единственного своего набега на юго-западные берега Англии чудовища больше там не появлялись, хотя надзор за ними продолжался все лето.
Семнадцать дней спустя после происшествия в Сидмауте живой Haploteuthis был выкинут на песок около Калэ. Некий господин Пуше застрелил его из ружья, но он, вероятно, и без того уже был болен, так как многие свидетели видели, как он судорожно двигал своими щупальцами.
Это было последним появлением живого Haploteuthis'а на европейских берегах. 15-го июня труп этого животного был выкинут на берег около Торкуэя, а несколько дней спустя, бот с Плимутской биологической станции выловил другой труп, уже наполовину разложившийся и с большой ножовой раной.
Наконец, в последних числах июня мистер Эгберт Кэн, художник, купаясь в море около Ньюлина, вдруг протянул руки, вскрикнул и исчез в волнах. Приятель, купавшийся с ним вместе, даже и не пробовал спасти его, а поплыл поскорее к берегу.
Надо полагать, что он был последней жертвой разбойников моря (если только они, действительно, замешаны в этом деле), и что они вновь и навсегда вернулись в беспросветную глубь отдаленных океанов, из которой так внезапно и так, повидимому, беспричинно вышли.
Перевод К. К. Толстого (1899).
Мухомор
Мистеру Кумбу надоело жить. Он ушел от своего несчастного домашнего очага, куда глаза глядят. Недовольный самим собою и всем светом, он никого не хотел видеть и свернул с улицы через мост, по дороге, которая ведет в болотистые сосновые леса. Он желает быть один и не слышать даже шума, производимого существами, ему подобными. Он больше этого не вынесет. Сопровождая свои слова проклятиями, он громко убеждал всю вселенную в том, что он больше этого выносить не намерен…
Мистер Кумб был маленький, худенький, бледный человечек, с черными глазами и тоненькими черными усиками. На нем был надет туго накрахмаленный высокий, стоячий воротничок, подпиравший шею и создававший своему обладателю фальшивый двойной подбородок. Поношенное пальто его было оторочено поддельным барашком, совершенно порыжевшим. Светло-коричневые перчатки, с отрепанными пальцами и с черными заплатами на суставах, довершали его наряд.
В доброе, старое время, когда мистер Кумб был еще женихом, осанка у него была военная, — по крайней мере, так говорила его невеста, теперешняя мистресс Кумб. А в настоящее время, сделавшись женою, мистрисс Кумб зовет его — страшно вымолвить — «коротышкой»! Да еще если бы только коротышкой…
Сегодня размолвка произошла опять по поводу этой сумасшедшей Дженни. Дженни — подруга мистресс Кумб. Она без всякого приглашения приходит по воскресеньям обедать и отравляет мистеру Кумбу аккуратно каждый воскресный вечер.
Это — высокая, полная, крикливая девица, любящая яркие цвета и вечно хохочущая. А сегодня она, кажется, превзошла самое себя, да еще притащила какого-то малого, столь же беспутного как сама. Мистер Кумб, в туго накрахмаленном воротничке и новом фраке, за своим собственным столом, просидел целый обед молча, с бурей в груди, в то время как его жена с гостями болтали и хохотали самым неприличным образом. Хорошо. Он это вытерпел кое-как. Но сейчас же после обеда (позднего, по обыкновению) мисс Дженни ничего лучше не придумала, как сесть за рояль и начать барабанить какие-то вальсики, как будто бы это был будний день! Человек с душою не может вынести таких порядков! Ведь соседи слышат! На улице слышно! Что подумают добрые люди? Человек с душою молчать не может.
Мистер Кумб так и поступил. Сидя под окном, вдали от общества (вновь приведенный малый развалился на диване), он сначала сильно побледнел и начал дрожать с головы до ног. Потом у него пресеклось дыхание. Овладев собою, как следует человеку, сохранившему еще военную осанку (что бы ни говорила мистресс Кумб), он, наконец, повернулся и сказал тоном предостережения:
— Сегодня, кажется, воскресенье…
Но так как на этот тон никто не обратил внимания, то он повторил ту же фразу более громким голосом и на этот раз уже тоном угрозы.
Мисс Дженни продолжала играть, а мисресс Кумб, разбиравшая тетради нот, не оставляя своего занятия, проговорила:
— Ну, что еще? Чем не угодили? Разве уж и развлечься нельзя?
— Я говорю не о разумных развлечениях, — сказал глава семьи, — а о вашей музыке, которую я не хотел был слышать в этом доме по воскресеньям.
— Чем я провинилась? — воскликнула Дженни, быстро повернувшись на круглом табурете, при чем он отчаянно заскрипел.
Кумб увидал, что битва неизбежна, а потому бросился на нее очертя голову, как делают все застенчивые и нервные люди.
— Пожалуйста, поосторожнее со стулом, — сказал он громче, чем следовало, — не забывайте о своем весе.
— Прошу вас не заботиться о моем весе, — ответила Дженни, видимо уязвленная. — Что вы тут говорили про мою игру?
— Неужели вы не допускаете музыки по воскресеньям, мистер Кумб? — спросил новый гость, картавя чуть не на все буквы, пуская клубы дыма и презрительно улыбаясь.
А мистресс Кумб в то же время говорила что-то такое своей приятельнице насчет того, что его, дескать, слушать не стоит.
— Да, я не допускаю, — сказал мистер Кумб новому гостю.
— Могу осведомиться — почему? — спросил новый гость, наслаждаясь и папиросой и ожиданием победы над мистером Кумбом. Это был сухощавый молодой человек, одетый, с претензией на фатовство, в светлый пиджак и белый галстук с жемчужной булавкой. Мистеру Кумбу казалось, что он лучше бы сделал, явившись к обеду во фраке или, по крайней мере, в черном сюртуке.
— Потому что, — начал мистер Кумб, — это мне не нравится. Я — деловой человек и должен обращать внимание на вкусы лиц, с которыми вхожу в сношения. Разумные развлечения…
— Его сношения! Его связи! — сказала мистресс Кумб презрительно. — Это уж мы давно слышим.
— Если вы не желаете обращать внимание на мои слова, — заметил мистер Кумб, — то зачем вы выходили за меня замуж?
— Это, действительно, вопрос! — воскликнула мисс Дженни, поворачиваясь опять к роялю.
— И что это за человек, ей Богу! — сказала мистресс Кумб. — Я вас совсем не узнаю. Прежде…
Дженни начала отчаянно барабанить.
— Слушайте! — воскликнул мистер Кумб, окончательно выходя из себя, вставая и возвышая голос. Я вам говорю, что не потерплю этого!
Даже фалды его фрака подергивались, как бы разделяя негодование хозяина.
— Пожалуйста, без насилий! — сказал новый гость, приподнимаясь с дивана.
— Да вы-то сами кто такой? — воскликнул мистер Кумб в бешенстве.
Тут все сразу заговорили. Новый гость сказал, что он — жених мисс Дженни и не позволит ее оскорблять; мистер Кумб сказал, что он может делать это где угодно, только не здесь; мистресс Кумб сказала, что мужу ее должно быть стыдно оскорблять своих гостей и что он ни что иное, как коротышка; а в конце концов мистер Кумб попросил своих гостей убираться вон, и так как они на это не согласились, то он сказал, что уйдет сам…
Выбежав со слезами на глазах в прихожую, он долго не мог надеть пальто, так как рукава фрака упорно засучивались по самое плечо. А в гостиной в это время слышался хохот, и мерзкая Дженни из всех сил заиграла какой-то марш, как бы выгоняя хозяина из его собственного дома. Справившись с фраком, хозяин поэтому так хлопнул дверью, что кона задребезжали. Надеюсь, читатели понимают теперь, почему мистеру Кумбу жизнь надоела?
Идя по грязной тропинке, под соснами (на дворе стоял уже октябрь; весь лес был завален опавшей хвоей и порос грибами), мистер Кумб вспоминал печальную историю своей женитьбы, которая, в сущности, была совсем заурядною. Он теперь совершенно ясно понимал, что мистресс Кумб вышла за него замуж, во-первых, потому, что надо же было за кого-нибудь выйти, а, во-вторых — потому, что ей надоело вечно работать из-за куска хлеба. Подобно большинству женщин ее класса, она была слишком глупа, чтобы понять свои обязанности по отношению к мужу и делам, которыми он занимался. Ей казалось, что, выйдя замуж, она будет только наслаждаться. Общительная, говорливая, любящая удовольствия, она на первых же порах разочаровалась, увидав, что и замужем надо тоже работать и сообразовываться со средствами мужа. Скука и недостатки ее обозлили; малейшее напоминание об обязанностях замужней женщины, малейший контроль со стороны мужа над ее поведением вызывали с ее стороны бурю и навлекали на него обвинение в деспотизме. Разве не может он быть таким же милым, каким был до свадьбы? А бедный, маленький Кумб, между тем, застенчивый и безобидный, воспитанный на идеях «Самопомощи» Смайльса, ставил долг выше всего, имел наклонность к самопожертвованию и всепрощению. Что же мудреного, если он вскоре заслужил прозвище самодовольной коротышки?
Как раз в это время явилась Дженни, в качестве Мефистофеля в юбке; посыпались рассказы о «настоящих» кавалерах, о театрах, концертах, балах, пикниках и проч. А тут объявились еще тетки жены и вообще ее родственники обоего пола, которые объедали бедного Кумба, оскорбляли его на всяком шагу, мешали его делам и вообще устроили маленький ад из его домашнего очага. Не в первый раз он уже уходил из дома во гневе и негодовании, крича, что «не выдержит этого», и растрачивая, таким образом, энергию, нужную для действительного сопротивления. Но никогда прежде жизнь не казалась ему такой невыносимой, как в это воскресенье. Может быть, плохой обед был тому причиною, а может быть — и скверная октябрьская погода. Легко возможно также, что он теперь только сознал, насколько женитьба повредила его делам и испортила его самого, как делового человека. Теперь предстоит банкротство, а потом… Она еще раскается, да будет уже поздно!
И, как нарочно, именно в таком состоянии духа, судьба направила Кумба в лес, поросший грибами!
Мелкий лавочник вообще попадает в скверное положение, если жена оказывается плохим ему помощником. Развод для него немыслим, так как все капиталы — в деле. Добрая, старая формула, по которой брак есть неразрывный союз на горе и радость, приложима главным образом к мелким лавочникам и вообще к небогатому человеку. Чернорабочие убивают своих жен, а герцоги их бросают, люди же среднего состояния — маленькие чиновники, мелкие торговцы, поневоле должны жить вместе, только мечтая о каком-нибудь более выносимом исходе. Нет ничего мудреного, стало быть, что при настоящих обстоятельствах мысль мистера Кумба (надеюсь, что вы отнесетесь к нему снисходительно) была направлена на бритвы, пистолеты, кухонные ножи, на трогательные письма к прокурору, с признанием в своем преступлении и с изложением его причин, — вообще на быстрое и энергичное избавление от всего того, чего он «не может выносить более». Немножко погодя, однако же, гнев в его душе уступил свое место меланхолии. Он венчался как раз в том фраке, который был теперь на нем надет. Он помнит золотые дни ухаживанья, прогулки вдвоем в этом же самом лесу, розовые надежды на светлое будущее и проч. и проч. К чему это все привело? Неужели настоящая любовь есть миф? Но если так, то и жить не стоит…
Вспомнив по этому поводу о канале, через который он только что перешел по мосту, мистер Кумб усомнился в возможности погрузиться в него с головою, даже при таком маленьком росте. Как раз в эту минуту взгляд его упал на великолепный, ярко-красный мухомор, росший около тропинки. Сначала он взглянул на гриб совершенно машинально, затем остановился, подумал немножко и сорвал его. Мухоморы ведь слывут страшно ядовитыми… А этот смотрел особенно внушительно: толстый, красный, скользкий и с каким-то одуряющим запахом…
Запах, впрочем, не особенно неприятен. Постояв несколько секунд, мистер Кумб отломил кусочек мухомора. Поверхность излома оказалась млечно-белою, но через минутку пожелтела, а потом и позеленела — перемена, тоже очень внушительная с точки зрения ядовитости… Мистер Кумб отломил еще два кусочка, чтобы на нее полюбоваться. Удивительные растения — эти грибы, думал он, и все страшно ядовиты, особенно этот! Так, по крайней мере, говорил покойный отец мистера Кумба.
Почему бы не решиться теперь же? Лучшего времени для решения не найдешь… Мистер Кумб попробовал разжевать кусочек, правда, очень маленький — с просяное зерно… Воняет скверно, так что хочется выплюнуть, но вкус — ничего, перечный, жгучий… Разжевав, мистер Кумб проглотил этот кусочек. Затем попробовал еще… так себе — не совсем дурно… А главное — увлечение экспериментом заставило забыть злобу дня. Кусочек за кусочком, мистер кумб окончил почти весь мухомор, даже не ясно сознавая, что делает, как бы шутя со смертью. Пульс его забил быстрее, в концах пальцев ощущалось курьезное покалывание, в ушах начался сильный шум; ноги плохо повиновались, язык стал заплетаться, как у пьяного.
— Хорррошая штука! — воскликнул он, слегка покачиваясь, и начал оглядываться вокруг, выпучив глаза. — Надо бы еще крошечку!
Увидав неподалеку красные головки мухоморов, он направился к ним, но, не успев дойти, упал лицом вниз и потерял сознание.
Пролежал он, однако же, не долго. Придя в себя, он сел и стал внимательно чистить свою шляпу, упавшую в грязь. Затем потер себе лоб, чтобы вспомнить, что с ним случилось. Кажется, он о чем-то горевал. Кажется, он там, дома, наделал всем неприятностей потому только, что они желали веселиться? Вот глупо! Теперь у него на душе ни малейшего следа горя не осталось! Он никогда не был так весел, да и погода, кажется, никогда не бывала такой приятной. Мистер Кумб даже рассмеялся от какой-то безотчетной радости. Не хочет он больше горевать и мешать веселью других людей! Вот он пойдет сейчас домой и всех там успокоит! Надо, однако ж, взять с собой мухоморов. Пусть их тоже покушают на здоровье! Пить, вот, только хочется, — в горле отчего-то жжет. Но это ничего, это дома можно. Какой он был дурак! Разве можно мешать веселью? А мухоморы надо положить в рукава пальто. Ха, ха, ха, ха! Это будет очень весело! Рукава-то можно вывернуть наизнанку, так удобнее… да и смешнее. Теперь — марш домой! Да с песней!
По уходе мистера Кумба из дома мисс Дженни тотчас же перестала играть, повернулась лицом к публике и сказала:
— Вот много шума из пустяков!
— Теперь вы видите, мистер Кларенс, какова моя жизнь, — сказала мистресс Кумб, обращаясь к новому гостю.
— Ну, что ж? Он немножко горяч. Это еще ничего, — отвечал мистер Кларенс примиряющим тоном.
— Да не то, что горяч, а он совсем не понимает меня, — продолжала мистресс Кумб. Он ни о чем ни думает, кроме своей лавчонки. Если мне нужно общество, если понадобятся деньги для того, чтобы иметь какие-нибудь развлечения, наконец, даже просто на хозяйство, то у нас сейчас же ссора. Он сейчас же начинает толковать о «благоразумной экономии», о «борьбе за жизнь» и все такое. Поверите ли, он по целым ночам не спит, обдумывая как бы это обрезать меня на пару шиллингов! Он однажды потребовал, чтобы мы ели французское масло! Ей Богу! Не слушаться же мне его, в самом деле!
— Разумеется! — подтвердила Дженни.
— Если мужчина дорожит женщиной, — сказал мистер Кларенс, — то он должен быть готов на всякие для нее жертвы. Что касается меня, — прибавил он, откидываясь на спинке дивана и смотря на Дженни, — я и не посмею жениться до тех пор, пока не буду в состоянии прилично обставить мою жену. Это было бы презренным себялюбием. Мужчина должен предварительно сам пробить себе дорогу, а не тащить жену…
— Я с этим не совсем согласна, — прервала его Дженни, — почему же бы мужчине и не воспользоваться помощью женщины, если только он будет обращаться с нею как следует. Нам, главное, нужно…
— Вы не поверите, — прервала мистресс Кумб, — какая я была дура, что вышла за него замуж. Должна бы уж, кажется, хорошо его знать. Ведь, если бы не мой отец, то у нас и кареты-то к венцу ехать не было бы.
— Боже мой! Неужели он даже об этом не подумал? — сказал мистер Кларенс с негодованием.
— Говорит, деньги были нужны на какой-то там товар или вообще на какие-то пустяки. Да что! Он не хотел даже нанимать прислуги! Это уже я настояла. У нас всякий раз целые бури из-за денег. Приходит ко мне, приносит какие-то счета, чуть не плачет. «Нам бы, говорит, только этот год как-нибудь пережить, а там дело пойдет». Я уж к этому привыкла. Знаю, я говорю, нам бы только этот год пережить, а там опять нужно будет переживать еще год, я говорю. Вам угодно, чтобы жена ваша морила себя черной работой, я говорю, так вы бы тогда должны были жениться на черной невольнице, а не на порядочной девушке, я говорю. Мы у папеньки белья не стирали, я говорю…
Долго еще мистресс Кумб причитала в таком же духе, и долго разговор вертелся на недостатках ее мужа и страдальческой ее судьбы, но мы передавать его не будем, так как многие из наших читателей сами бывали, вероятно, объектами таких разговоров или, по крайней мере, слыхали их… Довольно того, что разговор затянулся до вечера, когда мистресс Кумб отправилась готовить чай, а мисс Дженни во время ее отсутствия кокетливо присела на ручку дивана, рядом с мистером Кларенсом.
— Что это мне послышалось, как будто кто-то целуется? — шутливо спросила мистресс Кумб, снова входя в гостиную.
На этой фразе основался веселый разговор о поцелуях, затянувшийся и во время чая, до тех пор, пока появились первые признаки возвращения мистера Кумба.
Признаки эти состояли в постукивании ручкой наружной двери.
— Вот мой супруг и повелитель! — сказала мистресс Кумб. — Ушел аки лев рыкающий, а возвращается, наверное, смирней овечки.
Что-то такое упало в лавке, — повидимому, стул. Все притаили дыхание и прислушиваются иронически. Слышны тяжелые, но неверные шаги по коридору; затем дверь отворяется, и входит мистер Кумб, но мистер Кумб совершенно преображенный. Безукоризненный воротничок намок, запачкан и повис; пальто надето навыворот и рукава его полны мухоморов; те же грибы торчат из карманов жилета, и грудой высится в шляпе, которую достойный глава семьи держит в руках. Все эти легкие изменения праздничного костюма являются, однако же, ничтожными по сравнению с переменой, совершившейся в лице мистера Кумба. Оно мертвенно бледно; глаза вытаращены, зрачки расширены, а бескровные, почти синие губы искривлены в какую-то не то улыбку, не то гримасу.
— Гулляй! — восклицает мистер Кумб, от самого порога пробуя начать танцевать. Рразумное развлечение! Тттанцы! Вот!
Он делает несколько неловких шагов и начинает раскланиваться с публикой, едва держась на ногах.
— Джим! — восклицает мистресс Кумб, а мистер Кларенс, как сидел, так и остается с открытым ртом.
— Он пьян, — говорит мисс Дженни потихоньку, хотя едва ли она когда-нибудь видывала такую страшную бледность на лице пьяного или такие блестящие расширенные зрачки.
Мистер Кумб протягивает Кларенсу горсть мухоморов.
— Кушшьте! — говорит он, — хорошая штука!
Он, очевидно, весел и желает всем добра. Но при виде всеобщего отчуждения вдруг круто меняется и переходит к страшному гневу, как это обыкновенно бывает при отравлениях наркотическими ядами. Очевидно, он вспомнил утреннюю ссору и потому сразу начинает кричать таким страшным голосом, какого мистресс Кумб никогда не слыхивала.
— Мой дом! Я здесь х-х-хозяин! Ешь, что дают!
Кларенс при этом оказывается трусом. Взглянув на разъяренного хозяина, он вскакивает и прячется за стул. Мистер Кумб схватывает его за шиворот и начинает совать ему в рот мухоморы. Дженни и мистресс Кумб с криком бегут через коридор в лавку. Стол с чайным прибором падает. Мистер Кларенс с физиономией, намазанной мухоморами, вырывается из рук Кумба, оставив в них воротник своего пиджака, и бежит через тот же коридор в кухню.
Выбежав в коридор, мистресс Кумб кричит: «Заприте его в гостиной!», но союзница ее, мисс Дженни, успевшая добраться до лавки, запирает дверь из этой последней в коридор, причем мистресс Кумб бежит вверх по лестнице и запирается в своей спальне.
Оставшись господином положения и увидав, что жена убежала, мистер Кумб после легкого колебания направляется в кухню, где спрятался Кларенс, собиравшийся запереть хозяина с этой стороны, но не могший найти ключа. При его приближении Кларенс пробует скрыться в кладовой, но из нее нет выходя, и он попадает в плен. Что тут произошло — доподлинно неизвестно, так как мистер Кумб ничего не помнит, а Кларенс избегает всяких разговоров на этот счет. Надо думать, что гнев мистера Кумба прошел, и он опять обратился в развеселого малого, дружески потешавшегося над Кларенсом. Он, кажется, заставил последнего попробовать мухоморов, поборолся с ним немножко, потанцевал, затем умыл его под краном и даже вычистил ему лицо сапожной щеткой, а в конце концов выпроводил через четный ход на улицу. Боясь опять рассердить хозяина, в виду обилия разных колющих и режущих инструментов в кухне, Кларенс, должно быть, вполне добродушно подчинялся всем этим операциям.
Покончив с Кларенсом, мистер Кумб вспомнил Дженни, которая сидела запертою в лавке, так как ключ от наружной двери оставался в гостиной. Попробовав, однако же, сломать дверь из коридора в лавку, мистер Кумб не справился с этой задачей и должен был оставить Дженни в покое на всю ночь, так же как и свою жену, сидевшую в спальне.
После этого мистер Кумб в погоне за весельем, отправился, должно быть, опять на кухню, где и выпил или вылил на свой фрак пять бутылок крепкого портера, хранившихся специально для мистресс Кумб, ввиду ее слабого здоровья, так как сам мистер Кумб принадлежал к обществу трезвости. Раскупоривать их было бы скучно, и потому мистер Кумб, распевая веселые песни, отбивал горлышки бутылок любимыми тарелками своей жены, полученными ею в приданое, причем сильно обрезал себе руку.
О том, что произошло дальше, история умалчивает. Известно только, что мистер Кумб закончил этот многознаменательный вечер глубоким сном в угольном погребе.
Прошло пять лет. Наступил опять воскресный вечер в октябре месяце, и мистер Кумб оказался опять гуляющим по сосновому лесу, около канала. Он попрежнему оставался маленьким, черноглазым человечком, но двойной подбородок его теперь едва ли уже можно было считать фикцией. Пальто на нем было новое, с бархатными лацканами, а воротничок был уже откладной, хотя и столь же туго накрахмаленный. Шляпа блестела как лакированная, а перчатки хоть и не новы, но тщательно вычищены. Внимательный наблюдатель опять заметил бы в его осанке что-то военное, что-то указывающее на сильно развитое самоуважение. Он теперь был уже настоящим хозяином, так как держал троих приказчиков. Рядом с ним шел джентльмен, представлявший собою загорелую и значительно увеличенную, но точную с него копию: брат его Том, только что вернувшийся из Австралии. Они толковали о перипетиях «Борьбы за жизнь», выдержанной каждым из них, и Джим только что изложил Тому подробности своего современного положения.
— Не дурно вы устроились, Джим, — сказал брат Том. — При теперешней конкуренции, право, очень недурно. Счастье ваше, что у вас есть такая хорошая жена. Без ее помощи плохо бы было.
— Между нами сказать, — заметил Джим, — ведь это не всегда так было. Она не всегда была такая. В начале нашего супружества у ней в голове, что называется, ветер ходил, как и у всех молодых женщин, впрочем.
— Может ли быть?
Да уж так. Вы, может быть, не поверите, но она была и ветрена и сварлива. Ну, а я, конечно, любил ее, баловал, был слаб, она и вообразила, что вся вселенная создана только для нее, превратила наш дом в какой-то караван-сарай: барышни из магазинов, их возлюбленные, песни, болтовня, ухаживанье, а для дела и времени не оставалось. Вся торговля чуть не пошла прахом. Меня совсем чуть из дома не выгнали.
— Вот никогда бы не подумал!
— Как же! Я ее убеждал, конечно, говорил, что жена должна помогать мужу, что я не в работники к ней нанялся, что я добр, только пока меня не выведут из себя, и что к этому, кажется, идет. Но она ничего не слушала.
— Ну..?
— Бабы всегда ведь так. Она не верила в то, что я могу когда-нибудь возмутиться, а такого рода женщины (только, пожалуйста, между нами, Том) могут уважать мужчину только тогда, когда его боятся. Один раз я ей и показал на что способен. Это было тоже в октябре и тоже в воскресенье. Мы поссорились из-за одной ее приятельницы, некоей Джонни, сидевшей у нас со своим ухаживателем. Я ушел из дому, а потом вернулся, да и задал им всем хорошую трепку.
— Да что вы?!
— Ей Богу, так. В здравом рассудке я, признаться, не сделал бы этого, но тут я точно с ума сошел. Вернулся, да так отделал ухаживателя Дженни (здоровенного малого), что с тех пор вся компания присмирела. Жена всю ночь просидела запертой в спальне, а на другой день я прочел ей хорошую нотацию, и с тех пор все наши ссоры прекратились.
— Так что вы, значит, вполне счастливы?
— Как сказать? Счастлив насколько возможно. Ведь не взбесись я тогда, то просить бы мне теперь милостыню на дорогах, а жена и вся ее родня проклинали бы меня за то, что довел ее до нищеты. Знаю я их! Ну, а теперь, слава Богу, живем понемножку.
Братья шли несколько времени молча.
— Да, женщины — презабавные существа! — сказал, наконец, брат Том.
— Их нужно держать в руках, — сентенциозно произнес брат Джим.
— Какая пропасть мухоморов в этом лесу, — заметил брат Том, помолчав еще немножко. — Не понимаю, зачем они существуют на свете.
— Должно быть, на что-нибудь нужны, природа ничего без цели не производит, — сказал брат Джим опять-таки сентенциозно.
Неужели бедные грибы не заслуживали более горячей благодарности со стороны человека, всю жизнь которого они изменили к лучшему?
1896
Остров доктора Моро
Предисловие
1 февраля 1887 года «Леди Вейн» погибла, наскочив на мель около 1° южной широты и 107° западной долготы.
5 января 1888 года, то есть одиннадцать месяцев и четыре дня спустя, мой дядя Эдвард Прендик, который сел на «Леди Вейн» в Кальяо и считался погибшим, был подобран в районе 3° северной широты и 101° западной долготы в небольшой парусной шлюпке, название которой невозможно было прочесть, но по всем признакам это была шлюпка с пропавшей без вести шхуны «Ипекакуана». Дядя рассказывал о себе такие невероятные вещи, что его сочли сумасшедшим. Впоследствии он сам признал, что не помнит ничего с того самого момента, как покинул борт «Леди Вейн». Психологи заинтересовались дядей, считая, что это любопытный случай потери памяти вследствие крайнего физического и нервного переутомления. Однако я, нижеподписавшийся его племянник и наследник, нашел среди его бумаг записки, которые решил опубликовать, хотя никакой письменной просьбы об этом среди них не было.
Единственный известный остров в той части океана, где нашли моего дядю, это маленький необитаемый островок Ноубл вулканического происхождения. В 1891 году этот островок посетило английское военное судно «Скорпион». На берег был высажен отряд, который, однако, не обнаружил там ничего, кроме нескольких необыкновенных белых мотыльков, а также свиней, кроликов и крыс странной породы. Ни одно из животных не было взято на борт, так что главное в записках дяди осталось без подтверждения. Ввиду всего сказанного можно надеяться, что издание этих удивительных записок никому не принесет вреда и, как мне кажется, соответствует желанию моего дяди. Во всяком случае, остается фактом, что дядя исчез где-то в районе 5° северной широты и 106° западной долготы и нашелся в этой же части океана через одиннадцать месяцев. Должен же он был где-то жить все это время. Известно также, что шхуна «Ипекакуана» с пьянчугой капитаном Джоном Дэвисом вышла из Арики, имея на борту пуму и других животных, в январе 1887 года ее видели в нескольких портах на юге Тихого океана, после чего она бесследно исчезла с большим грузом кокосовых орехов, выйдя в неизвестном направлении из Бэньи в декабре 1887 года, что совершенно совпадает с утверждением моего дяди.
Чарлз Эдвард Прендик
I. В ялике с «Леди Вейн»
Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что уже сообщалось в газетах о гибели «Леди Вейн». Всем известно, что через десять дней после выхода из Кальяо она наткнулась на отмель. Семь человек экипажа спаслись на баркасе и были подобраны восемнадцать дней спустя английской канонеркой «Миртл». История их злоключений стала так же широко известна, как и потрясающий случай с «Медузой». На мою долю остается только добавить к уже известной истории гибели «Леди Вейн» другую, не менее ужасную и, несомненно, гораздо более удивительную. До сих пор считалось, что четверо людей, пытавшихся спастись на ялике, погибли, но это не так. У меня есть неопровержимое доказательство: я один из этих четверых.
Прежде всего я должен заметить, что в ялике было не четверо, а только трое — Констанс, про которого писали, что «его видел капитан, когда он прыгал за борт» («Дейли ньюс» от 17 марта 1887 года), к счастью для нас и к несчастью для себя, не добрался до ялика. Выбираясь из путаницы снастей у сломанного бушприта и готовясь кинуться в воду, он зацепился каблуком за какую-то снасть. На минуту он повис вниз головой, а потом, падая в воду, ударился о плававшее в волнах бревно. Мы стали грести к нему, но он уже больше не показывался на поверхности.
Пожалуй, все же он не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя. У нас был только маленький бочонок с водой и несколько отсыревших сухарей (так неожиданно произошла катастрофа и так плохо подготовлен был корабль). Решив, что на баркасе припасов больше (хотя, как видно, это было не так), мы стали кричать, но наши голоса не долетали до баркаса, а на следующее утро, когда рассеялся туман, мы его уже не увидели. Встать и осмотреться не было возможности из-за качки. По морю гуляли огромные валы, нечеловеческих усилий стоило держаться против волнения. Со мной спаслись еще двое: Хельмар, такой же пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не знаю, коренастый, заикающийся человек невысокого роста.
Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали от голода и нестерпимой жажды, после того как выпили всю воду. Через два дня море утихло и стало гладким, как стекло. Едва ли читатель сумеет представить себе, какие это были восемь дней! Счастлив он, если память не рисует ему подобных картин. На второй день мы почти не говорили друг с другом и неподвижно лежали в шлюпке, уставившись вдаль или глядя блуждающими глазами, как ужас и слабость овладевают всеми. Солнце пекло безжалостно. Вода кончилась на четвертый день. Нам мерещились страшные видения, и их можно было прочесть в наших глазах. Если не ошибаюсь, на шестой день Хельмар заговорил наконец о том, что было у каждого из нас на уме. Помню, мы были так слабы, что наклонялись друг к другу и едва слышно шептали. Я всеми силами противился этому, предпочитая прорубить дно шлюпки и погибнуть всем вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулам. Но я оказался в одиночестве: когда Хельмар сказал, что, если мы примем его предложение, у нас будет что пить, матрос присоединился к нему.
Все же я не хотел бросать жребий. Ночью Хельмар все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними.
Утром я согласился с предложением Хельмара, и мы бросили полупенсовик, чтобы жребий решил нашу судьбу.
Жребий пал на матроса, но он был самый сильный из нас и, не желая умирать, кинулся на Хельмара. Они сцепились, и оба привстали. Я пополз к ним по дну шлюпки, чтобы схватить матроса за ногу и помочь Хельмару, но в эту минуту шлюпку качнуло, матрос оступился, и оба упали за борт. Они пошли ко дну, как камни. Помню, я засмеялся, сам удивляясь этому.
Не знаю, сколько времени я пролежал, думая только о том, что если б я был в силах встать, то напился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. Потом я увидел, что на горизонте показался корабль, но продолжал лежать с таким равнодушием, словно это был мираж. Я, по-видимому, был невменяем, но теперь помню все совершенно отчетливо. Помню, как голова моя качалась в такт волнам и судно на горизонте танцевало перед моими глазами. Помню, я был убежден в том, что уже умер, и думал, какая горькая насмешка, что корабль подойдет слишком поздно и подберет лишь мой труп.
Мне казалось, что я лежал так бесконечно долго, опустив голову на банку и глядя на судно, плясавшее на волнах. Это была небольшая шхуна. Она лавировала, описывая зигзаги, так как шла против ветра. Мне даже не приходило в голову попытаться привлечь ее внимание, и я не помню почти ничего после того, как увидел борт подошедшего судна и очутился в маленькой каютке. У меня осталось лишь смутное воспоминание, что меня поднимали по трапу и кто-то большой, рыжий, веснушчатый смотрел на меня, наклонившись над бортом. Помню еще какое-то смуглое лицо со странными глазами, смотревшими на меня в упор, но я думал, что это кошмар, пока снова не увидел их позже. Помню, наконец, как мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот и все, что осталось у меня в памяти.
II. Человек ниоткуда
Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Белокурый моложавый человек со щетинистыми, соломенного цвета усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза, удивительно бесстрастные.
Сверху донесся шум, словно двигали тяжелую железную кровать, и глухое сердитое рычание какого-то большого зверя. Сидевший рядом со мной человек заговорил.
Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос:
— Как вы себя чувствуете?
Насколько помню, я ответил, что чувствую себя хорошо. Но каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос у меня на лице, так как я сам не слышал звука своего голоса.
— Вас подобрали полумертвым в шлюпке с судна «Леди Вейн», борт ее был обрызган кровью.
В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою руку: она была такая худая, что походила на кожаный мешочек с костями. И тут все, что случилось в лодке, тотчас воскресло у меня в памяти.
— Выпейте, — сказал незнакомец, подавая мне какое-то красное холодное питье, вкусом похожее на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее. — Вам посчастливилось попасть на судно, где есть врач, — сказал он.
Говорил он невнятно и как будто пришепетывал.
— Что это за судно? — медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания.
— Маленький торговый корабль, идущий из Арики в Кальяо. Откуда он, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел пассажиром в Арике. Осел, хозяин судна, он же и капитан, по фамилии Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем «Ипекакуана», но, когда на море нет большого волнения, идет оно недурно.
Сверху снова послышались рычание и человеческий голос.
— Чертов дурак! — произнес наверху другой голос, и все смолкло.
— Вы были совсем при смерти, — сказал незнакомец. — Да, к этому шло дело, но я впрыснул вам кое-чего. Руки болят? Это от уколов. Вы были без сознания почти тридцать часов.
Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем множества собак, раздававшимся сверху.
— Нельзя ли мне чего-нибудь поесть? — спросил я.
— Благодарите меня, — ответил он, — сейчас по моему приказанию для вас варится баранина.
— Это хорошо, — сказал я, ободрившись. — С удовольствием съем кусочек.
— Но вот что, — после минутной нерешительности сказал мой собеседник, — мне очень хотелось бы узнать, каким образом вы очутились один в лодке. — Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрительное выражение. — А, черт, какой адский вой!
Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то и ему ответили на непонятном языке. Мне показалось, что дело дошло до драки, но я не был уверен, что слух не обманул меня. Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту.
— Ну, — сказал он, стоя на пороге, — вы хотели рассказать мне, что с вами случилось.
Я назвал себя и стал рассказывать, что я, Эдвард Прендик, человек материально независимый и жизнь мою скрашивает увлечение естественными науками. Он явно заинтересовался.
— Я сам когда-то занимался науками в университете, изучал биологию и написал работы о яичнике земляных червей, о мускуле улиток и прочем. Боже, это было целых десять лет тому назад! Но продолжайте, расскажите, как вы попали в лодку.
Ему, по-видимому, понравилась искренность моего рассказа, очень короткого, так как я был ужасно слаб, и, когда я кончил, он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих работах по биологии. Он принялся подробно расспрашивать меня о Тоттенхем-Корт-роуд и Гауэр-стрит.
— Что, Каплатци по-прежнему процветает? Ах! Какое это было заведение!
По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и теперь беспрестанно сбивался на тему о мюзик-холлах. Он рассказал мне кое-что из своей жизни.
— И все это было десять лет тому назад, — повторил он. — Чудесное время! Но тогда я был молод и глуп… Я выдохся уже к двадцати годам. Зато теперь дело другое… Но я должен присмотреть за этим ослом-коком и узнать, что делается с вашей бараниной.
Рычание наверху неожиданно возобновилось с такой силой, что я невольно вздрогнул.
— Что это такое? — спросил я, но дверь каюты уже захлопнулась за ним.
Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так возбужден ее аппетитным запахом, что мгновенно забыл все свои недоумения.
Целые сутки я только спал и ел, после чего почувствовал себя настолько окрепшим, что был в силах встать с койки и подойти к иллюминатору. Я увидел, что зеленые морские валы уже не воевали больше с нами. Шхуна, видимо, шла по ветру. Пока я стоял, глядя на воду, Монтгомери — так звали этого блондина — вошел в каюту, и я попросил его принести мне одежду. Он дал кое-что из своих вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, в которой меня нашли, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах, одежда его висела на мне мешком.
Между прочим, он рассказал мне, что капитан совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его, куда идет судно. Он сказал, что оно идет на Гавайи, но по дороге должно ссадить его.
— Где? — спросил я.
— На острове… Там, где я живу. Насколько мне известно, у этого острова нет названия.
Он посмотрел на меня, еще более оттопырив нижнюю губу, и сделал вдруг такое глупое лицо, что я догадался о его желании избежать моих расспросов и из деликатности не расспрашивал его более ни о чем.
III. Странное лицо
Выйдя из каюты, мы увидели человека, который стоял около трапа, преграждая нам дорогу на палубу. Он стоял к нам спиной и заглядывал в люк. Это был нескладный, коренастый человек, широкоплечий, неуклюжий, с сутуловатой спиной и головой, глубоко ушедшей в плечи. На нем был костюм из темно-синей саржи, его черные волосы показались мне необычайно жесткими и густыми. Наверху яростно рычали невидимые собаки. Он вдруг попятился назад с какой-то звериной быстротой, и я едва успел отстранить его от себя.
Черное лицо, мелькнувшее передо мной, глубоко меня поразило. Оно было удивительно безобразно. Нижняя часть его выдавалась вперед, смутно напоминая звериную морду, а в огромном приоткрытом рту виднелись такие большие белые зубы, каких я еще не видел ни у одного человеческого существа. Глаза были залиты кровью, оставалась только тоненькая белая полоска около самых зрачков. Странное возбуждение было на его лице.
— Убирайся, — сказал Монтгомери. — Прочь с дороги!
Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я невольно все время смотрел на него. Монтгомери задержался внизу.
— Нечего тебе торчать здесь, сам отлично знаешь! — сказал он. — Твое место на носу.
Черномазый человек весь съежился.
— Они… не хотят, чтобы я был на носу, — проговорил он медленно, со странной хрипотой в голосе.
— Не хотят, чтобы ты был на носу? — повторил Монтгомери с угрозой в голосе. — Я приказываю тебе — ступай.
Он хотел сказать еще что-то, но, взглянув на меня, промолчал и стал подниматься по трапу. Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все еще удивленный страшным безобразием черномазого. В жизни еще не видел такого необыкновенно отталкивающего лица, и (можно ли понять такой парадокс?) вместе с тем я испытывал ощущение, словно уже видел когда-то эти черты и движения, так поразившие меня теперь. Позже мне пришло в голову, что, вероятно, я видел его, когда меня поднимали на судно, однако эта мысль не рассеивала моего подозрения, что мы встречались с ним раньше. Но как можно было, увидя хоть раз такое необычайное лицо, позабыть все подробности встречи? Этого я не мог понять!
Шаги Монтгомери, следовавшего за мной, отвлекли меня от этих мыслей. Я повернулся и стал оглядывать находившуюся вровень со мной верхнюю палубу маленькой шхуны. Я был уже отчасти подготовлен услышанным шумом к тому, что теперь предстало перед моими глазами. Безусловно, я никогда не видел такой грязной палубы. Она была вся покрыта обрезками моркови, какими-то лохмотьями зелени и неописуемой грязью. У грот-мачты на цепях сидела целая свора злых гончих собак, которые принялись кидаться и лаять на меня. У бизань-мачты огромная пума была втиснута в такую маленькую клетку, что не могла в ней повернуться. У правого борта стояло несколько больших клеток с кроликами, а перед ними в решетчатом ящике была одинокая лама. На собаках были ременные намордники. Единственным человеческим существом на палубе был худой молчаливый моряк, стоявший у руля.
Заплатанные, грязные паруса были надуты, маленькое судно, как видно, шло полным ветром. Небо было ясное, солнце склонялось к закату. Большие пенистые волны догоняли судно. Мы прошли мимо рулевого и, остановившись на корме, стали смотреть на остававшуюся позади пенную полосу. Я обернулся и окинул взглядом всю неприглядную палубу.
— Это что, океанский зверинец? — спросил я Монтгомери.
— Нечто вроде, — ответил он.
— Для чего здесь эти животные? Для продажи или какие-нибудь редкие экземпляры? Может быть, капитан хочет продать их где-нибудь в южных портах?
— Все возможно, — снова уклончиво ответил Монтгомери и отвернулся к корме.
В это время раздался крик и целый поток ругательств, доносившихся из люка, и вслед за этим на палубу проворно взобрался черномазый урод, а за ним — коренастый рыжеволосый человек в белой фуражке. При виде его собаки, уже уставшие лаять на меня, снова пришли в ярость, рыча и стараясь оборвать цепи. Черномазый остановился в нерешительности, а подоспевший рыжеволосый изо всех сил ударил его между лопатками. Бедняга рухнул, как бык на бойне, и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у рыжеволосого, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть назад в люк или же вперед на свою жертву.
Монтгомери, увидев этого второго человека, вздрогнул.
— Стойте! — крикнул он предостерегающе.
На носу судна показались несколько матросов.
Черномазый с диким воем катался по палубе среди собак. Но никто и не думал помочь ему. Гончие, как могли, теребили его, тыкались в него мордами. Серые собаки быстро метались по его неуклюже распростертому телу.
Передние матросы науськивали их криками, как будто все это было веселое зрелище. Гневное восклицание вырвалось у Монтгомери, и он торопливо пошел по палубе. Я последовал за ним.
Через минуту черномазый был уже на ногах и, шатаясь, побрел прочь. Около мачты он прижался к фальш-борту, где и остался, тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рыжеволосый расхохотался с довольным видом.
— Послушайте, капитан! — пришепетывая сильнее обыкновенного, сказал Монтгомери и схватил рыжеволосого за локти. — Вы не имеете права!
Я стоял позади Монтгомери. Капитан сделал пол-оборота и посмотрел на него тупыми, пьяными глазами.
— Чего не имею? — переспросил он, с минуту вяло глядя в лицо Монтгомери. — Убирайтесь ко всем чертям!
Быстрым движением он высвободил свои веснушчатые руки и после двух-трех безуспешных попыток засунул их наконец в боковые карманы.
— Этот человек — пассажир, — сказал Монтгомери. — Вы не имеете права пускать в ход кулаки.
— К чертям! — снова крикнул капитан. Он вдруг резко повернулся и чуть не упал. — У себя на судне я хозяин, что хочу, то и делаю.
Мне казалось, Монтгомери, видя, что он пьян, должен был бы оставить его в покое. Но тот, только слегка побледнев, последовал за капитаном к борту.
— Послушайте, капитан, — сказал он. — Вы не имеете права так обращаться с моим слугой. Вы не даете ему покоя с тех пор, как он поднялся на борт.
С минуту винные пары не давали капитану сказать ни слова.
— Ко всем чертям! — только и произнес он.
Вся эта сцена свидетельствовала, что Монтгомери обладал одним из тех упрямых характеров, которые способны гореть изо дня в день, доходя до белого каления и никогда не остывая. Я видел, что ссора эта назревала давно.
— Этот человек пьян, — сказал я, рискуя показаться назойливым, — лучше оставьте его.
Уродливая судорога свела губы Монтгомери.
— Он вечно пьян. По-вашему, это оправдывает его самоуправство?
— Мое судно, — начал капитан, неуверенно взмахнув руками в сторону клеток, — было чистое. Посмотрите на него теперь.
Действительно, чистым его никак нельзя было назвать.
— Моя команда не терпела грязи.
— Вы сами согласилась взять зверей.
— Глаза мои не видели бы вашего проклятого острова. Черт его знает, для чего нужны там эти животные. А ваш слуга, разве это человек?.. Это ненормальный. Ему здесь не место! Не думаете ли вы, что все мое судно в вашем распоряжении?
— Ваши матросы преследуют беднягу с тех пор, как он здесь появился.
— И неудивительно, потому что он страшнее самого дьявола. Мои люди не выносят его, и я тоже. Никто его терпеть не может, даже вы сами.
Монтгомери повернулся к нему спиной.
— Все же вы должны оставить его в покое, — сказал он, подкрепляя свои слова кивком головы.
Но капитану, видимо, не хотелось уступать.
— Пусть только еще сунется сюда! — заорал он. — Я ему все кишки выпущу, вот увидите! Как вы смеете меня учить! Говорю вам, я капитан и хозяин судна! Мое слово закон и желание свято! Я согласился взять пассажира со слугой до Арики и доставить его обратно на остров вместе с животными, но я не соглашался брать какого-то дьявола, черт побери… какого-то…
И он злобно обругал Монтгомери. Тот шагнул к капитану, но я встал между ними.
— Он пьян, — сказал я.
Капитан начал ругаться последними словами.
— Молчать! — сказал я, круто поворачиваясь к нему, так как бледное лицо Монтгомери стало страшным. Ругань капитана обратилась на меня.
Но я был рад, что предупредил драку, хоть пьяный капитан и невзлюбил меня. Мне случалось бывать в самом странном обществе, но никогда в жизни я не слышал из человеческих уст такого нескончаемого потока ужаснейшего сквернословия. Как ни был я миролюбив от природы, но все же едва сдерживался. Конечно, прикрикнув на капитана, я совершенно забыл, что был всего лишь потерпевшим крушение, без всяких средств, даровым пассажиром, целиком зависевшим от милости или выгоды хозяина судна. Он напомнил мне об этом достаточно ясно. Но так или иначе драки я не допустил.
IV. У борта
В





























