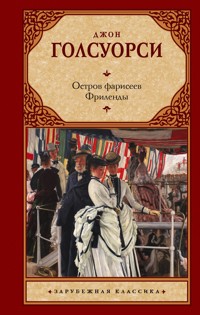Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neoclassic
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Зарубежная классика
- Sprache: Russisch
Двадцатитрехлетняя Джип — очаровательная юная леди, обожающая охоту на лис, скачки и музыку. Познакомившись с виртуозным скрипачом Фьорсеном, девушка влюбляется в его выдающийся талант и вопреки воле отца выходит за музыканта замуж. Но очень скоро Джип понимает, что любовь к искусству и любовь к его творцу — совершенно разные вещи. В данное издание также вошел роман «Поместье», повествующий о жизни британских аристократов в конце XIX века. После того как наследник увлекается ставками и связывается с замужней женщиной, глава семейства подумывает лишить его наследства. Однако по местным законам поместье все равно должно достаться старшему сыну. Мать тем временем ищет способ спасти семью от позора…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Джон Голсуорси За гранью. Поместье
© Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
За гранью
Посвящается Томасу Гарди
Che faro senza… [1]
Часть I
Глава 1
Выйдя из отдела записи актов гражданского состояния собора Святого Георгия, Чарлз Клэр Уинтон некоторое время следовал за таксомотором, увозившим его дочь и артиста, за которого она вышла замуж. Соображения приличия не позволяли Уинтону идти рядом с няней Бетти, единственной, кроме него, свидетельницей бракосочетания. Донельзя расстроенная толстуха выглядела бы нелепо рядом с худым статным джентльменом, шагавшим с естественной легкостью и равновесием улана старой закалки, пусть даже вышедшего в отставку шестнадцать лет назад.
Бедная Бетти! Уинтон думал о служанке со смесью душевной теплоты и досады. Разреветься прямо на пороге церкви – это уж слишком. Он допускал, что после отъезда Джип няня почувствует себя одинокой, но что тогда говорить о нем!.. Рука в светлой перчатке – единственная рабочая, потому что правая кисть была ампутирована до запястья, – сердито подкрутила кончики коротких седеющих усов, торчащих над уголками твердо сомкнутых губ. Несмотря на февральскую серость, на Уинтоне не было пальто. До конца выдерживая подчеркнуто неброский, почти стыдливый стиль свадебной церемонии, отец невесты надел вместо черного фрака и цилиндра синий костюм и жесткую шляпу из темного фетра. Привычка боевого офицера и охотника держать эмоции при себе не изменила ему даже в этот самый черный день его жизни. И только серые с карими крапинками глаза продолжали щуриться, бросать свирепые взгляды и снова щуриться. Временами, будто поддавшись глубокому чувству, взгляд темнел и словно уходил внутрь. Узкое лицо, обветренное, со впалыми щеками, четко вырезанная челюсть, маленькие уши, еще темные по сравнению с усами волосы, только на висках тронутые сединой, рисовали портрет человека действия, привыкшего полагаться на собственные силы и смекалку. Манера держаться была характерна для мужчины, не чуждого щегольства, уделяющего внимание «фасону», но не забывающего, что на свете есть вещи и поважнее. Уинтон точно соответствовал своему типажу, однако примешивалось к нему и нечто не совсем для него характерное. В прошлом таких людей нередко бывает скрыта какая-нибудь драма.
Пожилой джентльмен направился к парку и повернул на Маунт-стрит. Хотя дом стоял на прежнем месте, облик улицы сильно изменился. Двадцать три года назад ноябрьским вечером Уинтон ходил мимо этого дома туда-сюда в невыразимом исступлении ума, как призрак в тумане, как выброшенный за порог пес, – в тот день родилась Джип. А кончилось все тем, что в прихожей – войти в дом он не имел права – ему сказали: та, кого он любил, как ни один мужчина не любил женщину, мертва: умерла, рожая ребенка, их общего ребенка, о чем знали только он и она. Уинтон несколько часов расхаживал в тумане, ожидая родов, и вдруг такое известие! Среди всех напастей, подстерегающих человека, слишком большая любовь, несомненно, самая ужасная.
Как странно, что дорога домой после еще одной потери пролегала мимо того самого дома. Одна проклятая случайность, подагра, вынудила его поехать в Висбаден в сентябре прошлого года. Другая проклятая случайность свела Джип с этим субчиком Фьоренсеном и его треклятой скрипкой. Джип переехала в его дом пятнадцать лет назад, и с тех пор Уинтон ни разу не чувствовал себя таким одиноким и ни на что не годным, как сейчас. Завтра он отправится в Милденхем и попробует развеять хандру верховой ездой. Но уже без Джип. Джип не с ним! Она с жалким скрипачом! С увальнем, ни разу в жизни не сидевшем в седле!.. Уинтон яростно рассек тростью с загнутой ручкой воздух, надвое разрубая воображаемого врага.
Родной клуб рядом с Гайд-парком выглядел на редкость уныло. Повинуясь привычке, Уинтон прошел в картежный зал. День был настолько тускл, что в зале зажгли лампы, за столами черного дерева под абажурами сидели завсегдатаи, свет играл на спинках кресел, картах, бокалах, позолоченных кофейных чашках и отполированных ногтях пальцев с сигарами. Приятель предложил партию в пикет. Уинтон равнодушно сел за стол. Бридж, этот колченогий вист, всегда оскорблял его изысканный вкус. Игра-калека! От покера попахивало вульгарностью. Пикет хоть и вышел из моды, оставался в его глазах единственной игрой, сохранявшей остатки достоинства.
Ему пришла хорошая карта, и он облегчил соперника на пять фунтов, которые охотно уплатил бы сам, лишь бы стряхнуть с себя тоску. Где они сейчас? Должно быть, миновали Ньюбери, и Джип сидит напротив шведского субчика с зелеными глазами бродячего кота. Иноземный прохиндей! Пустышка, если Уинтона не обманывает знание людей и лошадей. Слава богу, он вовремя вложил деньги Джип, все до последнего фартинга. При мысли, как этот тип обнимает его пышноволосую кареглазую дочь – прелестное, гибкое, как ива, создание, так сильно напоминавшее лицом и станом ту, кого он отчаянно любил, – его охватило чувство, близкое к ревности.
Посетители проводили Уинтона взглядом до дверей картежного зала. Он был одним из тех, кто внушал другим мужчинам чувство восхищения, хотя никто не мог бы сказать, чем именно. Многие, слывшие не менее достойными, не привлекали к себе такого внимания. Что это было? Наличие некоего «стиля» или нечто неосязаемое вроде отметины, оставленной прошлым?
Выйдя из клуба, Уинтон медленно проследовал вдоль низкой ограды Пикадилли к дому на Бери-стрит в районе Сент-Джеймс, где проживал с ранних лет. Дом был одним из немногих, не затронутых всеобщей манией ломать и строить, загубившей, на его взгляд, половину Лондона.
Дверь открыл величайший в мире молчун с мягкими быстрыми черными глазками вальдшнепа в длинной зеленоватой вязаной безрукавке, черной визитке и тесных брюках со штрипками поверх ботинок.
– До утра я буду дома, Марки. Пусть миссис Марки что-нибудь приготовит на ужин. Неважно что.
Марки дал понять, что услышал распоряжение, черные глазки под сросшимися в одну темную линию бровями быстро смерили хозяина с макушки до пят. Еще вчера жена сказала, что шефу придется несладко одному, и Марки согласно кивнул в ответ. Возвращаясь в людскую, слуга дернул головой в направлении улицы и махнул рукой на верхний этаж, из чего смышленая миссис Марки сразу сделала вывод, что надо бежать за провизией, потому что хозяин изволит ужинать дома. Проводив жену, Марки уселся напротив Бетти, старой няни Джип. Пышнотелая женщина все еще тихо плакала. Вид Бетти испортил настроение, и Марки захотелось самому завыть по-собачьи. Некоторое время он молчаливо смотрел на ее широкое розовое заплаканное лицо и, наконец, тряхнул головой. Икнув и колыхнувшись всем дебелым телом, Бетти подавила рыдания. Марки лучше не перечить.
Уинтон сначала зашел в спальню дочери, окинул взглядом опустевшее элегантное гнездышко с осиротевшим серебряным зеркалом и яростно крутнул маленький ус. Затем, в своей святая святых, не зажигая свет, присел у огня. Любой сторонний наблюдатель решил бы, что он спит, но на самом деле наводящее дремоту глубокое кресло и уютный огонь в камине унесли его далеко-далеко в прошлое. Какая досада, что сегодня пришлось пройти мимо ее дома!
Некоторые утверждают, что никакого родства душ не существует, что одно-единственное страстное увлечение не способно разбить сердце – по крайней мере, мужское. В теории, возможно, все это правда, но в действительности такие мужчины существуют – мужчины из разряда «или пан, или пропал», неразговорчивые и сдержанные, меньше всех ожидающие, что природа сыграет с ними злую шутку, меньше всех желающие сдаваться на ее милость, меньше всех готовые к зову судьбы. Кто бы мог подумать, включая его самого, что Чарлз Клэр Уинтон по уши влюбится, как только войдет в бальный зал Бельвуарского охотничьего общества в Грантеме в тот декабрьский вечер двадцать четыре года назад? Заядлый вояка, щеголь, превосходный охотник и знаток гончих, приобретший почти легендарный статус в полку своей невозмутимостью и вежливым пренебрежением к женщинам как мелочам жизни, стоял в дверях, не горя желанием танцевать, и оглядывал зал с видом, не предполагавшим в нем партнера, потому как и не старался произвести такое впечатление. И тут – о чудо! – мимо прошла она, и мир навсегда изменился. Что это было? Игра света, приоткрывшая весь ее характер в одном пугливом взгляде? Или же легкое плутовство ее походки, соблазнительная гармония ее фигуры? А может, то, как ниспадали на шею волнистые волосы, или тонкий, почти цветочный аромат ее кожи? Что именно? Она была замужем за местным помещиком, имевшим собственный дом в Лондоне. Как ее звали? Какая разница – она давно умерла. У нее не было никаких оправданий: муж ее не обижал, обычный, скучный брак без детей, длившийся три года. Муж – приветливый добряк, старше ее на пятнадцать лет, с некрепким уже здоровьем. Никаких не было оправданий! И все-таки всего через месяц после первой встречи она и Уинтон стали любовниками не только в мыслях, но и на деле. Случай, настолько выходящий за рамки всех приличий и его собственных представлений о чести офицера и джентльмена, что он даже не пытался взвешивать доводы за и против – «против» составляли подавляющее большинство. И все-таки с первого же вечера он принадлежал ей, а она – ему. Ибо каждый теперь думал только обо одном: как сделать, чтобы быть вместе? Если на то пошло, то почему они куда-нибудь не уехали? Нельзя сказать, что он мало ее уговаривал. И если бы она пережила рождение Джип, то, скорее всего, так бы и случилось. Однако перспектива поломать жизнь сразу двум мужчинам была слишком тяжким бременем для столь мягкого сердца. Смерть избавила ее от мучительного выбора. Есть женщины, в ком беззаветная преданность уживается с душевными сомнениями. Такие обычно наиболее притягательны, потому что способность принимать решения быстро и жестко лишает женщину загадочности, тонкого обаяния изменчивости и непредсказуемости. Хотя в ее жилах текла всего одна четвертая часть иностранной крови, она совершенно не походила на англичанку. Зато Уинтон был до мозга костей англичанином в своем восприятии официальных границ с любопытной примесью отчаянной импульсивности, способной вдребезги разнести формальный подход в одной области жизни и беспрекословно следовать ему в других областях. Никому не приходило в голову называть Уинтона сумасбродом – его волосы всегда были тщательно расчесаны на пробор, сапоги начищены до блеска; он был суров и немногословен, разделял и соблюдал все каноны благовоспитанности. И все же единственное страстное увлечение отдалило его от привычного мира – будто какого-нибудь нищего длинноволосого индуса. В любое время в течение того года, когда они были близки, Уинтон был готов рискнуть жизнью и пожертвовать карьерой ради единственного дня, проведенного вместе, но ни разу ни словом, ни взглядом не скомпрометировал свою любимую. Он щепетильно, с убийственной скрупулезностью заботился о ее чести и даже согласился помогать ей заметать следы, когда стало ясно, что она ждет ребенка. Эта плата за азарт была самым смелым поступком его жизни; даже сейчас память саднила, как гноящаяся рана.
В эту самую комнату, обставленную по ее вкусу, он пришел, получив известие о ее смерти. Здесь по-прежнему стояли те же стулья из атласного дерева, маленький, изящный яковетинский комод, старые бронзовые подсвечники с абажуром, диван – все это и тогда, и сейчас выглядело для жилища холостяка излишней экзотикой. На столе в тот день лежало письмо с вызовом в полк для участия в военной кампании. Если бы он знал, что ему предстоит вынести в поисках смерти в далеких краях, то предпочел бы покончить с собой прямо в этом кресле перед камином, кресле, хранящем святую память о ней. Во время непродолжительной войны Уинтону не повезло найти смерть – те, кто безразлично относится к жизни и смерти, редко погибают в бою. Он добился наград и чинов. Когда война закончилась, Уинтон вернулся к прежней жизни – с лишними морщинами на лице и рубцами на сердце: нес службу, охотился на тигров и кабанов, играл в поло, пуще прежнего травил лисиц гончими, – все это не подавая виду, неизменно вызывая настороженное, неловкое восхищение, которое мужчины испытывают к дерзким смельчакам с ледяным темпераментом. Еще более замкнутый, чем большинство людей его склада, он никогда не болтал о женщинах, но и не слыл женоненавистником, хотя подчеркнуто избегал женской компании. После шести лет службы в Индии и Египте Уинтон потерял кисть правой руки в атаке на дервишей и был вынужден выйти в отставку в звании майора в возрасте тридцати четырех лет. Долгое время ему претила любая мысль о ребенке, рожая которого, умерла его любимая. Затем в душе произошла любопытная перемена. За три года до возвращения в Англию он завел привычку посылать домой в качестве игрушек всякую всячину, подвернувшуюся на базарах. В ответ регулярно – по меньшей мере два раза в год – приходили письма от человека, мнившего себя отцом Джип. Уинтон читал эти письма и отвечал на них. Помещик был приветлив и дорожил памятью о своей жене. И хотя Уинтону ни разу не приходило в голову пожалеть о содеянном, у него всегда сохранялось ярко выраженное ощущение вины за причиненное этому человеку зло. Он не чувствовал раскаяния, однако его преследовало докучливое сознание невыплаченного долга, пусть даже оно отчасти смягчалось мыслями о том, что его никто ни в чем не подозревает, а также памятью о страшной пытке, которую пришлось вынести, пока он не убедился в отсутствии подозрений.
Когда Уинтон – с грудью в орденах, но без правой руки – наконец вернулся в Англию, помещик пригласил его к себе. Бедняга быстро таял от хронического нефрита. Уинтон снова вступил в дом на Маунт-стрит, испытывая волнение, подавление которого потребовало от него больше мужества, чем любая кавалерийская атака. Однако, если у человека, по выражению самого Уинтона, с сердцем все в порядке, то не должен позволять своим нервам шалить, поэтому он смело вошел в комнаты, где видел ее в последний раз, и один на один отужинал с ее мужем, ничем не выдавая своих чувств. Маленькую Гиту, или Джип, как она себя называла, он не смог повидать – девочка уже спала. Прошел целый месяц, прежде чем он набрался храбрости прийти в дом девочки в такой час, когда мог ее увидеть. По правде говоря, ему было страшно. Какие чувства пробудит в нем вид этого маленького существа? Когда няня девочки Бетти подвела представить ребенка офицеру и джентльмену с «кожаной рукой», присылавшему ей забавные игрушки, Джип остановилась перед ним, спокойно разглядывая его огромными темно-карими глазами. Ей было семь лет, платьице из коричневого бархата едва доставало до колен, и из-под него торчали худые ножки в коричневых чулках. Девочка выставила одну ногу немного вперед, что делало ее похожей на маленькую коричневую птичку. Овальное личико с выражением сдержанного любопытства имело теплый кремовый оттенок без примеси розового цвета за исключением губ, не тонких и не полных, и крохотную ямочку на щеке. Волосы сочного каштанового цвета были аккуратно зачесаны назад и прихвачены тонкой красной лентой, освобождая широкий низковатый лобик, добавлявший девочке степенности. Остальное было идеальным: тонкие темные бровки, поднимавшиеся дужками, носик, маленький подбородок, чуть заостренный и округлый. Джип стояла и смотрела, пока Уинтон не улыбнулся. Только тогда серьезность дала трещину, губы девочки приоткрылись, глаза немного ожили. Сердце Уинтона опрокинулось: это была настоящая копия той, кого он потерял, – и он спросил, как ему показалось, дрожащим голосом:
– Ну что, Джип?
– Спасибо за игрушки. Они мне нравятся.
Он протянул руку, Джип с серьезным видом вложила в нее свою ладошку, и на Уинтона снизошла безмятежность, как будто кто-то просунул ему в грудь палец и успокоил трепещущее сердце. Осторожно, чтобы не испугать девочку, он приподнял ее ручку, наклонился и поцеловал. То ли потому, что он мгновенно угадал в ней тончайшую, почти недетскую восприимчивость, то ли из-за офицерской привычки относиться к своим подчиненным как к простодушным бойким детям, то ли по инстинктивному ощущению взаимного родства, с этой минуты Джип прониклась к гостю горячим восхищением и безудержной привязанностью, какая подчас возникает у ребенка к самому неожиданному человеку.
Уинтон обычно навещал ее с двух до пяти часов пополудни, когда помещик дремал после обеда. После времени, проведенного с Джип, прогулок в парке, катания верхом по Роттен-роу или посиделок в скучной детской в дождливые дни, где он рассказывал истории, которым толстушка Бетти завороженно внимала с подозрительным, недоверчивым видом на пухлом лице, после таких часов Уинтон с неохотой приходил в кабинет помещика и, сидя напротив него, курил сигару. Эти встречи один на один слишком сильно напоминали ему прежние дни, когда он держал себя в руках огромным усилием воли, – слишком сильно царапали душу законные права помещика, слишком тяжким грузом давил моральный долг. Однако Уинтон отгородился от предательских чувств тройной линией обороны. Помещик с готовностью принимал его у себя, ничего не замечал, ничего не подозревал и был только благодарен за проявления доброты в адрес дочери. И вот те на – весной следующего года скончался. Уинтон узнал, что назначен опекуном и душеприказчиком Джип. После смерти жены помещик запустил дела, хозяйство было заложено и перезаложено. Уинтон принял назначение с почти варварским удовлетворением и с этого момента начал строить планы, чтобы окончательно забрать девочку к себе. Дом на Маунт-стрит был продан, поместье в Линкольншире сдано в аренду. Девочку и ее няню Бетти поселили в охотничьем поместье в Милденхеме. Стремясь отрезать ее от родни помещика, Уинтон без зазрения совести пользовался своим умением напускать на себя неприступный вид. Сохраняя исключительную вежливость, своим ледяным тоном он держал всех на расстоянии. Майор был достаточно состоятелен, поэтому его побуждения не вызывали никаких подозрений. За год Уинтон отвадил от девочки всех, кроме дородной Бетти. Угрызения совести его не мучили. И он, и Джип скучали друг без друга. Все прошло гладко за исключением единственной получасовой сцены. Она разыгралась, когда Уинтон наконец решил, что девочке следует носить его фамилию – если не по закону, то хотя бы в Милденхеме. Марки первым получил наказ в будущем называть Джип маленькой мисс Уинтон. Когда Чарлз вернулся в тот день с охоты, в кабинете его ждала Бетти. Женщина стояла в самом центре свободного пространства затрапезной комнаты, стараясь ненароком не задеть какое-нибудь добро или имущество. Сколько она так простояла, одному богу известно, однако на ее круглом розовом лице шла борьба между почтением и решимостью, и она успела порядком измять свой белый фартук. Взгляд голубых глаз встретил Уинтона с отчаянным вызовом.
– Я насчет того, что мне сказал Марки, сэр. Моему старому хозяину это не понравилось бы, сэр.
Задетый за живое напоминанием о том, что в глазах света он никем не приходился своей любимой, а помещик, бывший для него пустым местом, считался для Бетти пупом земли, Уинтон ледяным тоном произнес:
– Не сомневаюсь. И все же вам придется выполнять мое распоряжение.
Лицо полной женщины побагровело. Она, боясь дышать, выпалила:
– Да, сэр. Я все видела своими глазами. Я никогда ничего никому не говорила, но я ведь не слепая. Если мисс Джип возьмет вашу фамилию, сэр, люди начнут чесать языками, и моя дорогая покойная хозяйка…
Наткнувшись на его взгляд, Бетти замолчала с разинутым ртом.
– Будьте добры, держите свои мысли при себе. Если хоть одно ваше слово или поступок даст повод для пересудов, я вас выгоню вон. Вы меня поняли? Я вас выгоню, и вы больше никогда не увидите Джип! А сейчас вы будете делать то, что я скажу. Джип моя приемная дочь.
Бетти всегда побаивалась нового хозяина, однако увидела такой взгляд и услышала такой тон впервые. Она наклонила круглое, как луна, лицо и вышла со слезами на глазах, скомкав фартук пуще прежнего. А Уинтон, стоя у окна, наблюдая за сгущающимися сумерками и гонимыми зюйд-вестом листьями, до дна осушил кубок горького торжества. Он не мог даже мечтать о правах на покойную, навеки любимую мать своей дочери. Но он был полон решимости сделать ребенка своим. Пойдут слухи? Ну и пусть! Вся его прежняя осмотрительность была в прах разбита, отцовский инстинкт одержал полную победу. Он смотрел в темноту прищуренными глазами.
Глава 2
Победив всех соперников, пытавшихся завладеть сердцем Джип, Уинтон столкнулся с новым оппонентом, чью силу по-настоящему осознал только теперь, когда дочь уехала, а он сам сидел перед огнем в грустных думах о прощании с ней и прошлым. Вряд ли столь решительная натура, как он, чью жизнь наполнял сабельный звон и конский топот, была способна понять, как много для девочки значила музыка. Музыка, как точно знал Уинтон, требовала разучивания гамм, детской песенки «Избушка в лесу» и прочих мелодий. Он сторонился этих звуков как черт ладана, и поэтому понятия не имел, с какой жадностью впитывала музыку Джип и как этот интерес подогревала в ней гувернантка. Он не замечал, с каким восторгом Джип внимала любым случайным звукам музыки, проникавшим в Милденхем, – святочным песенкам, псалмам и особенно «Ныне отпущаеши» в деревенской церкви, которую девочка посещала с досадной регулярностью, далеким трелям охотничьего рожка в мокрой лесной чащобе, даже насвистыванию Марки, очень, кстати, искусному и благозвучному.
Уинтон поддерживал любовь дочери к собакам и лошадям, озабоченно наблюдал, как она ловит шмелей и прикладывает кулачок к ушку, слушая их жужжание, потакал ее постоянным набегам на цветочные клумбы в старом саду, полном цветущей сирени и ракитника весной, гвоздик, роз и васильков летом, георгинов и подсолнухов осенью, вечно запущенном, заросшем, сжатым со всех сторон и теснимом более важными соседями – выгонами для лошадей. Снисходительно относился к ее попыткам увлечь его пением птиц, но ему было просто не дано понять, до какой степени дочь любила музыку и тянулась к ней. Джип была загадочным маленьким созданием, частые перемены настроения делали ее похожей на ее любимицу, коричневую самку спаниеля, то резвую, как бабочка, то мрачную, как ночь. Малейшая резкость заставляла маленькое сердце Джип сжиматься от страха. В ней странным образом сочетались гордость и заниженная самооценка. Эти два качества настолько перемешались, что ни сама Джип, ни кто-либо другой не знали, какое из них было виновником приступов хандры. Будучи очень впечатлительной, она много чего сочиняла. Действия в ее отношении, лишенные всякого злого умысла, представлялись ей убедительным доказательством, что ее никто не любит, а еще – страшной несправедливостью, потому что она сама хотела любить всех, ну или почти всех. Настроение через минуту менялось, и она думала: «Меня не любят? Ну и пусть! Мне ни от кого ничего не надо!» Вскоре все ее обиды таяли, как туман на ветру, и она снова любила и резвилась, пока что-нибудь, совершенно не предназначенное ее ранить, опять не вызывало у нее жуткую обиду. Надо сказать, что в доме все ее любили и души в ней не чаяли. Джип, однако, была одним из тех нежных созданий, что рождаются со слишком тонкой кожей и особенно в детстве страдают от этого в мире, нарастившем слишком толстую шкуру.
К величайшей радости Уинтона, Джип чувствовала себя в седле как рыба в воде и совершенно не боялась ездить верхом. За ней присматривала лучшая гувернантка, которую Уинтон смог найти, дочь адмирала-кутилы, нуждавшаяся в заработке. Позднее из Лондона два раза в неделю стал приезжать желчный учитель музыки, втайне обожавший Джип больше, чем она обожала его. По правде говоря, любое существо мужского пола хотя бы немножко в нее влюблялось. В отличие от большинства девочек Джип никогда не была неуклюжей дурнушкой и росла, как цветок – равномерно и степенно. Уинтон нередко смотрел на нее, как в опьянении: поворот головы, «порхание» прекрасных чистых карих глаз, прямая линия округлой шеи, форма рук и ног – все это остро напоминало ему ту, кого он так любил. Однако, несмотря на сходство с матерью, дочь отличалась от нее и внешностью, и характером. В Джип сильнее чувствовалась порода: точеная фигура была эффектнее, душа тоньше, поза увереннее, в ней было больше грации. Настроения Джип менялись чаще, ум отличался большей ясностью, а в милом характере проскальзывала отчетливая острая нотка скептицизма, чуждого ее матери.
В нынешние времена нет больше заводил, иначе Джип легко стала бы ею в компании обоих полов. Несмотря на изящное телосложение, Джип не выглядела хрупкой и в охотку могла «гонять лис» весь день, вернуться домой уставшей донельзя и рухнуть на шкуру тигра перед камином, чтобы не подниматься по лестнице. Жизнь в Милденхеме протекала в уединении за исключением визитов товарищей Уинтона по охоте, да и то немногих – его духовный снобизм не нравился простоватым сельским помещикам, а женщин отпугивала его ледяная вежливость.
И все-таки, как и предсказывала Бетти, поползли слухи – постылые деревенские слухи, скрашивавшие скуку унылого прозябания и унылых мыслей. Хотя до ушей Уилтона не доходили даже отголоски сплетен, в Милденхем не казала нос ни одна женщина. Если не брать в расчет случайные дружеские встречи на паперти, на охоте или местных скачках, Джип росла, не имея знакомых среди лиц своего пола. Этот дефицит общения приучил ее к замкнутости, затормозил понимание отношений между полами, стоял за ее легким, безотчетным презрением к мужчинам, извечным невольникам ее улыбок, так легко впадавшим в беспокойство, стоило ей нахмурить брови, и за скрытой тоской по женской компании. Любая девушка и женщина, с которой ей доводилось встретиться, немедленно в нее влюблялась, потому что Джип была с ними добра, что делало мимолетность таких знакомств еще более мучительной. Джип совершенно не умела ревновать или злословить. Мужчины должны таких остерегаться – в ревности таится загадочное очарование!
Уинтон уделял мало внимания нравственному и духовному развитию Джип. Об этом предмете он не любил говорить вслух. Внешние условности вроде посещения церкви соблюдались, манерам девочке надлежало учиться как можно больше на его примере, а об остальном пусть позаботится природа. Его подход был не лишен здравого смысла. Джип быстро и жадно читала, но плохо запоминала прочитанное. Хотя вскоре она проглотила все книги скудной библиотеки Уинтона, в том числе Байрона, Уайт-Мелвилла и «Космос» Гумбольдта, они не оставили заметного следа в ее сознании. Попытки щуплой гувернантки привить ей увлечение религией засохли на корню, а знаки внимания приходского священника Джип со свойственным ей скептицизмом отнесла к категории обычного мужского интереса. Ей показалось, что святому отцу очень уж понравилось называть ее «милая моя» и похлопывать по плечу, видя в этом награду за пастырскую заботу.
Из-за уединения в маленьком темном помещичьем доме, где ремонта не требовали только конюшни, в трех часах от Лондона и в тридцати милях от залива Уош, воспитанию Джип, надо признать, недоставало духа современности. Раза два в год Уинтон брал ее с собой в город погостить на Керзон-стрит у своей незамужней сестры Розамунды. По крайней мере за эти недели у Джип развился природный вкус к красивым платьям, стали крепче зубы и появилась страсть к музыке и театру. Однако главная духовная пища современных юных дам – игры и разговоры – была ей совершенно недоступна. Более того, годы ее жизни с пятнадцати- до девятнадцатилетнего возраста пришлись на период, когда социальный подъем 1906 года еще не начался и весь мир пребывал в спячке, как ленивая муха на оконном стекле в зимнюю пору. Уинтон был тори, тетка Розамунда – тоже, так что Джип со всех сторон окружали одни тори. Единственное влияние на ее духовный рост в девичестве оказывала безоглядная любовь к отцу. Да и что еще могло повлиять на ее развитие? Душа плодоносит только в присутствии любви. Чувство меры, в высшей степени развитое у них обоих, не позволяло проявлять любовь слишком открыто. Но возможность быть с отцом, что-то делать для него, восхищаться им и – так как она не могла носить такую же одежду и говорить такими же рублеными, спокойными, решительными фразами, как он, – презирать наряды и манеру речи других мужчин была для нее драгоценнее всех сокровищ мира. Однако, унаследовав отцовскую разборчивость, она в то же время переняла его наклонность все ставить на одну карту. Так как по-настоящему отец был счастлив только в ее обществе, сердце Джип постоянно купалось в любви. Хотя она этого не сознавала, страстно любить кого-нибудь было для нее такой же потребностью, как вода для цветка, а быть любимой кем-нибудь – как свет солнца для его лепестков, поэтому довольно частые поездки Уинтона в город, в Ньюмаркет или куда-нибудь еще вызывали падение барометра в ее душе. По мере приближения даты возвращения отца тучи рассеивались.
Кое в чем ее воспитание все же преуспело – в чувстве сострадания к соседям-беднякам. Уинтон никогда не интересовался проблемами социологии, и тем не менее от природы имел щедрые сердце и руку и терпеть не мог вмешательства в чужие дела, поэтому Джип, сама по себе никогда не приходившая в гости без приглашения, постоянно слышала: «Заходите, мисс Джип», «Заходите, присядьте, дорогуша», а также множество других приятных слов даже от самых неотесанных и несносных субъектов. Ничто не смягчает сердце простого люда больше, чем приятное милое личико и сочувствие к жалобам.
Так прошло одиннадцать лет, пока Джип не исполнилось девятнадцать, а Уинтону – сорок шесть. В этом возрасте она под надзором гувернантки приехала на охотничий бал. Джип претило отношение к ней как к пушистому цыпленку: она хотела, чтобы ее с самого начала считали полностью оперившейся, поэтому на ней было идеально сидящее платье не белого, как у дебютантки, а теплого желтоватого цвета. Она унаследовала отцовскую франтоватость и старалась еще больше подчеркнуть ее в пределах, дозволенных лицам ее пола. Черные волосы, чудесным образом взбитые и уложенные, завитки на лбу, впервые обнаженная шея, «порхающий» взгляд и при этом исключительно невозмутимая осанка, как если бы она владела этими огнями, завистливыми взглядами, вкрадчивыми речами и восхищением по праву рождения. Джип была прекраснее, чем Уинтон ожидал в самых смелых мечтах. Она прикрепила на грудь пару веточек гельземия, привезенного отцом из города, аромат которого очень ей нравился. Уинтон никогда не видел, чтобы кто-нибудь носил этот цветок на балу. Дочь, гибкая, тонкая, порозовевшая от радостного волнения, каждым жестом, каждым взглядом напоминала ему ту, кого он впервые встретил на таком же празднике. Посадка головы, закрученные вверх усики сообщали о его гордости всему миру.
Памятный вечер принес Джип разнообразные переживания: несколько дивных, один момент недоумения и еще один – неприятный. Она упивалась своим успехом. Ей нравилось всеобщее обожание. Она с азартом и удовольствием кружила в танце, наслаждаясь ощущением, что умеет хорошо танцевать сама и доставлять удовольствие партнерам. Проникнувшись состраданием к маленькой гувернантке, в одиночестве сидевшей у стены – никто даже не посмотрел на уже немолодую полноватую бедняжку! – Джип отказала кавалерам два раза подряд и, к ужасу своей верной спутницы, оба танца просидела рядом с ней. На ужин отказалась идти с кем-либо, кроме Уинтона. Возвращаясь в бальный зал под руку с отцом, Джип услышала слова какой-то женщины: «Ах, вы не знали? Он и есть ее настоящий отец!» Какой-то старик ответил: «А-а, тогда все понятно!» У чувствительных натур глаза имеются даже на затылке, поэтому Джип спиной ощутила любопытные холодные ехидные взгляды и сразу поняла, что речь идет о ней. Тут ее вызвал на танец новый кавалер.
«Он и есть ее настоящий отец!» В этих словах заключалось слишком много смысла, чтобы полностью осознать его в такой богатый впечатлениями вечер. Слова эти оставили небольшую рану в неопределенном месте, но рану неглубокую и неопасную, скорее похожую на притаившуюся на задворках сознания растерянность. Вскоре все затмило новое острое чувство разочарования. Оно постигло Джип после превосходного танца с красивым мужчиной раза в два старше ее. Они присели за пальмами, он в мягких изысканных выражениях выразил восхищение ее платьем и вдруг, наклонив раскрасневшееся лицо, поцеловал ее в плечо. Ударь он ее, Джип была бы меньше потрясена и задета. В своей невинности она решила, что спровоцировала его какой-нибудь глупой фразой, иначе он бы не осмелился так поступить. Ни слова не говоря, она встала, смерила его потемневшими от обиды глазами, передернула плечами и бросилась напрямик к отцу. По ее застывшему лицу, плотно сжатым губам и чуть опущенным уголкам рта Уинтон сразу понял: случилась какая-то беда, но Джип, однако, ничего не рассказала, лишь пожаловалась на усталость и попросила вернуться домой. Они выехали все вместе морозной ночью; маленькая гувернантка, вынужденно промолчавшая весь вечер, теперь без умолку тараторила. Уинтон сидел рядом с шофером в низко надвинутой круглой меховой шапке и с поднятым меховым воротником, сердито дымил и буравил взглядом темноту. Кто посмел обидеть его любимицу? В салоне тихо журчала речь гувернантки. Джип, занавесив лицо кружевной вуалью и забившись в темный угол, молчала: перед глазами у нее стояла сцена оскорбления. Какое грустное окончание такого веселого вечера!
Она много часов пролежала без сна, пока в уме не возникла связная картина. Эти слова: «Он и есть ее настоящий отец!» – и мужчина, поцеловавший ее обнаженную руку, приоткрыли завесу над загадкой сексуальных отношений, укрепили вывод, что в истории ее жизни заключалась какая-то тайна. Столь чувствительный ребенок, как Джип, разумеется, не мог не почуять иногда дувший в ее окружении сквознячок морального осуждения, но она инстинктивно отмахивалась от подробностей. Джип смутно помнила время до появления Уинтона – Бетти, игрушки, нечеткий образ доброго, слабого здоровьем мужчины, кого она называла папой. В этом слове не было той глубины, как в слове «отец», закрепленном за Уинтоном, а следовательно, не было глубины и в ее чувствах к покойному. Когда девочка не помнит свою мать, как много сокрыто тьмой! О матери, кроме Бетти, ей никто ничего не рассказывал. В ассоциациях со словом «мать» для Джип не было ничего святого, никакие открытия не могли разрушить несуществующую веру. Выросшая без подруг, Джип плохо разбиралась даже в условностях. И все-таки, лежа в темноте, она ужасно страдала – от замешательства и ощущения не столько сокрушительного удара в сердце, сколько засевшей под кожей занозы. Сознание, что над ней нависло нечто привлекающее внимание, сомнительное, чреватое, как она считала, оскорблением, больно ранило ее чувствительную душу. Эти несколько бессонных часов оставили неизгладимый след. Джип, все еще теряясь в догадках, наконец заснула, а пробудилась, одержимая желанием узнать правду. В то утро она сидела за пианино: играла, отказываясь выходить из комнаты, – и была настолько холодна с Бетти и гувернанткой, что первая нашла прибежище в слезах, а вторая – в стихах Вордсворта. После чаепития Джип пришла в рабочий кабинет Уинтона, маленькое неопрятное помещение, где он никогда ни над чем не работал, с кожаными креслами и собранием книг, которые он за исключением «Мистера Джоррокса» Сертиса, Байрона, книг по уходу за лошадьми и романов Уайт-Мелвилла никогда не читал, с гравюрами лошадиных знаменитостей, своей саблей и фотографиями Джип и полковых товарищей на стенах. Во всей комнате глаз радовали только два ярких пятна – огонь в камине да вазочка, в которую Джип всегда ставила свежие цветы.
Когда она проскользнула в кабинет – стройная, лишенная угловатости фигурка, овальное лицо цвета сливок, темные глаза, нахмуренные брови, – Уинтону почудилось, что дочь в один миг повзрослела. Он весь день предчувствовал какую-то беду и перекапывал свои мысли до изнеможения. От избытка любви к Джип он теперь чувствовал тревогу, граничащую со страхом. Что могло случиться вчера вечером, во время ее первого выхода в свет, в обществе, повсюду сующем свой нос и всем перемывающем кости? Джип плавно опустилась на пол, прильнув к его колену. Уинтон не видел ее лица и даже не мог к ней прикоснуться, потому что она сидела с правой стороны. Уняв дрожь в сердце, он спросил:
– Что, Джип, утомилась?
– Нет.
– Нисколечко?
– Нет.
– Вчерашний вечер оправдал твои ожидания?
– Да.
В камине шипели и потрескивали дрова. Тяга ерошила длинные языки пламени. За окном завывал ветер. И вдруг она задала вопрос, от которого у него перехватило дыхание:
– Скажи, ты и вправду мой настоящий отец?
Когда давно ожидаемое событие наконец происходит, человек нередко бывает к нему не готов. За несколько секунд до ответа, от которого нельзя было уклониться, в уме Уинтона пронесся целый вихрь мыслей. Менее решительная натура впала бы в ступор и поспешно выпалила «да» или «нет», но Уинтон никогда не терял голову. Он не отвечал, пока не взвесил все последствия. Сознание, что Джип его дочь, согревало душу Уинтона всю жизнь, но если открыться, как сильно это ранит ее чувства к нему? Сколько ей уже известно? Что она подумает о покойной матери? А как восприняла бы это его любимая? Что решила бы на его месте?
Какой жестокий момент! Дочь спрятала лицо в его колени и ничем ему не помогала. Теперь, когда в ней пробудилось инстинктивное желание знать правду, от нее больше нельзя ничего скрывать! Молчание и то стало бы ответом. И, вцепившись в подлокотники кресла, он сказал:
– Да, Джип, твоя мать и я – мы любили друг друга.
Он почувствовал, как по телу дочери пробежала дрожь, и многое бы дал, чтобы увидеть сейчас ее лицо. Насколько она все поняла даже теперь? Ничего не поделаешь: надо доводить дело до конца, – и он продолжил:
– Что тебя заставило спросить об этом?
Джип покачала головой и пробормотала:
– Я рада.
Огорчение, шок, даже изумление Джип пробудили бы в нем чувство верности покойной, застарелую упрямую горечь, и он бы просто отгородился от дочери ледяной стеной, но два слова, произнесенных кротким шепотом, вызвали у него желание смягчить обстановку.
– Никто так и не узнал. Она умерла во время родов. Меня постигло ужасное горе. Если ты что-то слышала, это не более чем сплетни, ведь ты носишь мою фамилию. О твоей матери никто никогда не сказал ни единого дурного слова. Но теперь ты взрослая, и лучше, если будешь знать правду. Люди редко любят друг друга так сильно, как любили мы. Тебе нечего стыдиться.
Джип не сдвинулась с места, не повернулась к нему, только тихо произнесла:
– Я не стыжусь. Я на нее очень похожа?
– Да. Больше, чем я смел надеяться.
Совсем тихо Джип спросила:
– Значит, ты любишь меня не из-за меня самой?
Уинтон смутно догадывался, что в этом вопросе раскрывается ее душа, ее способность интуитивно проникать в суть вещей, обостренное чувство гордости и настоятельная потребность в безраздельной любви. Столкнувшись со столь глубокими эмоциями, человеку ничего не остается, как спрятаться за частоколом непонятливости. Уинтон, улыбнувшись, попросту сказал:
– А ты как думаешь?
К своему ужасу, он увидел, что Джип изо всех сил пытается подавить рыдания, отчего вздрагивают ее прижатые к отцовским коленям плечи. Он практически никогда не видел ее плачущей, несмотря на все злоключения беспокойной юности, а уж ушибов и падений ей пришлось пережить немало. Он ничего не смог придумать, кроме как погладить дочь по плечу и сказать:
– Не плачь, Джип. Не плачь.
Она прекратила плакать так же внезапно, как начала, встала и, прежде чем он сам успел подняться, вышла из кабинета.
Вечером за ужином Джип вела себя как обычно. Уинтон не обнаружил в ее голосе, поведении или поцелуе на ночь ни малейшей разницы. Момент, наступления которого он боялся многие годы, миновал, оставив после себя лишь легкое ощущение стыда, какое приходит после нарушения обета молчания людьми, почитающими молчание превыше всего. Старая тайна пока не выходила наружу, его не беспокоила, но теперь, став известной, причиняла страдания. Джип за последние двадцать четыре часа окончательно распрощалась с детством, стала жестче относиться к мужчинам. Если их не заставлять чуть-чуть мучиться, они будут мучить ее! В ней проснулся инстинкт своего пола. Она продолжала демонстрировать Уинтону любовь, и, может быть, делала это даже чуть больше, чем прежде, однако розовые очки упали с ее глаз.
Глава 3
На протяжении следующих двух лет уединения было меньше, а увеселений, пусть и не особенно регулярных, больше. Признание побудило Уинтона заняться укреплением положения дочери. Он не допускал кривотолков и никому не позволял смотреть на нее искоса. Умение противопоставить себя свету считалось неплохим «фасоном», однако такое поведение не допускало фальши. В Милденхеме или Лондоне, под крылышком сестры, с этим не возникало трудностей. Джип была слишком прелестна, Уинтон слишком холоден и слишком устрашал своей неразговорчивостью. Джип имела на руках все козыри. Единым фронтом общество выступает только против слабых.
Самое счастливое время в жизни девушки наступает, когда все ее ценят, все ее вожделеют, а сама она свободна как ветер, повелевает сердцами, не снисходя ни к одному из них. И даже если это время не самое счастливое, то уж наверняка самое веселое и богатое событиями. Какое дело было Джип до сердец воздыхателей? Она еще не познала любви, и муки неразделенной страсти обходили ее стороной. Опьяненная жизнью, Джип пустилась в веселую кадриль со множеством поклонников, довольно виртуозно ими помыкая. Она вовсе не стремилась делать их несчастными – просто не воспринимала всерьез. Ни одна девушка не была столь свободна сердцем. В эти дни Джип представляла собой необычную микстуру: с легкостью отказывалась от удовольствий ради Уинтона, Бетти и тети – маленькая гувернантка уволилась, – но, казалось, кроме них, ни с кем не считалась, принимая все, что возлагали к ее стопам, как дань своей внешности, элегантным платьям, музицированию, умению ездить верхом и танцевать, успехам на любительской сцене и лицедейству. Уинтон, которого она никогда не подводила, наблюдал за этим славным порханием с удовлетворением и тихой гордостью. Он приближался к тому возрасту, в каком человек действия больше не желает покидать наезженную колею своих занятий. Уинтон ездил на охоту, скачки, играл в карты и незаметно помогал деньгами и услугами своим бывшим менее везучим сослуживцам, их семьям и другим бедолагам в счастливом сознании, что Джип всегда рада быть с ним не меньше, чем он – с ней. А еще его потихоньку начинала донимать наследственная подагра.
Наступил день, когда Джип достигла юридической зрелости. Отец позвал ее в комнату, где, сидя у огня, представил отчет об управлении ее делами. Он лелеял и пестовал опутанное долгами наследство дочери, пока оно не достигло двадцати тысяч фунтов. Уинтон никогда прежде не рассказывал о нем Джип – эту тему было опасно затрагивать, – к тому же его собственных средств вполне хватало, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Пока он подробно объяснял, сколько у нее денег, показывал, куда они вложены, и советовал открыть свой собственный счет в банке, Джип стояла и с растущей озабоченностью смотрела на бумаги, назначение которых ей полагалось понимать. Не поднимая взгляда, она спросила:
– И это все… осталось от него?
Уинтон не ожидал услышать такой вопрос и покраснел под слоем загара:
– Нет. Восемь тысяч принадлежало твоей матери.
Джип взглянула на него и сказала:
– Тогда я не хочу брать остальное. Прошу тебя, отец!
Уинтон ощутил терпкое удовлетворение. Он еще не успел подумать, что сделает с деньгами, если Джип откажется их взять, но отказ был очень в ее духе: этот жест, как ничто другое, показал, что Джип – его родная кровь, и как бы окончательно закрепил его победу. Уинтон отвернулся к окну, у которого так много раз ждал прихода ее матери. Вот угол дома, который она всегда огибала. Казалось, пройдет минута, и она вновь появится в предвкушении объятий: щеки раскраснелись, из-под вуали смотрят ласковые глаза, грудь вздымается от спешки, – остановится, поднимет вуаль. Уинтон повернулся к дочери. Трудно поверить, что это не она!
– Хорошо, любовь моя, – сказал он. – Тогда прими такую же сумму от меня. А остальные деньги можно вложить куда-нибудь еще. Кому-то в будущем здорово повезет!
Непривычные слова «любовь моя», вырвавшиеся у всегда сдержанного отца, вызвали румянец на щеках и блеск в глазах Джип. Она бросилась ему на шею.
В те дни она много занималась музыкой: брала уроки игры на фортепиано у месье Армо, седовласого уроженца Льежа со щеками цвета красного дерева, немного похожего на ангела. Учитель не давал ей спуску и называл девушку «мой маленький друг». В Лондоне не проходило ни одного важного концерта, на котором бы Джип не побывала, ни одного выступления известного музыканта, которое она бы не посетила. И хотя утонченность манер не позволяла ей пищать от восхищения у ног талантливых исполнителей, всех их, и мужчин, и женщин, она возводила на пьедестал, а иногда даже встречала в доме тети на Керзон-стрит.
Тетка Розамунда, тоже любившая музыку, насколько позволяла ее «порода», часто поддерживала Джип, а та из нескольких слов, оброненных тетей, сочинила романтическую историю ее любви, погубленной гордыней. Розамунда – высокая, красивая, с продолговатым аристократическим лицом, яркими синими глазами, благородной душой, добрым сердцем и неподражаемой, мелодичной манерой речи, выдававшей в ее обладательнице непоколебимое сознание заслуженности своего положения, – была всего годом старше Уинтона. Тетя, в свою очередь, души не чаяла в Джип и всегда держала при себе любые, даже достоверные мысли относительно их родства. Опять же, насколько позволяло происхождение, Розамунда была гуманисткой и бунтаркой, любила лошадей и собак и терпеть не могла котов, правда, только двуногих. Ее племянница отличалась душевной мягкостью, особенно умиляющей тот тип женщин, кому лучше было бы родиться мужчинами. Розамунду, однако, нельзя было назвать воинственной натурой: скорее она обладала порывистостью, словно говорившей: «Если сможешь, попробуй за мной угнаться», которая так часто встречается у англичанок, принадлежащих к высшим слоям общества. Жизнерадостная, любившая длинные платья и безрукавки, ценные бумаги и трость с загнутой ручкой, она, как и брат, отличалась «фасоном», но обладала более развитым чувством юмора – очень ценным качеством в музыкальных кругах. В доме своей тети Джип была фактически обречена наблюдать и смешные выходки, и серьезные достоинства всех этих дарований с растрепанными волосами, до краев наполненных музыкой и спесью. Джип от природы отличало острое чутье на нелепое и смешное, поэтому они с тетей редко беседовали о чем-либо, не покатываясь со смеху.
Первый действительно скверный приступ подагры настиг Уинтона, когда Джип исполнилось двадцать два года. Испугавшись потерять к началу охотничьего сезона способность сидеть в седле, майор поехал с дочерью и Марки в Висбаден. Они сняли номера на Вильгельмштрассе с видом на сад, в котором листва уже превращалась в роскошное сентябрьское золото. Лечение шло долго и муторно, Уинтон отчаянно скучал. Джип проводила время намного веселее. В сопровождении молчаливого Марки она ежедневно совершала конные прогулки на гору Нероберг, негодуя по поводу правил, разрешавших пользоваться в этом божественном лесу со сверкающими медью буками только специально отведенными маршрутами. Один-два раза в день она посещала концерты в курзале – или в одиночку, или с отцом.
Когда Джип впервые услышала игру Фьорсена, отца рядом не было. В отличие от большинства скрипачей этот был высок и худ, с гибкой фигурой и быстрыми свободными движениями. Бледное лицо удивительно хорошо гармонировало с копной волос и усами цвета тусклого золота. На впалых щеках с широкими высокими скулами виднелись узкие лоскутки бакенбардов. Баки не впечатлили Джип, да и весь он ее не впечатлил, однако игра Фьорсена загадочным образом взволновала и захватила юное сердце. Скрипач, несомненно, обладал замечательной техникой. Она облекала взволнованный, своенравный порыв его игры в чеканную форму, в лепесток пламени, скованный льдом. Когда Фьорсен закончил выступление, Джип не присоединилась к шквалу аплодисментов, но сидела без движения, не сводя с него глаз. Ни капли не тронутый восторгом толпы, музыкант провел тыльной стороной ладони по лбу, откидывая необычного цвета пряди, довольно равнодушно улыбнулся и отвесил пару легких поклонов. Джип подумала: «Какие у него странные глаза! Как у леопарда или тигра – зеленые, свирепые и в то же время робкие и вороватые. Невозможно оторваться!» Такого мужчину – странного и пугающего – она еще не видела. Он, казалось, смотрел прямо на нее. Опустив глаза, Джип захлопала, а когда вновь подняла взгляд, улыбка на лице Фьорсена сменилась задумчивым, грустным выражением. Он еще раз легко поклонился – как показалось Джип, ей одной – и рывком поднес скрипку к плечу. «Он сейчас сыграет для меня», – мелькнула нелепая мысль. Фьорсен без аккомпанемента исполнил щемящую сердце короткую пьесу. Когда он закончил, Джип больше не смотрела на него, но от ее внимания не укрылся момент, когда он с небрежным поклоном покинул сцену.
В тот вечер за ужином она сказала Уинтону:
– Я слушала сегодня одного скрипача. Прекрасный исполнитель, его зовут Густав Фьорсен. Швед, наверно, как ты думаешь?
Уинтон ответил:
– Скорее всего. Есть на что посмотреть? Знавал я одного шведа в турецкой армии, славный был малый.
– Высокий, худой, бледное лицо, выступающие скулы, щеки впалые, странные зеленые глаза. Ах да, еще маленькие золотистые бакенбарды.
– Боже милостивый, это уже перебор!
Джип с улыбкой пробормотала:
– Да, пожалуй, ты прав.
На следующий день она увидела Фьорсена в саду. Джип с отцом сидела рядом с памятником Шиллеру. Уинтон читал «Таймс»: получения газеты он ждал с большим нетерпением, чем готов был признать, но не хотел жаловаться на скуку, чтобы не мешать удовольствию дочери, которое та явно получала от поездки. Читая обычные, приятные сердцу обличения поведения «этих каналий радикалов», недавно пришедших к власти, и отчет о встрече в Ньюмаркете, он украдкой поглядывал на Джип.
Вряд ли можно найти создание прелестнее, изящнее и породистее, чем она, среди голенастых немок и прочей неотесанной шушеры в этом богом забытом месте. Девушка, не замечая, что за ней подсматривают, поочередно останавливала взгляд на каждом, кто проходил мимо, на птицах и собаках, на газоне с бликами солнечного света, начищенной меди буковой листвы, липах и высоких тополях у воды. Врач, вызванный в Милденхем, когда у нее разыгралась мигрень, назвал ее глаза идеальным органом зрения и был прав – никто другой не умел так быстро и с такой полнотой охватить взглядом свое окружение. Собаки любили ее, то и дело одна из них останавливалась, в нерешительности размышляя, не ткнуться ли носом в ладонь девушки-иностранки. Перекинувшись игривыми взглядами с догом, Джип подняла глаза и вдруг увидела Фьорсена, проходившего мимо в сопровождении низкорослого квадратного человечка в брюках по последней моде и корсете. Высокая сухопарая долговязая фигура скрипача была облачена в застегнутый на все пуговицы сюртук коричневато-серого цвета. На голове – серая мягкая широкополая шляпа; в петлице – белый цветок; на ногах – лакированные сапоги с матерчатыми отворотами; на фоне белой мягкой льняной рубашки пузырится галстук-пластрон. Франт – ни дать ни взять! Странные глаза Фьорсена встретились со взглядом девушки, и он приложил руку к шляпе.
«Смотри-ка, он меня запомнил», – подумала Джип. Фигура с тонкой талией и немного выдвинутой вперед головой на довольно высоких плечах в сочетании с вольной походкой поразительно напоминала леопарда или какого-нибудь другого грациозного зверя. Фьорсен тронул спутника за плечо, что-то пробормотал, развернулся и пошел назад. Джип увидела, что он смотрит в ее строну, и вдруг поняла: скрипач вернулся с единственной целью – посмотреть на нее еще раз. Однако она помнила, что за ней наблюдает отец. Можно было не сомневаться, что зеленые глаза не выдержат взгляд Уинтона, англичанина, принадлежащего к тому сословию, что никогда не снисходит до любопытства. Фьорсен с приятелем продефилировали мимо. Джип заметила, как Фьорсен повернулся к спутнику и слегка кивнул в ее сторону. Коротышка засмеялся, и в груди Джип полыхнуло пламя.
– Каких только павлинов здесь не увидишь! – заметил Уинтон.
– Это тот самый скрипач, о котором я тебе рассказывала. Фьорсен.
– О! Ну-ну…
Майор явно забыл о прежнем разговоре.
Мысль, что Фьорсен выделил ее среди множества зрителей, слегка щекотала самолюбие Джип. Рябь в душе улеглась. Хотя отцу не понравился наряд скрипача, он вполне ему подходил. Вряд ли Фьорсен выглядел бы уместно в английском платье. За два последующиех дня Джип увидела квадратного коротышку, молодого человека, гулявшего с Фьорсеном, всего лишь раз и почувствовала, как тот провожает ее взглядом.
Потом баронесса фон Майзен, космополитка и приятельница тетки Розамунды, немка по мужу, наполовину голландка, наполовину француженка по рождению, спросила Джип, слушала ли она игру шведского скрипача Фьорсена.
– Он мог бы стать лучшим скрипачом современности, если бы только не… – Баронесса замолчала на полуслове и покачала головой, но увидев, что многозначительная пауза не произвела эффекта, закончила свою мысль: – Ох уж эти музыканты! Ему надо спасаться от самого себя. Если не остановится – пропадет. А жаль! Большой талант!
Джип окинула баронессу твердым взглядом и спросила:
– Он что, пьет?
– Pas mal![2] Увы, есть вещи похуже выпивки, ma chere[3].
Интуиция и воспитание в доме Уинтона приучили Джип скрывать смущение. Она не стремилась к познанию изнанки жизни, но и не шарахалась от нее, не терялась при ее виде. Баронесса, для кого невинность имела пикантный привкус, продолжила:
– Des femmes – toujours des femmes! C’est grand dommage[4]. Они его испортят. Ему нужно найти себе единственную, но ей не позавидуешь. Sapristi, quelle vie pour elle![5]
Джип спокойно спросила:
– Разве такой мужчина способен любить?
Баронесса выпучила глаза.
– Я видела, как один такой мужчина превратился в раба. Бегал за женщиной, как ягненок, а она изменяла ему направо и налево. On ne peut jamais dire. Ma belle, il y a des choses que vous ne savez pas encore[6]. – Она взяла Джип за руку. – И все-таки кое-что можно утверждать безо всяких сомнений. С вашими глазами, губами и фигурой вас ждет великое будущее!
Джип отняла руку, улыбнулась и покачала головой – она не верила в любовь.
– Ах! Вы многим вскружите голову! Смелее, как говорят у вас в Англии. В этих прекрасных карих глазах притаился рок!
Девушке простительно с удовольствием выслушивать такую лесть. Слова баронессы согрели душу Джип, ощущавшей в эти дни безотчетную раскованность, точно так же согревали ее взгляды людей, оборачивавшихся, чтобы повнимательнее ее рассмотреть. Нежный воздух, мягкая атмосфера веселого курорта, обилие музыки, ощущение, что она rara avis[7] среди тех, чья неуклюжесть лишний раз оттеняет ее достоинства, вызвали у нее нечто похожее на опьянение, то, что баронесса назвала «un peu folle»[8]. Джип в любую минуту была готова смеяться, ее не покидало великолепное ощущение, будто она способна вертеть всем миром как ей угодно, так редко возникающее у чувствительных натур. Все вокруг было «забавным» и «чудесным». А баронесса, видя бесподобную красоту Джип, испытывая к ней искреннюю симпатию, знакомила ее со всеми интересными людьми, возможно, иногда перегибая палку.
Женщин и людей искусства всегда связывает определенное родство душ, любопытство для них очень острое чувство. Кроме того, чем больше у мужчины побед, тем более ценным призом выглядит он в глазах женщины. Увлечь мужчину, соблазнившего в прошлом немало женщин, – разве это не доказательство превосходства твоих чар перед чарами других? Слова баронессы утвердили в сознании Джип мысль о Фьорсене как о невозможном человеке, но в то же время усилили легкую радость от того, что он выделил и запомнил ее среди других. Позже слова баронессы принесут более серьезные плоды. Однако сначала произошел странный эпизод с цветами.
Через неделю после сцены у памятника Шиллеру, вернувшись с верховой прогулки, Джип обнаружила на туалетном столике букет роз «Глуар де Дижон» и «Ля Франс». Зарывшись в них лицом, она подумала: «Какие славные! Кто их прислал?» Букет доставили без карточки. Горничная-немка смогла лишь рассказать, что букет для «фрейлейн Винтон» принес мальчик из цветочного магазина. Было решено, что цветы прислала баронесса. На ужин и на концерт после ужина Джип прицепила к корсажу одну «француженку» и одну «дижонку» – смелая комбинация розового и оранжевого на фоне перламутрово-серого платья доставила любительнице экспериментировать с разными оттенками цвета огромное удовольствие. Они не стали покупать программку – для Уинтона все музыка звучала на один манер, а Джип знала репертуар наизусть. При виде выходящего на сцену Фьорсена щеки Джип зарделись от предвкушения.
Скрипач сначала исполнил менуэт Моцарта, затем сонату Сезара Франка, а когда вышел для последнего поклона, держал в руках «дижонку» и «француженку». Джип невольно вскинула руку, чтобы проверить, на месте ли ее розы. Фьорсен встретился с ней взглядом и поклонился чуть ниже обычного. Прежде чем покинуть сцену, он непринужденно приложил розы к губам. Джип отдернула руку от цветов, словно ее ужалила пчела. В голове мелькнула мысль: «Я веду себя как гимназистка!» – и она выдавила легкую улыбку. Однако щеки ее горели. Может быть, снять эти розы и уронить на пол? Отец мог заметить, понять, что у Фьорсена такие же, и смекнуть, что к чему. Он воспринял бы это как оскорбление дочери. А она? Джип не чувствовала себя оскорбленной. Слишком уж хорош был комплимент – Фьорсен как бы намекал, что играл только для нее одной. В памяти всплыли слова баронессы: «Ему надо спасаться от самого себя. А жаль! Большой талант!» Да, очень большой. Человек, способный играть столь виртуозно, действительно заслуживал спасения. Уинтон с дочерью ушли с концерта после того, как Фьорсен сыграл последний сольный номер. Джип аккуратно вернула обе розы в букет.
Тремя днями позже, когда пришла на домашний полдник к баронессе фон Майзен, Джип сразу же увидела Фьорсена и его низкорослого квадратного спутника. Они стояли возле пианино, с выражением жуткой скуки и нетерпения внимая болтовне какой-то дамы. Весь этот пасмурный день со странными сполохами в небе, предвещавшими грозу, Джип чувствовала себя не в настроении и немного скучала по дому. Но теперь ее душа возликовала. Невысокий спутник скрипача отошел в сторону, к баронессе. Через минуту его подвели к Джип и представили – граф Росек. Лицо графа не понравилось Джип. Под глазами черные круги; манеры слишком уж выдержанные, с оттенком холодной любезности. Правда, Росек был учтив, вежлив и хорошо говорил по-английски. Оказалось, что он поляк, живет в Лондоне и знает о музыке все, что о ней полагалось знать. Мисс Уинтон, предположил он, наверняка уже слышала игру его друга Фьорсена. Как? Только здесь, не в Лондоне? Очень странно. В прошлом сезоне он провел там несколько месяцев. Немного досадуя на собственную неосведомленность, Джип ответила:
– Да, но я почти все лето провела в деревне.
– Ему сопутствовал огромный успех. Надо его снова привезти в Лондон, это пойдет ему на пользу. Вам нравится, как он играет?
Вопреки намерению не раскрывать свои чувства перед незнакомым человечком с лицом сфинкса, Джип пробормотала:
– Ах, еще бы! Просто удивительно.
Поляк кивнул и неожиданно с легкой загадочной улыбкой сказал:
– Позвольте вам его представить: Густав – мисс Уинтон!
Джип обернулась. Скрипач, стоявший прямо у нее за спиной поклонился. В его глазах светилось смиренное обожание, которое он даже не пытался скрывать. На губах поляка мелькнула еще одна улыбка, и в следующую минуту Джип осталась наедине с Фьорсеном в эркере. После случайной встречи у памятника Шиллеру, эпизода с цветами и всего, что о нем говорили, девичья душа не могла не заволноваться. Однако жизнь пока еще щадила ее нервы или душу: Джип всего лишь ощущала приятное удивление и легкое возбуждение. Вблизи Фьорсен был меньше похож на зверя в клетке. Он, несомненно, имел франтоватый вид, был, что всегда немаловажно, тщательно вымыт, от платка или волос исходил сладковатый аромат, который Джип осудила бы, будь он англичанином. На мизинце – кольцо с бриллиантом, которое почему-то не выглядело пошлым. Высокий рост, широкие скулы, густые, но не длинные волосы, голодная живость лица, фигуры, движений нейтрализовали любые подозрения в женоподобности. Нет, швед был вполне мужчиной и даже чересчур. Со странным, чеканным акцентом, Фьорсен произнес:
– Мисс Уинтон, вы здесь моя аудитория. Я буду играть для вас, для вас одной.
Джим рассмеялась.
– Вы смеетесь надо мной. И напрасно. Я буду играть для вас, потому что восхищен вами. Я ужасно вами восхищен. Посылая вам эти цветы, я не хотел вас обидеть. Они всего лишь выражение моего удовольствия от созерцания вашего лица.
Голос Фьорсена дрогнул. Потупив глаза, Джип ответила:
– Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Я хочу поблагодарить вас за вашу игру. Она прекрасна, воистину прекрасна!
Скрипач отвесил еще один короткий поклон:
– Вы придете послушать меня, когда я вернусь в Лондон?
– Я думаю, что любой пришел бы вас послушать, если предоставится такая возможность.
Скрипач отрывисто усмехнулся.
– Ба! Здесь я выступаю только из-за денег. Я терпеть не могу это место. Оно нагоняет на меня скуку! Кто это сидел рядом с вами около памятника? Ваш отец?
Джип, внезапно посерьезнев, кивнула. Она не забыла небрежный жест в ее сторону.
Фьорсен провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение.
– Настоящий англичанин. Но вы… не имеете отечества, вы дитя мира!
Джип иронично поклонилась.
– Нет, по вас действительно не скажешь, из какой вы страны. Вы не с севера и не с юга. Вы просто женщина, созданная для обожания. Я пришел сюда в надежде встретить вас. Мне невероятно повезло. Мисс Уинтон, я ваш преданный слуга.
Он говорил очень быстро, очень тихо, с пылким возбуждением, какое невозможно подделать, потом вдруг пробормотав: «Ох уж эти люди!» – отвесил еще один скупой поклон и был таков. Баронесса уже вела к ней нового гостя. После встречи главной мыслью Джип было: «Неужели он со всеми так начинает?» Она отказывалась поверить. Пылкий шепот, смиренный восхищенный взгляд! Но тут она вспомнила улыбку, игравшую на губах поляка, и подумала: «Надеюсь, он понимает, что меня не пронять вульгарной лестью».
Не смея никому довериться, Джип не имела возможности разобраться в брожении причудливых чувств притяжения и отторжения в своей душе, эти ощущения не поддавались анализу, перемешивались и сталкивались в глубинах сердца. Это определенно была не любовь и даже не ее начало, скорее, рискованный детский интерес к вещам, манящим своей загадочностью, вещам, которые могут стать доступными, если только не бояться протянуть руку. А тут еще очарование музыки и слова баронессы о необходимости спасения таланта, мечта о достижении невозможного, на что способна только женщина неотразимого обаяния, рожденная побеждать. Все эти мысли и чувства, однако, пока еще находились в зародыше. Кто знает, встретятся ли они еще раз? К тому же Джип была совсем не уверена, что желала новой встречи.
Глава 4
Джип завела привычку ходить с отцом к горячему источнику Кохбруннен, где тот вместе с другими пациентами каждое утро медленно, по двадцать минут поглощал минеральную воду. Пока отец пил, Джип сидела в дальнем углу сада и читала в качестве ежедневного урока немецкого языка роман из серии издательства «Реклам».
На следующее утро после «домашней» встречи у баронессы фон Майзен Джип сидела там с «Вешними водами» Тургенева, как вдруг заметила фланирующего по дорожке графа Росека со стаканом воды в руке. Мгновенно вспомнив улыбку, с которой граф представил ее Фьорсену, Джип поспешила закрыться зонтиком от солнца. Из своего укрытия она увидела ноги в лакированных туфлях, широкие в бедрах, но узкие внизу брюки и деревянную походку человека, затянутого в корсет. Мысль, что Росек дополнял свой наряд женскими аксессуарами, еще больше усилила ее неприязнь. Как смеют некоторые мужчины подражать женщинам? В то же время что-то подсказывало ей, что поляк хороший наездник, опытный фехтовальщик и не обделен физической силой. Она с облегчением вздохнула, когда граф проследовал мимо, и, опасаясь, что он может вернуться, захлопнула книгу и убежала. Однако ее фигура и летучая походка привлекали к ней больше внимания, чем она подозревала.
На следующее утро, сидя на той же скамье, Джип с затаенным дыханием читала сцену объяснения между Джеммой и Саниным у окна, как вдруг услышала за спиной голос Фьорсена.
– Мисс Уинтон!
Скрипач подошел со стаканом воды в одной руке и шляпой – в другой.
– Я только что познакомился с вашим отцом. Вы позволите мне на минуту присесть?
Джип отодвинулась на край скамьи, и он сел.
– Что вы читаете?
– Роман под названием «Вешние воды».
– Ах, лучше ничего не написано. В каком вы месте?
– На разговоре Джеммы и Санина во время грозы.
– Подождите, когда появится мадам Полозова. Какой персонаж! Сколько вам лет, мисс Уинтон?
– Двадцать два.
– Ни одна девушка в вашем возрасте не смогла бы по достоинству оценить эту вещь, но только не вы. Вы многое понимаете – чутьем. Простите, как вас по имени?
– Гита.
– Гита? Жестковато для женского имени.
– Все зовут меня Джип.
– Джип? Ах Джип! Да, Джип…
Фьорсен повторил ее имя настолько просто и незатейливо, что она не нашла повода рассердиться.
– Я сказал вашему отцу, что уже имел честь встретиться с вами. Он был со мной очень вежлив.
– Мой отец всегда вежлив, – холодно заметила Джип.
– Как лед, в который кладут шампанское.
Джип помимо воли улыбнулась.
– Очевидно, вы ему сказали, что я mauvais sujet[9], – неожиданно предположил он. Джип наклонила голову. Фьорсен пристально посмотрел на нее и продолжил: – Это правда. Но я способен быть лучше, много лучше.