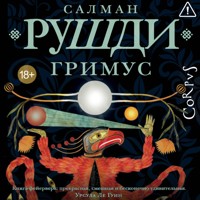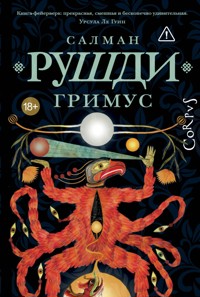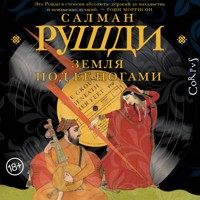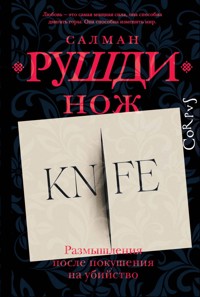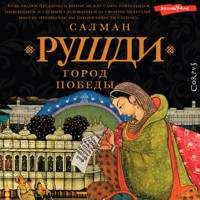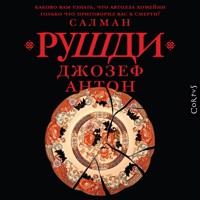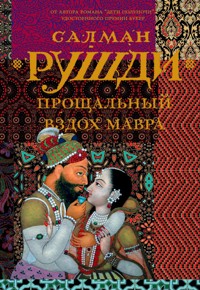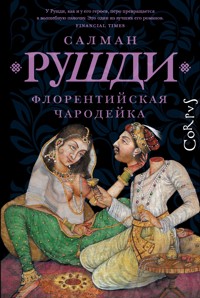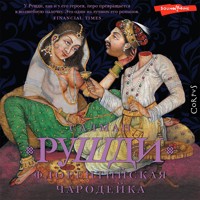Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Весь Салман Рушди
- Sprache: Russisch
Они познакомились в Бомбее, совсем юными, и влюбились друг в друга с первого взгляда. Она — обладательница волшебного голоса; он — гениальный музыкант, в голове которого звучат мелодии, явившиеся словно из потустороннего мира — или откуда‑то из будущего. Как будто сама судьба предназначила им быть вместе, но поиск себя уведет ее далеко из Индии, и он последует за ней — сначала в Англию, потом в Америку. Спустя годы они будут собирать огромные концертные залы и целые стадионы, но путь к успеху не будет простым — им придется не только противостоять завистникам и нечестным на руку дельцам от шоу-бизнеса, но и бороться с внутренними демонами, терять и снова находить друг друга. После очередной размолвки она уедет одна — в Мексику, где случится страшное землетрясение. Что станет делать преданный Орфей, когда земля разверзнется под ногами его Эвридики?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1044
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Салман Рушди Земля под ее ногами
Salman Rushdie. The Ground Beneath Her Feet
© 1998, Salman Rushdie
All rights reserved
© В. Гегина, перевод на русский язык, 2008, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS ®
Милану
1 Властелин пчел
В день святого Валентина 1989 года, ставший ее последним днем, певица-легенда Вина Апсара проснулась от собственных рыданий. Ей приснилось, что готовится жертвоприношение, причем жертвой должна стать она сама. Мужчины с обнаженными торсами, похожие на актера Кристофера Пламмера, крепко держали ее за щиколотки и запястья. Ее нагое извивающееся тело было распростерто на гладко отполированном камне с изображением пернатого змея Кетцалькоатля[2]. Разверстая пасть птицы-змеи представляла собой выдолбленное в камне углубление. Рот Вины разрывался от отчаянных криков, но она слышала лишь потрескивание огней. Жрецы уже были готовы перерезать ей горло, но, прежде чем ее живая кровь с бульканьем пролилась в эту ужасную чашу, она проснулась – в полдень, в мексиканском городе Гвадалахара, в чужой постели, рядом с полумертвым незнакомцем – обнаженным метисом лет двадцати. Уже после катастрофы из поднятой газетами шумихи выяснилось, что это был Рауль Парамо, местный плейбой, наследник строительного воротилы, одной из корпораций которого принадлежал отель.
Она лежала вся в поту, на влажных простынях, издававших тоскливый запах их бессмысленного ночного соития. Рауль Парамо был без сознания; губы у него побелели, а тело безостановочно сводили судороги – точно такие, в каких минуту назад, во сне, корчилась она сама. Через несколько мгновений из его глотки вырвался жуткий клокочущий звук, словно ему перерезали горло и кровь через алую ухмылку невидимой раны хлынула в кубок-фантом. В панике Вина вскочила с постели, схватила свою одежду – кожаные брюки и расшитое блестками бюстье, в которых накануне вечером покинула сцену. С высокомерным отчаянием она отдалась этому юнцу вдвое моложе себя, выбрав его наугад из толпившихся за кулисами поклонников – прилизанных бездельников-ухажеров с охапками цветов, промышленных магнатов, аристократической швали, подпольных наркобаронов, королей текилы – с их лимузинами, шампанским, кокаином, а быть может, и бриллиантами, которыми они намеревались осыпать звезду.
Молодой человек пытался представиться ей, он льстил и заискивал, но ее не интересовали ни его имя, ни сумма на его банковском счете. Она выбрала его, как срывают цветок, и ей не терпелось зажать в зубах стебель; он был ужином с доставкой на дом, и она намеревалась его отведать; с устрашающим аппетитом хищницы накинулась на него, едва захлопнулась дверь увозившего их лимузина, еще до того, как шофер успел поднять перегородку, призванную скрывать частную жизнь пассажиров от любопытных глаз.
Потом этот шофер с благоговением говорил о ее обнаженном теле. Пока газетчики усердно потчевали его текилой, он шепотом рассказывал им о том, какой безмерно щедрой была нагота этой хищницы, какое это было чудо; кто бы мог подумать, что она уже разменяла сороковник, – наверное, кто-то там, наверху, заботился о том, чтобы это чудо сохранить. «Я бы сделал для нее всё, – стонал шофер, – я бы помчал ее со скоростью двести километров в час, если бы она захотела, я бы врезался ради нее в бетонную стену, если бы она пожелала умереть».
Только когда, кое-как прикрывшись первой попавшейся под руку тряпкой и плохо соображая, она оказалась в коридоре одиннадцатого этажа, где ее босые ноги испачкали типографской краской не востребованные постояльцами газеты, крупными буквами заголовков кричавшие о французских ядерных испытаниях в Тихом океане и политической нестабильности в южном штате Чиапас, – только тогда она поняла, что покинутый ею номер люкс – ее собственный и что, захлопнув за собой дверь, она осталась без ключа. К счастью, в этот момент полной беззащитности ей встретился не кто иной, как я, фотокорреспондент Умид Мерчант, он же Рай, ее, как говорится, дружок еще с бомбейских времен – единственный на тысячу и одну милю вокруг «рыцарь линз и затворов», способный не ухватиться за возможность запечатлеть ее в восхитительном и скандальном неглиже – совершенно растерянной и, что хуже всего, выглядящей на свой возраст. Я оказался тем единственным вором, который ни за что не согласился бы тайком украсть ее образ усталой, затравленной дивы, беспомощной, с мешками под глазами, со спутанной проволокой ярко-рыжих крашеных волос, трепетавших на ее голове, как хохолок у дятла, с дрожащим от растерянности прекрасным ртом, в уголках которого безжалостные годы прорубили крошечные фьорды, – архетип безумной рок-богини на полпути к безысходности и скорби. Она решила для этого турне покраситься в рыжий цвет, потому что в свои сорок четыре года ей пришлось начинать все сначала, начинать карьеру соло, без Него. Впервые за многие годы она оказалась на жизненном пути одна, без Ормуса, поэтому ничего удивительного, что большую часть времени она чувствовала себя обескураженной и сбитой с толку. И одинокой. Приходилось это признать. На публике ли или наедине с собой – никакой разницы; вот в чем заключалась правда: когда его не было рядом, то, с кем бы она ни была, она всегда была одна.
Потеря ориентиров[3]. Потеря Востока. И Ормуса Камы, ее солнца.
А то, что она наткнулась на меня, вовсе не было случайностью. Я всегда был рядом. Всегда готов явиться по первому ее зову. Если б она захотела, рядом оказались бы сотни, тысячи таких, как я. Но все же, думаю, был я один. И в последний раз, когда она позвала меня на помощь, я не смог прийти, и она умерла. Ее история оборвалась на середине: она была неоконченной песней; ей не дано было дочитать строки своей жизни до заключительной рифмы.
Через два часа после того как я извлек ее из бездны, разверзшейся перед ней прямо посреди гостиничного коридора, вертолет уносил нас в Текилу, где дон Анхель Круз, владелец одной из крупнейших плантаций голубой агавы и знаменитой винокурни «Анхель», джентльмен, известный своим сладкозвучным высоким тенором, куполообразным животом, а также хлебосольством, собирался дать в честь Вины банкет.
Тем временем молодого плейбоя, любовника Вины, доставили в больницу в наркотических конвульсиях, столь сильных, что они привели к трагическому исходу, а так как эта история выплыла на свет божий после того, что случилось с Виной, мир долго еще выслушивал подробные отчеты о составе крови умершего и его волос, содержимом его желудка, кишечника, мошонки, глазных впадин, аппендикса. Только его мозги никого не заинтересовали, поскольку так основательно спеклись от наркотиков, что никто не смог разобрать его последних, сказанных в коматозном бреду слов. Однако несколькими днями позже, когда информация об этом событии попала в интернет, один двинутый на фэнтези хлюпик из квартала Кастро в Сан-Франциско, скрытый под ником [email protected], объявил, что Рауль Парамо говорил на языке орсиш, инфернальном наречии, изобретенном писателем Толкином для слуг повелителя тьмы Саурона: «Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul». После этого по всей Паутине поползли слухи о сатанизме, или, возможно, «сауронизме», Рауля. Якобы любовник-метис был кровавым слугой преисподней и подарил Вине бесценное, но роковое кольцо, которое навлекло на нее последовавшую вскоре катастрофу и отправило ее в ад. Но к тому времени Вина уже начала превращаться в миф, она стала сосудом, который любой слабоумный мог наполнить собственным бредом, или, если угодно, стала зеркалом культуры, природу которой лучше всего отражает мертвое тело.
«Чтобы всех отыскать, воедино созвать и единою черною волей сковать». Во время нашего полета в Текилу я сидел рядом с Виной Апсарой и не видел на ее руке никакого кольца, если не считать лунного камня – талисмана, с которым она никогда не расставалась, который связывал ее с Ормусом Камой, был напоминанием о его любви.
Всех своих сопровождающих Вина отправила наземным транспортом, взяв с собой в вертолет лишь меня одного. «Из всех ублюдков он единственный, кому я доверяю», – огрызнулась она. Они отправились в путь часом раньше, весь ее чертов зверинец: змея-турменеджер, гиена – личный помощник, гориллы-телохранители, павлин-парикмахер и дракон – менеджер по связям с общественностью. Но сейчас, когда вертолет завис над их автокавалькадой, угрюмость, в которую Вина была погружена с момента нашего вылета, как будто рассеялась, и она велела пилоту несколько раз пролететь над кавалькадой, с каждым разом снижаясь все опаснее. Я видел его расширенные от ужаса глаза с черными точками зрачков, однако он, подобно нам всем, был околдован ею и исполнял все ее желания. Это я вопил в микрофон: «Выше, поднимись выше!» – и ее смех бился у меня в ушах, как хлопающая на ветру дверь; но когда я взглянул на нее, чтобы она поняла, как мне страшно, то увидел, что она плачет. Полицейские, обнаружившие Рауля Парамо на месте происшествия, вели себя на удивление тактично и ограничились предупреждением, что Виной может заинтересоваться следствие. На этом ее адвокаты закончили беседу, но Вина все еще была напряжена, словно натянутая струна; от нее исходило слишком яркое сияние, как от электрической лампочки, что вот-вот перегорит, как от сверхновой или целой Вселенной.
Мы миновали автокавалькаду и полетели дальше, над холмами и долинами, которые голубой дымкой покрывали плантации агавы. Настроение Вины качнулось, подобно маятнику, в другую сторону: она начала хихикать в микрофон, заявляя, что мы везем ее в несуществующее, фантастическое место, в страну чудес, – ведь не может же, в самом деле, быть на земле место под названием Текила. «Это все равно что сказать, будто виски делают в Виски, а джин – в Джине! – кричала она. – А Водка – река в России!» Потом, внезапно помрачнев, еле различимо из-за шума двигателей добавила: «А героин создают герои, и можно крякнуть от крэка». Вероятно, в тот момент я был свидетелем рождения новой песни. Потом, когда командира и второго пилота расспрашивали об этом перелете, они благородно отказались разглашать подробности воздушного монолога, во время которого ее бросало из восторга в безысходность. «Она была в приподнятом настроении, – сказали они, – и говорила по-английски, так что мы ничего не поняли».
Не только по-английски. Ибо я был единственным, с кем она могла болтать на вульгарном бомбейском жаргоне – Мумбаи ki kachrapati baat-cheet, – в котором предложение могло начаться на одном языке, продолжиться на втором и третьем и под конец вернуться к первому. Мы называли это наречие Hug-me[4], по названию языков, его составляющих: х – хинди, у – урду, г – гуджарати, м – маратхи и, конечно, e – еnglish, английский. Бомбейцы вроде меня плохо говорят на пяти языках и ни на одном из них – хорошо.
Оказавшись в турне без Ормуса Камы, Вина вдруг обнаружила границы своих песен, музыкальные и словесные. Она написала их специально, чтобы продемонстрировать свой божественный голос, этот совершенный, как у Имы Сумак[5], инструмент, лестницу в небо. Сейчас она жаловалась, что песни, которые сочинял Ормус, никогда не позволяли ей проявить голос во всем его диапазоне. Но в Буэнос-Айресе, Сан-Паулу, Мехико и Гвадалахаре публика приняла ее новый репертуар весьма прохладно, несмотря на то что в концертах участвовали три умалишенных бразильских ударника и пара аргентинских гитаристов-дуэлянтов, каждый раз угрожавших закончить свой музыкальный поединок настоящей поножовщиной. Даже специально приглашенный ветеран мексиканской сцены – суперзвезда Чико Эстефан – не вызвал у публики особого восторга. Его гладкая, благодаря усилиям пластических хирургов, физиономия и зубы, сияющие неправдоподобной белизной, лишь подчеркивали ее увядающую красоту. Это увядание отразилось, как в зеркале, в ее аудитории, среди которой преобладали люди скорее немолодые. Подростки не пришли, а если и пришли, то их было мало – меньше, чем нужно.
Зато каждый из старых хитов VTO встречали восторженным ревом, и невозможно было не видеть, что во время их исполнения чокнутые ударники приближались к божественному безумию, а дуэль двух гитар спирально возносилась в горние пределы, и даже старый пройдоха Эстефан, казалось, молодел на глазах. Стоило Вине Апсаре запеть слова и мелодии Ормуса Камы, и затерянная в толпе молодежь сразу же завелась; тысячи тысяч вскинутых рук начали двигаться в унисон, изображая на языке жестов название великой группы и скандируя:
– V! Т! О!
V! Т! О!
Вернись к нему, словно говорили они. Вы нужны нам вместе. Не бросайся своей любовью. Нам нужно не расставание, а примирение.
Вертикальный толчок. Вина – ты и Ормус. В переводе на «хаг-ми»: V-to. Или: как ракета – V–2. Или: «V» – как символ примирения, которого они жаждали, «Т» – символ двоицы – он и она, и «О» – символ их восхищения, их любви. Или – дань Викториа-Терминус-Оркестра, одному из самых больших зданий родного города Ормуса. Или название, которое много лет назад Вина углядела в неоновой рекламе безалкогольного напитка «Вимто», с тремя вспыхивающими буквами:
B… T…Ох-х.
В… Т…Ох-х.
Два стона и выдох. Оргазм прошлого, напоминание о котором она носила на пальце и к которому, возможно, знала, что вернется – несмотря на меня.
Полуденный зной был сух и яростен – ее любимая погода. Перед нашим приземлением пилоту сообщили о небольших подземных толчках в этом районе, но они прекратились, заверил он нас, так что можно смело садиться. «Проклятые французы, вот так после каждого их испытания: ровно через пять дней – раз-два-три-четыре-пять – пожалуйста, землетрясение», – ворчал он. Он посадил вертолет на пыльном футбольном поле в центре маленького городка Текила. Должно быть, все полицейские силы города собрались здесь, чтобы сдерживать толпу. Когда Вина Апсара величественно сошла по трапу (она всегда держалась принцессой и уже стала превращаться в королеву), раздался дружный крик – одно только имя: «Ви-и-и-на-а-а», в котором жажда видеть ее словно растянула гласные, и я – не в первый уже раз – осознал, что, несмотря на ее чрезмерно разгульную жизнь, выставленную на всеобщее обозрение, весь ее звездный антураж, ее накхрас, она никогда не вызывала у публики враждебных чувств; в ней было что-то обезоруживающее, и вместо желчи они исходили необъяснимой и беззаветной преданностью, словно она – новорожденное дитя всей земли.
Можете назвать это любовью.
Через заграждение прорвались мальчишки, которых преследовали обливающиеся потом полицейские, а затем появился и сам дон Анхель Круз в сопровождении двух серебристых «бентли», в точности повторяющих цвет его благородной седины. Он извинился, что не может приветствовать нас арией, – всему виной эта пыль, эта ужасная пыль, она всегда ему досаждает, а сейчас, из-за землетрясения, воздух просто полон ею.
– Прошу вас, сеньора, сеньор. – И, деликатно покашливая в запястье, он повел нас к переднему «бентли». – Мы сейчас же поедем, если позволите, и начнем нашу программу.
Он уселся во второй автомобиль, промокая пот гигантскими носовыми платками и огромным усилием воли удерживая на лице широкую улыбку. Казалось, его маска радушного хозяина вот-вот упадет, обнажив скрытое за ней отчаяние.
– Бедняга здорово напуган, – сказал я Вине, когда наш автомобиль двинулся в сторону плантации.
Она пожала плечами. В октябре 1984 года, участвуя в одной из рекламных кампаний журнала «Вэнити Фэйр», она села за руль роскошного лимузина, переехала по оклендскому Бэй-бриджу с восточного берега на западный, вышла из машины на заправочной станции и успела увидеть, как все четыре колеса ее машины поднялись над землей и повисли в воздухе, словно картинка из будущего или из фильма «Назад в будущее». В этот момент мост обрушился, как игрушечный.
– Не пугай меня своими землетрясениями. Рай, – сказала она хриплым голосом ветерана катастроф, когда мы подъезжали к плантации, где нас уже ждали служащие дона Анхеля с соломенными ковбойскими шляпами, которые должны были защитить нас от солнца, и виртуозы мачете, готовые продемонстрировать, как агава под ударами их ножей превращается в большой голубой «ананас», готовый к переработке. – Меня не возьмешь никакими Рихтерами, милый. Я пуганая.
Животные вели себя беспокойно. Скуля, носились кругами пятнистые дворняжки, в конюшнях ржали лошади. Над головой оракулами кружили птицы. Под подчеркнутой приветливостью и учтивостью дона Анхеля Круза почти физически ощущалась растущая сейсмическая активность. Он показывал нам свои владения: вот это – наши традиционные деревянные бочки, а это – наши сверкающие новые чудеса техники, наши инвестиции в будущее, колоссальные инвестиции, немыслимые деньги. Страх уже вытапливался из него каплями прогорклого пота. Он рассеянно промокал платками пахучий поток, а в цехе розлива его глаза еще больше расширились от горя, когда он осознал всю хрупкость своих богатств – жидкости, хранившейся в стекле, – и ужас перед землетрясением начал сочиться и из уголков его глаз.
– С начала ядерных испытаний продажи французских вин и коньяков упали чуть ли не на двадцать процентов, – бормотал он, качая головой. – Выиграли виноделы Чили и мы здесь, в Текиле. Экспорт так подскочил, вы даже не представляете. – Он вытер глаза дрожащей рукой. – Неужели Бог послал нам этот подарок, чтобы тут же забрать его обратно? Зачем он испытывает нашу веру?
Он смотрел на нас, как будто мы действительно могли дать ему вразумительный ответ. Убедившись, что ответа не последует, он вдруг схватил обе руки Вины Апсары и воззвал к ней как к судье, принужденный к недопустимой фамильярности чрезвычайными обстоятельствами. Она не сделала попытки освободиться.
– Я не был плохим человеком, – произнес он так, словно обращался к ней с молитвой. – Я был справедлив к своим работникам, добр к своим детям и даже верен своей жене, ну, кроме пары незначительных случаев, да и было это лет двадцать назад. Сеньора, вы просвещенная дама, вы поймете слабости пожилого мужчины. Почему же я дожил до такого дня? – Он склонил перед ней голову, выпустил ее руки и, сложив свои, в ужасе прикрыл ими рот.
Вина привыкла отпускать грехи. Положив руки ему на плечи, она заговорила с ним тем самым Голосом; она что-то нашептывала ему на ухо, словно любовнику, прогоняла землетрясение, как капризного ребенка, отправляя его в угол, запрещая ему впредь беспокоить замечательного дона Анхеля. И такова была чарующая сила ее голоса, самого его звучания, а не произносимых слов, что бедняга тотчас перестал потеть, поднял свою голову херувима и улыбнулся.
– Вот и хорошо, – сказала Вина Апсара, – а теперь давайте обедать.
На старой семейной асьенде, которая использовалась только для торжественных случаев, мы обнаружили длинный стол, накрытый в галерее, выходившей во внутренний дворик с фонтаном. При появлении Вины в ее честь заиграла группа марьячи. Затем подъехала автокавалькада, и из машин вывалился весь кошмарный рок-зверинец. Они суетились и визжали, отпихивая предложенную радушным хозяином выдержанную текилу, словно это были банки с пивом или вино в пакетах, они похвалялись тем, какие ужасы им довелось пережить, проезжая через район подземных толчков. Личный помощник злобно шипел, как будто собирался привлечь беспокойную землю к суду; турменеджер радостно скалился, как бывало, когда он подписывал новый контракт на позорных и рабских для другой стороны условиях; павлин метался, издавая нечленораздельные возгласы; гориллы односложно ворчали, а аргентинские гитаристы вцепились, как обычно, друг другу в глотку. Ударники же – ох уж эти ударники! – разогретые текилой, стараясь заглушить воспоминания о пережитой опасности, пустились громогласно обсуждать недостатки исполнительского мастерства марьячи, глава которых, ослепительный в своем серебристо-черном наряде, с силой швырнул о землю сомбреро и уже потянулся было за висевшим на бедре шестизарядником, но тут вмешался дон Анхель и для всеобщего примирения великодушно предложил:
– Пожалуйста, если позволите, я развлеку вас своим пением.
Настоящий тенор способен заглушить все споры; его божественная сладость, подобно музыке сфер, заставляет нас устыдиться мелочности наших устремлений. Дон Анхель исполнил «Trionfi Amore» Глюка, причем марьячи недурно справлялись с ролью хора для его Орфея.
Несчастливый конец истории об Орфее, который оглянулся назад и навек потерял свою Эвридику, всегда представлял проблему для композиторов и либреттистов. «Эй! Кальцабиджи[6], что это за концовку ты мне принес? Какая тоска! Я что, по-твоему, должен отправить зрителей домой с вытянутыми физиономиями, будто они лимона наелись?! Сделай конец повеселее!» – «Конечно, герр Глюк, не надо так волноваться. Нет проблем! Любовь – она сильнее, чем ад. Любовь смягчает сердца богов. Может, сделать так, чтоб они отправили ее обратно? „Топай отсюда, детка, этот парень по тебе сохнет! Подумаешь, один взгляд, какая ерунда“. А потом влюбленные закатывают праздник – да какой! Танцы, вино рекой, всё по полной программе. Получается отличный финал, публика расходится, напевая». – «А что, звучит неплохо. Молодец, Раньери». – «Рад стараться, Виллибальд. Не стоит благодарности».
И вот он, финал. Триумф любви над смертью. Любовь всем миром владеет полновластно. К величайшему удивлению присутствующих, включая меня, Вина Апсара, рок-звезда, поднялась и исполнила обе партии сопрано – Амура и Эвридики. И, хоть я не великий знаток, сделала это, с моей точки зрения, безупречно, не погрешив ни единым словом, ни единой нотой. В ее голосе был экстаз свершения: ну что, казалось, говорил он, вы наконец-то поняли, каково мое предназначение?
Измученное сердце не просто находит счастье, оно само становится счастьем. Такая вот история. По крайней мере, так поется в песне.
Земля, словно аплодируя ей, содрогнулась как раз в тот момент, когда она умолкла. Весь громадный натюрморт – блюда с мясными деликатесами, вазы с фруктами, бутылки лучшей текилы «Круз» – и даже сам банкетный стол начали по-диснеевски трястись и подпрыгивать, словно все эти неодушевленные предметы были приведены в движение подмастерьем чародея, самонадеянным мышонком, или подчинились властному призыву Вины присоединиться к заключительной арии. Теперь, когда я пытаюсь восстановить точную последовательность событий, они проходят в моей памяти подобно кадрам немого кино. А ведь им должен был сопутствовать шум. Пандемониум, обиталище демонов, с его муками ада, едва ли мог быть более шумным, чем этот мексиканский город, где по стенам домов, как ящерицы, поползли трещины, разрывая стены асьенды дона Анхеля своими длинными жуткими пальцами, пока она не рухнула, как видение, как студийная декорация. А когда рассеялась туча пыли, поднятая ее падением, мы обнаружили себя на проваливающихся, уходящих из-под ног улицах. Мы неслись сломя голову, сами не зная куда, не останавливаясь ни на мгновение, а с крыш на нас летела черепица, поднимались в воздух деревья; сточные воды, вырвавшись из труб канализации, били фонтанами; дома разваливались, и с неба сыпались лежавшие с незапамятных времен на чердаках чемоданы.
Но я помню лишь безмолвие – безмолвие великого ужаса. Если точнее – безмолвие фотографии, которая была моей профессией, поэтому вполне естественно, что, когда началось землетрясение, я тут же стал снимать. Теперь я мог думать только о маленьких квадратиках пленки, проходивших через все мои фотокамеры – «фойгтлендер-лейка-пентакс», об очертаниях и красках, что оставались на них благодаря случайностям событий и движений, а также, разумеется, моей способности в нужный момент направить объектив в нужную точку. Здесь царило вечное безмолвие лиц и тел, животных и даже самой природы, схваченных, разумеется, моей камерой, но и скованных ужасом перед непредсказуемым, мукой утраты, сжатых мертвой хваткой этой ненавистной метаморфозы: оцепенение жизни в момент ее уничтожения, превращения в прошлое, в золотой век, к которому нет возврата. Ведь если вам случилось пережить землетрясение, даже не получив ни единой царапины, вы знаете, что оно, как инфаркт, навсегда оставляет неизгладимый след в груди земли – затаенную угрозу вернуться, чтобы поразить вас снова, с еще более разрушительной силой.
Фотография – это нравственный выбор, сделанный в одну восьмую, одну шестнадцатую, одну сто двадцать восьмую секунды. Щелкните пальцами – щелчок фотоаппарата быстрее. Нечто среднее между маньяком-вуайеристом и свидетелем, художником и подонком – вот что такое моя профессия, мои решения, принятые в мгновение ока. Это круто; это то, что надо. Я все еще жив; меня обзывали последними словами и оплевывали всего лишь тысячу раз. Пускай! Кого я по-настоящему опасаюсь, так это мужчин с огнестрельным оружием. (Это почти всегда мужчины, все эти Шварценеггеры с терминаторами, эти остервенелые самоубийцы с колючей щетиной на подбородке, напоминающей ершик для унитаза, и голой, как у младенцев, верхней губой; если же за это дело берутся женщины, они бывают во сто крат хуже.)
Я всегда оставался событийным наркоманом. Действие – выбранный мною стимулятор. Для меня нет ничего лучше, чем прилипнуть к потной, разбитой поверхности происходящего, впившись в картинку и отключив все остальные органы чувств. Мне все равно, смердит ли увиденное мною, вызывает ли рвоту, каково оно на вкус, если его лизнуть, и даже – как громко оно вопит. Единственное, что меня занимает, – как это выглядит. Давным-давно это стало для меня источником впечатлений и самой правдой.
Происходящее у тебя на глазах – это вещь ни с чем не сравнимая, пока твоя физиономия приклеена к фотоаппарату и тебе еще не оторвали башку. Это высший кайф.
Давным-давно я научился быть невидимкой. Это позволяло мне подойти вплотную к главным исполнителям мировой драмы: больным, умирающим, умалишенным, скорбящим, богатым, алчным, пребывающим в экстазе, понесшим утрату, разъяренным, скрытным, негодяям, детям, хорошим людям, героям дня; мне удавалось просочиться в их зачарованное пространство, оказаться в эпицентре их ярости, или горя, или неземного восторга, застичь их в решающий момент их жизни и сделать свой гребаный снимок. Очень часто это умение дематериализоваться спасало мне жизнь. Когда мне говорили: не езди по этой простреливаемой дороге, не суйся в вотчину этих полевых командиров, держись подальше от территории, которую контролируют эти боевики, – меня начинало тянуть туда неодолимо. Ни один человек с камерой не возвращался оттуда, предупреждали меня, – и я уже несся в это самое место. Когда я являлся обратно, люди смотрели на меня как на привидение и спрашивали, каким чудом я остался жив. Я только пожимал плечами. Честно говоря, иной раз я и сам не знал, как мне это удалось. Наверное, если б знал, то был бы уже не способен повторить эти вылазки и погиб бы в какой-нибудь вечно тлеющей зоне боевых действий. Возможно, однажды так и случится.
Единственное, чем я могу это объяснить, – своей способностью становиться маленьким. Не физически – вообще-то я довольно рослый и крупный, – а психологически. Я просто улыбаюсь самоуничижительно и скукоживаюсь до состояния полного ничтожества. Весь мой вид говорит снайперу, что я не стою его пули, а моя походка убеждает главаря вооруженной банды не марать свой топор о такого, как я. Я внушаю им, что не заслуживаю их ярости и меня можно отпустить живым. Наверное, это получается потому, что в такие моменты я искренне полон самоуничижения. Я всегда держу наготове парочку воспоминаний, не дающих мне позабыть о своем ничтожестве. Так благоприобретенная скромность, плод грешной молодости, не раз спасала мне жизнь.
«Дерьмо собачье, – таково было мнение Вины на этот счет. – Еще один твой способ охмурять баб».
Что ж, скромность действительно производит на женщин впечатление. Но с ними я только притворяюсь тихоней. Милая застенчивая улыбка, мягкие жесты. Чем дальше я, в своей замшевой куртке и армейских ботинках, отступаю, смущенно улыбаясь и сияя лысиной (сколько раз мне приходилось слышать, какая красивая у меня форма головы!), тем настойчивее они становятся. В любви вы наступаете отступая. Хотя, если задуматься, то, что я называю любовью, и то, что вкладывал в это слово Ормус Кама, – совершенно разные вещи. Для меня это всегда было мастерством, ars amatoria: первый шаг навстречу, отвлечение внимания, возбуждение любопытства, обманное отступление и медленный неизбежный возврат. Неторопливо разворачивающаяся спираль желания. Кама. Искусство любви.
В то время как для Ормуса Камы это был просто вопрос жизни и смерти. Любовь была на всю жизнь и не кончалась со смертью. Любовь была – Вина, а за Виной открывалась пустота.
Однако для более мелких тварей я так и не смог сделаться невидимкой. Эти шестиногие крошечные террористы были со мной явно накоротке. Покажите мне (хотя лучше не надо) муравья, осу, пчелу, комара или блоху. Они обязательно позавтракают мною, а также пообедают и поужинают. Все, что мелкое и кусается, атакует меня. Поэтому, когда я фотографировал в эпицентре землетрясения плачущего, потерявшего родителей ребенка, кто-то больно укусил меня в щеку – это было похоже на укол совести, – и я оторвал лицо от камеры как раз вовремя (спасибо обладателю того ужасного жала; возможно, это была не совесть, а шестое чувство папарацци), чтобы увидеть начало текилового потопа. Лопнули все гигантские цистерны, что были в городе.
Улицы извивались, как плети; повсюду змеились трещины. Одной из первых не устояла перед сокрушительными толчками винокурня «Анхель». Старое дерево лопалось, новый металл коробился и рвался. Текиловая река цвета урины, пенясь, хлынула в переулки; основная волна этого потока обогнала спасавшуюся бегством толпу, увлекла ее своей мощью, и такова была крепость этого напитка, что барахтавшиеся в нем люди, нахлебавшись, выныривали не только мокрые, но и пьяные. Последний раз, когда я видел дона Анхеля, он суетливо и жалко метался по затопленным текилой улицам, с кастрюлей в руках и двумя висящими на шее чайниками, пытаясь спасти хоть часть своего добра.
Так ведут себя люди, когда рушится их привычная жизнь, когда на несколько мгновений они сталкиваются лицом к лицу с одной из величайших сил, способных направить жизнь в другое русло. Стóит беде обратить на них свой гипнотический взгляд, как они начинают цепляться за остов прожитых дней, стараясь выхватить хоть что-нибудь – игрушку, книгу, тряпку, ту же фотографию – из горы мусора, в который их превратила безвозвратная и ошеломляющая потеря. Дон Анхель Круз в роли побирушки был для меня просто находкой, он словно воскрешал сюрреалистический образ Кастрюльного Человека, персонажа любимых книг Вины Апсары – серии «Народ с Дальнего Дерева» Энид Блайтон, – которые она повсюду возила с собой. Скрытый своей шапкой-невидимкой, я начал снимать.
Не могу сказать, как много времени прошло. Пляшущий стол, рухнувшая асьенда, американские горки улиц, барахтающиеся и захлебывающиеся в реке текилы люди, всеобщая истерия, жуткий смех лишившихся крова, разоренные, потерявшие работу, осиротевшие, погибшие, – спросите меня, сколько времени нужно, чтобы все это снять: двадцать секунд? полчаса? Не имею представления. Шапка-невидимка и все остальные хитрости, позволяющие отключать органы чувств и направлять всю энергию к моим механическим глазам, имеют свои, что называется, побочные эффекты. Когда я оказываюсь лицом к лицу с чудовищностью происходящего, когда этот монстр ревет прямо мне в объектив, я теряю контроль над всем остальным. Который час? Что с Виной? Кто погиб? Кто остался в живых? Что за трещина зияет под моими армейскими ботинками? Что вы сказали? Скорая пытается добраться к этой умирающей женщине? О чем это вы? Не путайтесь у меня под ногами. Кто ты такой, мать твою, что смеешь меня толкать? Ты что, не видишь – я работаю?
Кто погиб? Кто остался в живых? Что с Виной? Что с Виной? Что с Виной?
Я снова вынырнул на поверхность. Насекомые жалили меня в шею. Река текилы обмелела: драгоценный поток пролился в разверстую землю. Город походил на цветную открытку, разорванную рассерженным ребенком и затем старательно и терпеливо собранную матерью по кусочкам. У него появилась новая черта – он пополнил собою паноптикум разбитых вещей: расколотых тарелок, сломанных кукол, ломаного английского, рассыпавшихся в прах надежд и разбитых сердец. Из пелены пыли появилась Вина и нетвердой походкой направилась ко мне: «Рай, слава богу». Несмотря на ее заигрывания с буддийскими наставниками (Голливуд Ринпоче и лама Гинзберг[7]) и цимбалистами сознания Кришны, тантрическими гуру (аккумуляторами энергии кундалини) и трансцендентальными риши[8], а также мастерами всяких извращенных премудростей – Дзен и искусство делать дело, Дао промискуитета, Любовь к себе и Просветление, – несмотря на все ее духовные заскоки, в глубине своей безбожной души я очень сомневался, что она действительно верит в существование Бога. Но вполне возможно, так оно и было; я и в этом ошибся; да и какое еще найти для этого слово? Когда ваша душа преисполнена благодарности слепой удаче и некому сказать за нее спасибо, а очень хочется, – чье имя вы назовете? Вина говорила: «Бог» – в чем я видел лишь способ выплеснуть накопившиеся чувства. Найти замену несуществующему адресату.
Другое, огромное, насекомое повисло над нами, придавив нас к земле мощным потоком воздуха и оглушив пронзительным ревом двигателей. Наш вертолет успел подняться как раз вовремя, чтобы избежать крушения. Теперь пилот снизился почти до земли и завис, делая нам знаки.
– Сматываемся отсюда! – крикнула Вина.
Я помотал головой.
– Лети одна! – прокричал я в ответ. Сначала дело. Я должен был послать в агентства свои снимки. – Я прилечу потом, – проревел я.
– Что?
– Потом!
– Что?
С самого начала предполагалось, что вертолет доставит нас на уединенную виллу на тихоокеанском побережье, виллу «Ураган», совладельцем которой был президент звукозаписывающей компании «Колкис». Вилла находилась к северу от Пуэрто-Валларта, в престижном отдалении, и была, как волшебное царство, зажата между джунглями и морем. Теперь никто не мог сказать, уцелела ли она. Мир изменился. Но, подобно тому, как жители городка хватались за свои рамочки с фотографиями, а дон Анхель – за свои кастрюли, Вина осталась верна идее постоянства. Она не собиралась менять намеченную программу. Однако пока похищенные мною образы не попали в выпуски новостей и я не потребовал за них выкуп, о тропическом Шангри-Ла не могло быть и речи.
– Тогда я полетела! – прокричала она.
– Я не могу лететь.
– Что?
– Лети.
– Пошел ты!
– Что?
В следующую минуту она была уже в вертолете, который поднимался; а я не полетел с нею и никогда ее больше не видел. Никто никогда ее больше не видел. Ее последние, обращенные ко мне, слова разбивают мне сердце всякий раз, когда я их вспоминаю, а вспоминаю я их тысячу раз на дню, каждый день, не считая бесконечных бессонных ночей.
– Прощай, Надежда.
Псевдонимом Рай я стал пользоваться с тех пор, как начал работать на знаменитое агентство «Навуходоносор». Псевдонимы, сценические имена, агентурные клички – для писателей, актеров, шпионов это маски, скрывающие или изменяющие их настоящее лицо. Но когда я начал называть себя Rai, «благородный», это было как саморазоблачение, потому что я раскрыл миру самое дорогое – ласковое прозвище, которым еще в детстве наградила меня Вина; это был символ моей щенячьей любви к ней. «Потому что ты держишься как маленький принц, – нежно сказала она мне, когда я был девятилетним мальчишкой с проволокой на зубах, – и только твои друзья знают, что ты самый обыкновенный придурок».
Таким был Рай, мальчик-принц. Но детство кончилось, и во взрослой жизни не я, а Ормус Кама стал ее волшебным принцем. Прозвище тем не менее за мной осталось, и Ормус по доброте своей звал меня так же; точнее, он подхватил это у Вины, как инфекцию. Скажем так: ему никогда не приходило в голову, что я могу составить ему какую бы то ни было конкуренцию, что я могу представлять для него угрозу, поэтому он считал меня своим другом. Но сейчас это не важно. Рай. Это слово также означает желание; личную склонность человека, путь, который он избрал для себя; волю, силу характера. Все, что я ценил в людях. Мне нравилось, что это имя легко подхватывают: любой мог произнести его, оно хорошо звучало на всех языках. А если ко мне вдруг обращались «Эй, Рай» в этой великой демократии исковерканных имен – в США, я не возражал, я просто получал выгодный заказ и был таков. А в другой части света «рай» означает музыку. Увы, на родине этой музыки религиозные фанатики стали убивать музыкантов. Они считают музыку оскорбительной для Бога, который дал нам голос, но не желает, чтобы мы пели, наделил нас свободой воли – rai, но предпочитает, чтобы мы ею не пользовались.
В любом случае теперь все называют меня Рай. Просто по имени, так легче, таков современный стиль. Многие даже не знают, что в действительности я Умид Мерчант. Умид Мерчант, выросший в другой вселенной, в другом временном измерении, в Бомбее, в бунгало на Кафф-Парейд, давным-давно сгоревшем. Фамилия Мерчант – возможно, следует это пояснить, – значит «купец». Бомбейские семьи часто носят фамилии, произошедшие от занятий их предков. Эндженир, Контрэктор, Доктор. А ведь есть еще Редимани[9], Кэшонделивери[10] и Фишвала. Мистри – это каменщик, Вадия – корабельных дел мастер, Вакил – юрист, Шрофф – банкир. А от вечного романа с газированными напитками вечно испытывающего жажду города произошли не только Батливала[11], но и Содавотабатливала, и не только Содавотабатливала, но даже Содавотабатлиоупенавала.
Клянусь. Умереть мне на этом месте.
«Прощай, Надежда», – прокричала Вина; вертолет начал свой резкий ступенчатый подъем и пропал из виду.
Умид, существительное женского рода. Значит «надежда».
Отчего мы так неравнодушны к певцам? Отчего песни имеют над нами такую власть? Может, все дело в самой странности такого непонятного занятия, как пение? Нота, гамма, аккорд; мелодия, гармония, аранжировка; симфонии, раги[12], китайская опера, джаз, блюз, – подумать только, что существуют такие вещи, что мы открыли магические интервалы и расстояния, порождающие простые сочетания нот, все в пределах человеческой руки, и из этого создаем соборы звука. Алхимия музыки – такая же тайна, как математика, вино или любовь. Возможно, мы научились ей у птиц, а может, и нет. Может быть, мы просто существа, вечно ищущие высшего восторга. Его и так незаслуженно мало в нашей жизни, которая, согласитесь, до боли несовершенна. Песня превращает ее во что-то иное. Песня открывает нам мир, достойный наших устремлений, она показывает нам, какими мы могли бы стать, если бы нас в него допустили.
Пять таинств являют собой ключи к незримому: акт любви, рождение ребенка, созерцание великого произведения искусства, присутствие рядом со смертью или катастрофой и наслаждение полетом человеческого голоса. В эти мгновения вселенная распахивается перед нами, и мы видим мельком то, что скрыто от людских глаз, постигаем то, что невозможно выразить словами. На нас снисходит благодать: мрачный восторг землетрясения, чудо появления новой жизни, пение Вины.
Вина, к которой незнакомые люди приходили, ведомые ее звездой, чтобы получить отпущение грехов от ее голоса, ее больших влажных глаз, ее прикосновения. Как могло случиться, что женщина с такой скандальной репутацией стала кумиром, идеалом для большей части населения земного шара? Ведь она отнюдь не была ангелом (но попробуйте сказать это дону Анхелю). Может, даже к лучшему, что она не родилась христианкой: ее бы уже давно объявили святой. Наша Дева стадионов, Мадонна арены, обнажающая перед толпой рубцы от ран, подобно Александру Македонскому, призывавшему солдат на битву; наша гипсовая Недева, истекающая кровавыми слезами и исторгающая из своего горла раскаленную песнь. Поскольку мы отошли от религии, этого древнего успокоительного средства, мы испытываем ломку и не можем избежать всякого рода побочных следствий «апсарианского» толка. Не так-то просто отказаться от привычки кого-нибудь обожествлять. В музеях залы, где выставлены иконы, вечно переполнены. Нам всегда нравилось, чтоб изображенные на иконах тела были изранены торчащими во все стороны стрелами или распяты головой вниз; они нужны нам с содранной кожей, обнаженные; в нас живет потребность наблюдать, как их красота подвергается медленному распаду, и видеть их нарциссические страдания. Мы боготворим их не вопреки их недостаткам, но вследствие этих недостатков, обожествляя их слабости, их мелкие грешки, их неудачные браки, их алкоголизм и наркоманию, их ненависть друг к другу. Видя свое отражение в Вине и прощая ее, мы прощали самих себя. Своими грехами она искупала наши.
Я был таким же, как все остальные. Я всегда приходил к ней за утешением; иногда это была запоротая работа, иногда уязвленное самолюбие, иногда брошенные напоследок женщиной безжалостные слова. Вина умела все поставить на свои места. Но лишь к концу ее жизни я нашел в себе смелость добиваться ее любви, заявить на нее права и в какой-то момент даже поверил, что смогу вырвать ее из объятий Ормуса. А потом она умерла, оставив мне боль, которую могло утолить только ее волшебное прикосновение. Больше некому было поцеловать меня в лоб и сказать: «Все будет хорошо, Рай, маленький мой ублюдок, все пройдет, давай я помажу эти гадкие ссадины своей волшебной мазью, иди к мамочке, вот увидишь, все будет хорошо».
Теперь, когда я вспоминаю слезы дона Анхеля перед Виной в его хрупкой винокурне, я чувствую зависть. И ревность. Почему я не сделал того же, не открыл ей свое сердце, не умолял ее о любви, пока не стало слишком поздно; а еще: как мне отвратительна мысль, что она дотронулась до тебя – писклявого, распустившего сопли, обанкротившегося червя-капиталиста.
Мы все искали в ней умиротворения, однако в душе ее вовсе не было мира. Потому-то я и решил написать здесь, для всех, то, что уже не могу прошептать ей на ухо. Я решил рассказать нашу историю – ее, мою и Ормуса Камы, – всю до последнего слова, во всех подробностях, и тогда, быть может, она обретет мир здесь, на этих страницах, в этом загробном царстве чернил и лжи, найдет покой, в котором ей отказала жизнь. И вот я стою у врат языкового инферно; лающий пес и паромщик ждут; под языком у меня монета – плата за переправу.
«Я не был плохим человеком», – хныкал дон Анхель. Я тоже позволю себе поныть. Послушай, Вина, я тоже неплохой человек. Хотя, как будет явствовать из моего признания, я был предателем в любви; единственный сын своих родителей, я до сих пор не имею детей; во имя искусства я воровал образы больных и умерших; я распутничал и пожимал плечами (стряхивая таким образом сидящих там и наблюдающих за мною ангелов); я совершал еще более отвратительные поступки и все же считаю себя обыкновенным человеком, одним из многих, не лучше и не хуже других. Пусть меня отдадут на съедение насекомым – но я не был законченным негодяем. В этом можете мне поверить.
Помните четвертую из «Георгик» певца Мантуи Вергилия П. Марона? Отец Ормуса Камы, грозный сэр Дарий Ксеркс Кама, знаток древней истории и любитель меда, был отлично знаком с творчеством Вергилия, и благодаря ему я тоже кое-что узнал. Разумеется, сэр Дарий был поклонником Аристея. Аристей – первый пасечник в мировой литературе, чьи слишком настойчивые ухаживания стали причиной несчастья, случившегося с дриадой Эвридикой: лесная нимфа погибла, ступив на змею, и горы возрыдали. Вергилий необычно трактует историю Орфея; он посвящает ей семьдесят шесть великолепных строк без единой точки; затем как бы между прочим добавляет еще тридцать, в которых дает Аристею возможность принести искупительные жертвы – и все, конец. Больше не нужно переживать за этих глупых обреченных любовников. Настоящий герой его поэмы – пасечник, «пастух-аркадиец», способный совершить чудо, далеко превосходящее искусство несчастного фракийского певца, который даже не смог вернуть из царства мертвых свою возлюбленную. Что же именно умел Аристей? Он мог заставить гниющий остов коровы породить новых пчел. Его даром был «дар богов, мед небесный».
Так вот. Дон Анхель умел производить текилу из голубой агавы. А я, Умид Мерчант, фотограф, могу с легкостью извлекать новый смысл из любого гниющего трупа, привлекшего мое внимание. Мой адский дар – это способность вызвать душевный отклик, чувство, возможно даже сочувствие, у равнодушных глаз, поместив перед ними немые лики сущего. Я тоже порядком скомпрометирован, и никто лучше меня не знает, насколько непоправимо. Нет ни жертв, которые я мог бы принести, ни богов, которых я мог бы молить о прощении. И все же мое имя означает «надежда» и «воля», а это ведь не пустяк? Разве не так, Вина?
Конечно, малыш. Конечно, Рай, милый.
Музыка, любовь, смерть. Несомненно, тот еще треугольник, может быть, даже вечный. Но Аристей, несший смерть, был также источником жизни, почти как бог Шива, там, дома. Не просто танцор, но Созидатель и Разрушитель. Не только жалимый пчелами, но и приведший в этот мир жалящих пчел. Итак, музыка, любовь и жизнь-смерть: как когда-то мы трое – Ормус, Вина и я. Мы не щадили друг друга. Поэтому я ничего не утаю в своей истории. Я должен предать тебя, Вина, чтобы я смог тебя отпустить.
Начинай.
2 Мелодии и тишина
Ормус Кама родился в Индии, в Бомбее, ранним утром 27 мая 1937 года и уже в первые мгновения жизни стал делать пальцами рук необычные быстрые движения, в которых любой гитарист сразу узнал бы позиции прогрессивной аппликатуры. Однако среди приглашенных поагукать над новорожденным гитаристов не оказалось – ни пока он находился в приюте сестер Девы Марии Благодатной на Алтамаунт-Роуд, ни позднее, в квартире его семьи на набережной Аполлона, и это чудо осталось бы никем не замеченным, если бы не один любительский черно-белый фильм на восьмимиллиметровой пленке, снятый 17 июня ручной камерой «пэллар-болекс», принадлежавшей моему отцу. Мой отец, мистер В.-В. Мерчант, увлекался домашней киносъемкой. Так называемый «фильм Виви», к счастью, достаточно хорошо сохранился, и много лет спустя новые компьютерные технологии позволили миру увидеть в обработанных цифровым способом крупных планах, как пухлые ручки малыша Ормуса играют на невидимой гитаре, беззвучно выполняя сложную последовательность риффов с быстротой и ловкостью, которые могли бы сделать честь любому из великих исполнителей.
Но о музыке в тот момент думали меньше всего. Мать Ормуса, леди Спента Кама, на тридцать пятой неделе беременности узнала, что носит в своем чреве мертвого ребенка. При таком большом сроке ей не оставалось ничего иного, как пройти через муки родов. Когда же она увидела мертвое тельце Гайо, старшего брата Ормуса, его неидентичного дизиготного близнеца, то настолько пала духом, что сочла продолжающиеся потуги стремлением ее собственной смерти выйти наружу, чтобы воссоединить ее с умершим ребенком.
До этого злосчастного дня она была невозмутимой эндоморфной особой, дородной, с астигматичными глазами за толстыми стеклами очков и странной манерой по-коровьи двигать челюстью, – манера эта давала ее многословному, вспыльчивому и экстравагантному мужу повод считать ее глупой. Сэр Дарий Ксеркс Кама, высокий, эктоморфный, с пышными усами и пронзительным взглядом из-под красной с золотой кисточкой фески, ошибался. То была не глупость. То была невозмутимость души, витавшей над бренностью мира, точнее – души, находившей в рутине повседневности поводы для общения с высшими силами. Леди Спента была на короткой ноге с двумя Бессмертными Святыми парсийского пантеона, с двумя Амеша Спента, в честь которых была названа: с ангелом Благой Помысел – в мысленной беседе с которым она ежеутренне проводила один час, упорно не желая посвящать мужа или кого бы то ни было в подробности этих бесед, – и с ангелом Всеблагой Порядок, под чьим руководством она вела домашнее хозяйство, отнимавшее у нее бóльшую часть дня. С этой парой леди Спента Кама более всего чувствовала духовную близость. Ангелы Целостность и Бессмертие, смиренно признавала она, для нее недосягаемы, а что касается ангелов Желанная Власть и Святое Благочестие, претендовать на слишком близкое с ними знакомство было бы нескромным.
Она никогда не упускала случая напомнить, что христианские и мусульманские представления об ангелах восходят к зороастрийским, равно как и демоны произошли «от наших дэвов». Так велико было в ней чувство собственницы и сознание превосходства парсизма, что она говорила об этой нечисти словно о домашних животных или многочисленных фарфоровых безделушках, которыми была забита их квартира на набережной Аполлона – вызывающий всеобщую зависть бельведер с пятью высокими окнами, открытыми соленому морскому бризу. Удивительнее всего было то, что человек, настолько приблизившийся к добродетели, столь откровенно отдавался во власть таких дэвов, как Отчаяние, Двоедушие и Зломыслие, призывая беду на свою голову.
– Аре[13], приди забери меня, пусть смерть станет моим уделом, – причитала леди Спента.
Две стоявшие у ее постели дамы-валькирии неодобрительно хмурились. Уте Шапстекер, возглавлявшая гинекологическое отделение приюта (в высших слоях бомбейского общества более известная как Футы-Нуты или Сестра Адольф), прочла ей краткую нотацию о том, что не подобает приглашать смерть прежде времени, ибо она придет и незваная, в свой срок. Ее помощница, акушерка сестра Джон, в то время была еще молода, но уже начала превращаться в того хмурого «Летучего Голландца», чье присутствие и родинка над верхней губой отравляли следующие полвека радость появления на свет новой жизни в Бомбее.
– Возликуйте и возрадуйтесь, – угрюмо объявила она. – Всемогущий забрал в свои закрома душу этого счастливого младенца, словно зернышко благословенного риса.
Эта парочка, вероятно, еще долго продолжала бы в том же ключе, если бы леди Спента вдруг не добавила изменившимся голосом:
– Что-то давит мне на задний проход: или у меня сейчас будет стул, или там есть еще один чокра[14].
Разумеется, это не смерть шевелилась внутри нее; опорожнение кишечника ей также не грозило. Она быстро родила маленького, но здорового ребенка – подвижного, как угорь, мальчика весом четыре с половиной фунта, чье тело было скрыто от доктора Шапстекер как во время беременности, так и во время родов более крупным телом мертвого брата-близнеца. Примечательно, что в семействе Кама уже были пятилетние дизиготные близнецы Хусро и Ардавираф, более известные как Сайрус и Вайрус. Сэр Дарий Ксеркс Кама, большой знаток греческой мифологии, был отлично знаком с практикой олимпийских богов внедрять дитя полубожественного происхождения (Идас, Полидевк) во чрево, готовое породить младенца, зачатого простым смертным (Линкей, Кастор). Если говорить о развитом не по годам, разносторонне одаренном Хусро, наделенном жестокосердием истинного героя, и не очень сообразительном, но добром по натуре Ардавирафе, у греков не возникло бы ни малейшего сомнения в том, кто из них сын бога. Во втором же случае мертвый Гайо предположительно был земным ребенком, а живой Ормус имел бессмертных предков и божественные устремления. Таким образом, сэра Дария можно было считать отцом одного ни на что не годного и одного мертвого сына. Незавидная участь! Но ученость – это одно, а отцовство – совсем другое, и сэр Дарий Ксеркс Кама – «аполлониец с набережной Аполлона», выпускник Кембриджа, непоколебимый рационалист и именитый юрист, обедавший в свое время в «Миддл темпл»[15], человек посвятивший свою жизнь тому, что он остроумно определял оксюмороном «чудо разума», – не собирался уступать права отцовства никому из богов, к какому бы пантеону тот ни принадлежал, и крепкой родительской рукой держал бразды правления, подавляя в равной степени всех своих детей.
Угрюмая сестра Джон, для которой приветствовать рождение стоило бóльших усилий, нежели приветствовать «божественную жатву», отнесла живого младенца в инкубатор. Тело мертворожденного убрали с глаз долой, как зрелище, невыносимое для простого смертного, после чего сэру Дарию Ксерксу Каме позволили навестить роженицу. Спента была объята раскаянием. «В момент его рождения я позволила слугам Лжи овладеть моим языком», – призналась она. Сэра Дария столь буквалистские проявления религиозности жены всегда ставили в тупик. Он постарался скрыть замешательство, однако не мог отогнать от себя картину: существа с крыльями летучих мышей, посланные Ангро-Майнью[16], также известным под именем Ахриман, манипулируют языком леди Спенты. Он закрыл глаза и содрогнулся.
Между тем силы стали возвращаться к леди Спенте. «И кто это придумал назвать бедного мальчика Гайо?» – вопросила она, позабыв в пылу сильных и эмоционально противоречивых переживаний, что то была ее собственная идея. Ее муж, слишком галантный, чтобы напомнить ей об этом, склонил голову, приняв вину на себя. Первый из людей, Гайомарт, в незапамятные времена был действительно убит Ангро-Майнью. «Несчастливое имя!» – воскликнула леди Спента, вновь разражаясь слезами. Голова сэра Дария Ксеркса Камы склонилась еще ниже. Теперь леди Спенте приходилось адресовать свои упреки его украшенной кисточкой феске. Она решительно стукнула по ней. Раздался глухой звук. «Единственный способ поправить дело, – рыдая, продолжала она, – это сейчас же назвать выжившего мальчика именем бога».
Хормуз или Ормазд, местные производные от Ахурамазда[17], были предложены как возможные варианты, которые сэр Дарий Ксеркс Кама, поклонник античности, тотчас превратил в латинизированное Ормус. Его жена успокоилась. Она утерла слезы, и чета направилась в инкубатор, где Уте Шапстекер подтвердила, что жизнь ребенка вне опасности. «Мой крошка Орми, – замурлыкала леди Спента Кама над стеклом, отделявшим ее от маленького сморщенного человечка, – теперь ты не окажешься в аду. Теперь земля не разверзнется, и они не заберут тебя вниз».
После того как Футы-Нуты успокоила сэра Дария, подтвердив, что жизни малыша Ормуса ничего не угрожает, он, извинившись и поцеловав жену, устремился – с излишним, на взгляд леди Спенты, рвением – на крикетное поле. Проходил важный матч. В том году обычный турнир по крикету между командами местных британцев, индусов, мусульман и парсов превратился в пятикомандный. Сэру Дарию довелось выступать за команду парсов против новых ребят – «Остальных»: сборной бомбейских христиан, англо-индийцев и евреев. Сэр Дарий Ксеркс Кама, разносторонний спортсмен, бывший чемпион по борьбе среди любителей, в свои сорок три года все еще не утратил физической силы и божественной мускулатуры. Изящество, с каким он левой рукой отбивал подачу, неизменно вызывало восторг болельщиков; его фирменный удар был небрежен, чем приводил публику в замешательство, тем не менее он всегда достигал цели. Его подачи отличались обескураживающей быстротой и были известны как «молнии Дария». Когда после тревожной ночи в роддоме он снял свой длинный сюртук и высокую феску – костюм джентльмена-парса – и облачился в белый спортивный костюм, то ощутил прилив гордости, смешанной с облегчением. Конец унизительному пребыванию на периферии женских забот! Он чувствовал себя спущенным с цепи тигром и собирался с помощью биты и мяча обрушить на противника свое ликование по поводу того, что вот уже трижды стал отцом младенца мужского пола. Ритуал превращения из обывателя в спортсмена в уединении палатки для переодевания на краю огромного майдана всегда доставлял сэру Дарию ни с чем не сравнимое удовольствие. (Когда после целого дня яростной защиты в суде он скидывал с себя мантию и парик служителя закона и брал в руки биту, то словно переходил в свою лучшую ипостась – олимпийца во всей его красе и стати.) Вышедший с ним в паре бэтсмен, разбитной парень по имени Хоми Катрак, спросил, сможет ли партнер играть после бессонной ночи. Сэр Дарий лишь презрительно фыркнул и решительным шагом направился защищать честь соплеменников.
На стадионе его появления ожидала огромная шумная толпа. Сэр Дарий никогда не одобрял поведения бомбейских болельщиков. Это было единственное, что омрачало для него благословенные дни матчей. Вой, улюлюканье, гудение жестяных рожков, треск дхолов[18], скандирование, становившееся оглушительным, свист, крики разносчиков, гомерический хохот – весь этот непрекращающийся гвалт создавал, по мнению сэра Дария, неподходящие условия для столь благородной игры. Верховные правители страны, видя все это неприличие, могут быть только разочарованы, убедившись в безнадежной отсталости тех, кем они так мудро и так продолжительно правили. Когда сэр Дарий выходил на поле отбивающим, ему хотелось крикнуть: «Возьмите себя в руки! Держитесь достойно! Британцы смотрят на вас!»
Ормусу Каме довелось родиться в один из «погожих» дней. Так в Бомбее называли дни, когда взявшиеся невесть откуда облака давали короткую передышку от нестерпимой жары. Школьников по случаю «погожего» дня распустили, как было принято в то далекое время. Данный «погожий» день был, однако, отмечен несчастливой звездой. Правда, на свет появился живой младенец, зато другой родился мертвым. Заклинание демонов, дэвов, возымело свое действие, и в воздухе витало недовольство. Недовольство Футы-Нуты слабостью леди Спенты, недовольство сэра Дария тем, что в иной ситуации он назвал бы суеверием жены, создавало далеко не праздничную атмосферу. Здесь, на крикетном поле, его тоже ожидали возгласы неодобрения. Группа болельщиков-националистов явилась с оглушительными музыкальными инструментами и немедленно принялась отвлекать внимание игроков крайне безвкусным, по мнению сэра Дария, музыкальным сопровождением.
Под бой барабанов и завывание рожков болельщики скандировали: «Не будь разиней, скажи нет, запрети межобщинный крикет». Сэру Дарию Ксерксу Каме было известно, что Махатма Ганди и его последователи осудили Пятикомандный турнир как мероприятие, разжигающее межобщинную рознь, в ходе которого люди, «не преодолевшие колониального мышления», забавляли, словно дрессированные обезьяны, англичан, помогая им «разделять и властвовать». Сэр Дарий не был сторонником Независимости. Националисты! Его душу обуревали сомнения: он склонялся к тому, что было бы неразумно передать управление Индией людям с таким вульгарным музыкальным вкусом. Что касается самого господина Ганди, то сэр Дарий, правда нехотя, признавал, что тот заслуживает всяческого уважения, но, если бы только он, Дарий, сумел убедить великого человека облачиться в спортивный костюм и познать азы крикета, Махатма наверняка изменил бы свое мнение относительно турнира, воспитывающего дух состязательности, без которого ни один народ не может занять достойное место в мировом сообществе.
Когда сэр Дарий вышел к полосе, кто-то из болельщиков крикнул: «Леди Дария в игре!» И тотчас же оскорбительно большая часть толпы – должно быть, христиане, англо-индийцы или евреи, раздраженно подумал сэр Дарий, – подхватила издевательский куплет: «Леди Кама, где же драма? Отбивай, не будь упряма!» Дуу-трр-блям! «Где же драма, леди Кама?»
Тут сэр Дарий заметил, что рядом с болельщиками-националистами на траве расположились его пятилетние близнецы Сайрус и Вайрус вместе со своей айей[19]. Они радостно ухмылялись и, казалось, были в восторге от всего этого кривляния. Сэр Дарий сделал в их сторону несколько шагов и махнул битой. «Хусро! Ардавираф! Уйдите в сторону!» – крикнул он. Непрекращающийся шум и гвалт не дали мальчикам и няньке расслышать его слова; приняв его жест за приветствие, они помахали в ответ. Насмешники же, решив, что он грозит им битой, удвоили свои усилия. Их издевательская музыка стояла у него в ушах. Сэр Дарий, приготовившись отбивать, уже был в смятенном состоянии духа.
Мистер Арон Абрахам, первый боулер из команды «Остальных», в этих сложных условиях посылал такие мячи, что сэру Дарию едва удалось выдержать три первые подачи. Видя, что он не сдается, националистская клака подняла еще больший шум. Дуу-трр-блям. Барабаны и рожки наигрывали мелодию, и теперь его мучители безостановочно скандировали: «Леди Дария, не зевай! Сделай утку[20], прочь ступай!»; через минуту у них родилась новая версия, явно понравившаяся остальной публике: «Леди Дональд, утку дай».
Сэр Дарий направился в другой конец площадки посовещаться с напарником.
– «Прочь»! – кипятился он, рассекая битой воздух. – Я им покажу «Прочь»! И что это еще за Дональд? – Задавая вопрос, он вдруг вспомнил свой недавний поход в кино вместе с двойняшками. Они смотрели «Наши времена» с Чаплином – фильм, восхищавший сэра Дария кроме всего прочего тем, что он оставался немым. В сопутствующей программе был мультфильм, главным героем, а точнее, антигероем которого был ужасно шумный и агрессивный утенок, независимо шагавший по жизни на своих перепончатых лапах. Сэр Дарий повеселел. – Дональд, говорите? – рявкнул он. – Ха-ха! Сейчас я покажу этим хамам Дональда!
Напрасно Хоми Катрак пытался его успокоить:
– Пусть себе орут. Нужно играть, и тогда они увидят, чего мы стоим.
Но сэр Дарий уже закусил удила. Четвертая подача Арона Абрахама оказалась слабой, и сэр Дарий не упустил свой шанс. Он ударил со всей силы, прицельно направив мяч прямо в группу испытывавших его терпение болельщиков-националистов. Впоследствии, в приступе запоздалого раскаяния, он признавал, что уязвленное самолюбие взяло в нем верх над отеческим благоразумием. Но было слишком поздно: крикетный мяч на огромной скорости отправился к границе поля.
Он не причинил вреда никому из болельщиков, и не было никакой возможности скорректировать траекторию его полета, но многие зрители, оказавшиеся на его пути, спешили увернуться, потому что он летел с пугающей скоростью – прямехонько в то место, где, не сдвинувшись ни влево, ни вправо, стояли и аплодировали великолепному удару отца дизиготные близнецы сэра Дария Ксеркса Камы – стояли, не испытывая страха, твердо уверенные, что любимый отец не способен причинить им вред.
Несомненно, часть ответственности за происшедшее лежала на их нерасторопной айе, но с того самого момента, когда сэр Дарий осознал, чтó сейчас произойдет, он не винил никого, кроме себя. Его предостерегающий крик заглушили барабаны и рожки, и мгновение спустя тихий и медлительный Ардавираф был сражен крикетным мячом, угодившим ему прямо в лоб, и упал как подкошенный, словно сбитая деревянная чурка.
Возможно, в то самое время, когда судьба переписывала историю семьи Кама посредством этого жестокого росчерка – траектории полета красного крикетного мяча, направленного битой отца прямо в лоб сыну, – мои мать и отец впервые встретились в приюте сестер Девы Марии Благодатной.
Когда дело касается любви, люди способны убедить себя в чем угодно. Несмотря на все очевидные доказательства переменчивости жизни, этой долины с множеством расселин, и огромной роли слепого случая в нашей судьбе, мы упрямо продолжаем верить в преемственность происходящего, его причинную обусловленность и значимость. Но мы живем на поверхности разбитого зеркала, и каждый день на нем появляются все новые трещины. Одни (как Вайрус Кама) могут соскользнуть в такую трещину и исчезнуть навсегда. Другие, подобно моим родителям, могут случайно оказаться в объятиях друг друга и влюбиться. В полном противоречии с преимущественно рационалистическим видением мира мои отец и мать всегда верили, что их свела друг с другом Судьба, которая была так непреклонна в своем намерении соединить их, что явилась, если так можно выразиться, сразу в четырех обличьях: светском, генеалогическом, гастрономическом и в обличье сестры Джон.
Они оба пришли навестить леди Спенту Кама, и оба были в неподобающем случаю трауре, так как еще не знали о рождении малыша Ормуса. Движимые сочувствием и самыми добрыми побуждениями, они явились утешить леди Спенту и выразить ей соболезнования. Мои родители были на целое поколение моложе сэра Дария и леди Спенты и стали друзьями семьи сравнительно недавно. Неожиданная дружба возникла между двумя мужчинами на почве любви к Бомбею – созданного британцами великого города, главным хроникером которого впоследствии стал мой отец В.-В. Мерчант, архитектор, получивший образование в Англии, чьей страстью была местная история (а также скромный автор прославленного любительского фильма). Сэр Дарий Ксеркс Кама, удостоенный титула баронета за заслуги перед Индийской коллегией адвокатов, любил с громким смехом повторять, что и он, подобно городу, был творением британцев и гордился этим. «Когда вы будете писать историю Бомбея, Мерчант, – громогласно возвестил он однажды вечером, сидя в клубе за ужином, состоявшим из супа маллигатони и рыбы помфрет, – то, возможно, обнаружите, что написали историю моей жизни». Что касается моей матери, то она познакомилась с леди Спентой Кама на заседаниях Бомбейского литературного общества. Леди Спента была там наименее начитанной из всех, однако ее величественное безразличие в сочетании с почти гималайской невинностью внушали младшей (и гораздо более умной) Амир своего рода благоговейный трепет, который, прими события иное направление, мог бы перерасти в дружбу.
В приемной, среди сияющих родственников новорожденных мальчиков и демонстрирующих напускную радость родственников новорожденных девочек, мои будущие родители являли собой странную пару: он – в темном костюме и с похоронным выражением лица, она – в простом белом сари, без драгоценностей и почти без косметики. (Много лет спустя мать призналась мне: «Я всегда была уверена в любви твоего отца, потому что, когда он впервые меня увидел, я выглядела хуже буйволицы».) Мои родители были единственными облаченными в траур в этом месте всеобщей радости, поэтому ничего удивительного, что их потянуло познакомиться поближе.
Обоим было не по себе в предвкушении встречи с леди Спентой и сэром Дарием вскоре после понесенной теми, как они думали, утраты. Мой кроткий и мягкосердечный отец, должно быть, переминался с ноги на ногу и, демонстрируя выступающие вперед кроличьи зубы, смущенно улыбался. Застенчивость мешала ему проявить всю глубину живших в груди чувств, а необщительность заставляла предпочесть затхлый воздух городских архивов непостижимому хаосу бомбейской жизни. Амир, моя мать, «богатая по имени и по семейному счету в банке», как она сардонически выражалась впоследствии, тоже, должно быть, чувствовала себя не в своей тарелке, так как ей одинаково трудно давались и соболезнования, и поздравления. Я вовсе не хочу сказать, что она была бесчувственной или холодной, совсем наоборот. Моя мать была разочарованной альтруисткой, рассерженной женщиной, которая явилась в этот мир, ожидая обнаружить здесь более привлекательное место, и никогда не смогла оправиться от обескуражившего ее открытия, что нормальное человеческое существование – это вовсе не беспечная радость, а беспросветное страдание. Ни добрые дела, ни приступы раздражения – хотя и то и другое несомненно впечатляло – не могли излечить ее от разочарования в планете и населяющих ее собратьях по виду. Ее не покидало ощущение, что космос ее предал, и окрашенная этим ощущением реакция на рождение или смерть могла показаться постороннему наблюдателю несколько, мягко говоря, циничной. А если говорить прямо – бессердечной, жестокой и вдобавок смертельно оскорбительной. Мертвый младенец? А чего еще ожидать? В любом случае для него все это уже позади. Живой младенец? Бедняжка. Только представьте, что его ждет. Это была вполне естественная для нее мысль.
Однако, прежде чем она успела пуститься в подобные рассуждения и этим навсегда оттолкнуть моего отца, она сделала потрясшее ее открытие, и история, как поезд, который меняет направление из-за внезапно переведенных стрелок, двинулась по совсем иному пути.
– Я Мерчант, – представился мой отец. – Как Вайджей, но мы с ним не родственники, хотя я тоже – В. Точнее – В.-В.
Амир нахмурилась – не потому, что не знала Вайджея Мерчанта, восходящую звезду индийского крикета, но…
– Это невозможно, – возразила она. – Вы не можете носить эту фамилию. Я, – для убедительности ткнула она себя пальцем в грудь, – я Мерчант. Амир.
– Вы? (Озадаченно.)
– Я. (Выразительно.)
– Вы – Мерчант? (Покачивание головой.)
– Да. Мерчант. Мисс. (Пожимание плечами.)
– Тогда мы оба носим фамилию Мерчант, – недоуменно произнес В.-В.
– Не говорите глупостей, – ответила Амир.
В.-В. Мерчант поспешил объясниться:
– До моего деда мы были Шетти, или Шетии, или Шеты. Он англизировал нашу фамилию, сделал ее стандартной. Он также перешел в другую веру. Стал, как говорится, плохим мусульманином. Точнее сказать, непрактикующим мусульманином, как и все мы. Вы спросите, зачем это было ему нужно? На это я могу ответить только: а почему нет?
– Шеты, говорите? – задумчиво произнесла Амир, не позволяя ему отклониться от темы.
– Теперь Мерчанты.
– Значит, вы Мерчант, – наконец признала она.
– К вашим услугам.
– Но мы не в родстве.
– К сожалению, нет.
Во время вышеприведенной беседы моя мать пришла к важному, хотя и предварительному решению. Под застенчивостью В.-В. Мерчанта с его выступающими передними зубами она угадала прекрасную душу, способную к глубокому постоянству, – камень, на котором, как она потом любила святотатственно хвастать, она могла воздвигнуть свою церковь. Поэтому она смело заявила не терпящим возражений тоном:
– В отношениях между купцами не бывает середины. Мы должны стать или соперниками, или партнерами.
Мой отец покраснел так сильно, что даже его растрепанные и начавшие редеть волосы зашевелились от удовольствия.
То, чему положили начало светские условности и что было продолжено совпадением фамилий, закрепили скромные дары, предназначавшиеся леди Спенте. С удивлением мистер В.-В. Мерчант увидел в руках мисс Амир Мерчант маленький пакет; с неменьшим удивлением мисс Амир Мерчант отметила, что мистер В.-В. Мерчант держит в руках точно такой же. На обоих пакетах красовалось имя одного в высшей степени респектабельного гастрономического магазина рядом с Кемпс-Корнер, а внутри находились одинаковые стеклянные баночки.