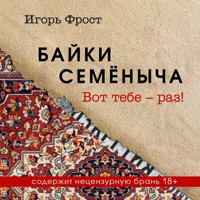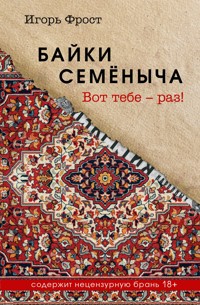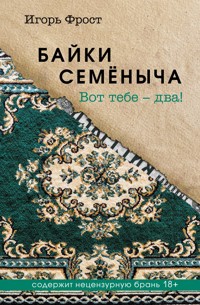
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Мастера прозы
- Sprache: Russisch
Ровно так же, как и первая, наполнена она историями и событиями, об истинной подлинности которых предстоит судить только вам, книгу эту теперь в руках держащим. Но судить строго и безапелляционно совершенно не обязательно. Байки – они на то и байки, чтобы помимо чистейшей правды содержать в себе немного, совсем немного, не совсем чистейшей правды. Капельку фантазии содержать… И вновь истории эти полны смешного и поучительного. Вновь относят они нас всех в недавно минувшее прошлое, согревая память теплом воспоминаний и будоража души ностальгией по прошедшему. Вновь стремятся истории эти не гротеском и потрясающими масштабами мозг сокрушить, но эмоции и сопереживания вызвать. Самые разные эмоции и переживания, которых в наши времена порой очень сильно не хватает. На этот раз Семёныч, вспоминая прошлое, которое вполне себе только в его фантазии может существовать, не только об удивительных приключениях рыболовов и охотников, о похождениях которых отдельные тома писать можно, о привычных уже генералах и прапорщиках, жизнь каковых событиями полна, как никакая другая, рассказывает. Он в этот раз и про себя с изрядной долей самоиронии поведать решает. Одним словом, много. Много всего в этой, второй уже, баечной книге. И пусть вопрос «было оно или не было» при прочтении для вас не главным будет. Это и не важно. Важно, чтобы удовольствие и радость от книги на какое-то, пусть и непродолжительное время, остались в сердце, душе и разуме. Пусть так и будет!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Игорь Фрост Байки Семёныча. Вот тебе – два!
© Игорь Фрост, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Предисловие
Здравствуйте! Здравствуйте, друзья мои!
Как это, видимо, и прочитывалось по окончании первой книги, я вернулся к вам со второй. Пишу я ее, не сильно заботясь тем, что писательство, кто бы и что бы об этом ни говорил, вовсе не моя стезя. Пишу, не взирая на то, что никогда не собирался, да и не собираюсь, отринув все, чем я занят в своей основной жизни, погрузиться в литературный мир и искать для себя славы «настоящего писателя». Уж пусть они, настоящие, там, на литературном Олимпе, как-нибудь без меня обойдутся. Тесно у них там, да и желающих на вершине в лучах славы погреться из предгорьев во множестве к солнцу лезет. Не стремлюсь я туда. Совершенно по иной причине в клавиатуру пальцами с усердием тычу.
Оттого я пишу вновь, что есть у меня о чем вам порассказать, а писать меня еще в первом классе средней школы очень прилично научили. Так отчего же не скрестить умение с желанием? Ну вот я и скрещиваю.
Честно скажу, приступил я к ней, этой второй уже книге в моей жизни, даже не дожидаясь вашей реакции на первую, ни одной секунды не терзаясь сомнениями в том, а надо ли это вообще хоть кому-нибудь. И даже если это будет не нужно вообще никому, это останется нужным мне, человеку, которого все новые и новые истории распирают изнутри и тихими голосами просят выпустить их в мир. Пусть все будет так, как тому быть суждено, – просто найду немного свободного времени и вылью на бумагу их, вновь в моей голове проснувшихся, как к своему, так и к вашему, я очень на это надеюсь, удовольствию, решил я и, не откладывая задуманное, произвел на свет Божий то, что вы теперь держите в своих руках.
Здесь, во вторых по счету «Байках…», собрал я в кучку разные воспоминания, разбуженные мною во время работы над первыми «Байками…». Сюда же вошло кое-что, вспомнившееся по результату ночной задушевной беседы с позвонившим другом, который себя в первой книге узнал. Произнеся сакраментальную фразу «А ты помнишь?», брат моего Детства и друг моей Юности, человек с прекрасным именем Ильхам будто открыл задвижку на каком-то доселе забытом участке памяти, откуда выплеснулся фонтан прошедшей жизни, восхитив новой силой и яркостью.
Вошли в эту книгу, как и в первую, рассказы о людях и временах, о событиях и нравах, о смешном и не очень. Я даже немного о себе самом малость порассказать решил. В общем, много чего нового вошло во вторую книгу. А может быть, даже и фантазии бурные с враньем бессовестным тоже вошли. Но на то я и автор, что все права имею. А уж что там правда, а что почти правда, так это вам, друзья мои, самим по прочтении решать. Хочется же мне верить, однако, что будет вам и интересно, и весело, и даже немножечко грустно. Потому от всего сердца и с затаенной надеждой желаю вам удовольствия и самых разных эмоций, каковые эта книга, я на это надеюсь, сможет доставить. Пусть будет вам по-всякому, главное, чтобы не было скучно.
Ох уж эти глупости!
Глава 1
Случилась однажды с одним знакомцем моим Петькой Ефимовым история, хоть и познавательная, конечно же, но при этом чрезвычайно неприятная. Было это давно, и исполнилось Петьке на момент этой истории чуть-чуть больше восемнадцати годков. Совсем немногим больше. А потому, раз уж так с возрастом приключилось, почти незамедлительно по окончании средней школы, осенью того же года, родимый военкомат прибрал Петьку в ряды Вооруженных сил Советского Союза, нисколько не смущаясь его недавним школьным прошлым. Произошло это по той причине, что Петька наш октябрьский. Под самое завершение этого прекрасного осеннего месяца мама его ко всеобщей радости когда-то родила. В аккурат в один день с тогда еще существовавшим и в полную силу здравствующим ВЛКСМ. Со Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи то есть. С комсомолом, если уж совсем по-простому.
Ну и вот, родился он, значит, под занавес осени, и вроде бы ничегошеньки в этом страшного нет, но потому как у нас начало календаря учащегося или дошкольника какого-нибудь с первым днем осени совпадает, образовался в Петькином жизненном ритме некоторый диссонанс. Всем, кому уже очередной годок стукнул, при наступлении Дня знаний нужно в следующий класс или более старшую группу на воспитание и обучение следовать, а у Петьки нашего к тому самому первому сентября по «пачпорту» еще нужного возраста не наступило! Всем первоклашкам, на торжественной линейке бантами и белыми рубашками сверкающим, уже по семь, а он, бедолага, еще почти два месяца в шестилетках ходить должен. Да-а-а-а… Ситуация! Нет, ну в детский садик его, конечно же, приняли без оглядки на возраст и дату рождения. Там вообще всех берут. Берут и, лишь на косвенный признак прожитых лет опираясь, по разным возрастным группам распределяют. Ну а потому как они, дошкольники эти, лет и зим еще не сильно много прожили, то делить их сравнительно просто, и групп таких, как правило, много не бывает.
Так и Петьку в детсад взяли, когда ему «чуть больше трех» стукнуло, и в группу с такими же, которым «где-нибудь около трех», определили. И дальше все как по писаному: с каждым новым первым сентября Петька со своими одногоршечниками по карьерной лестнице дошкольного учреждения в рост шел. До тех пор шел, пока под самый финал подготовительной группы с необходимостью в первый раз в первый класс сходить не столкнулся. Вернее, это даже не он, а мама его, замечательная женщина Надежда Алексеевна, со всей красотой и неизбежностью возрастного казуса лоб в лоб встретилась. И дело тут в том, что всем без исключения одногруппникам, с которыми Петька за три года детсадовской жизни почти сродниться успел, на момент выпускного утренника полновесных семь лет стукнуло или уже летом стукнуть обещало, а вот Петька по причине своего осеннего дня рождения все еще сопливым шестилеткой по закоулкам детсадовского корпуса шастал. И даже больше, к первосентябрьскому букету ему так семи лет и не наступило бы, как ни старайся.
И выходило тогда по законам неумолимой природы, что Петьке, если на то воля его мамы случится, в школу не возмужавшим семилеткой, а малость недозревшим шестилеткой идти следовало. Самого Петьку и сотоварищей сей факт не сильно смущал, а вот мама малость засомневалась. Не в том засомневалась, что Петька физически школу не потянет, нет. Петька, хорошей наследственностью одаренный и богатым южным климатом обласканный, вырос мальчуганом рослым и вполне себе крепким. На голову выше своих сверстников, с розовой, блещущей задором и бодростью рожицей. Здоровеньким, одним словом, мальчуганом вырос Петька. Тут не в габитусе все дело, нет. Задумалась Петькина мама о том, что неокрепший мозг розового шестилетки очень сильно уступает в своей мощи зароговевшей психике возмужавшего семилетки. Очень сильно об этом Петькина мама задумалась. А тут еще и воспитательница сердобольная, которая в Петьке души не чаяла, убедительно сообщила маме, что «дополнительный годочек детства еще никому вреда не приносил» и что «успеет еще по школе-то помыкаться, горемыка». Мама с аргументами жизненно опытной воспитательницы согласилась полностью и потому решила Петьку еще на один год в подготовительной группе оставить. Для того чтобы в двойном повторении уже пройденного курса «молодого дошколенка» смог Петька как следует к суровым школьным будням подготовиться.
Вот по этой самой причине и пошел наш Петька в школу пусть и семилетним малышом, но вполне себе сформировавшимся восьмилеткой, отстав от своих детсадовских закадык прошлых лет аж на цельный год школьного обучения. И не имело бы это никакого значения, если бы не приказ министра обороны СССР, товарища Устинова Дэ Фэ, повелевший в осень 1985 года взять за микитки всякого, кому на тот момент восемнадцать годков исполнилось, и со всей отеческой заботой и максимальной нежностью в ряды Вооруженных сил препроводить. На цельных два года препроводить. Бегать от армии тогда у большинства мужского населения было не принято, и потому потянулась в военкоматы нескончаемая вереница призывников свое здоровье на медицинской комиссии доказать и на пару лет из дома по государственным делам отъехать. И хоть министр «Под ружье!» в сентябре приказал, когда Петьке все еще семнадцать лет исполнилось, от армии его это все равно не уберегло, потому как длилась призывная кампания три полноценных месяца, и в самый ее разгар свершились-таки Петькины искомые восемнадцать. Тогда свершились, когда эта самая кампания только-только свой разбег набрала. Ну а потому как в советских военкоматах всякий гражданин, за ружье держаться способный, на обязательном воинском учете состоял, его, сердешного, если он особых противопоказаний к тому не имел, в установленное время и в установленном порядке призывали Родине послужить и накопившийся гражданский долг вернуть. Желательно – с процентами.
Не минула и Петьку чаша сия.
В аккурат между торжественным салютом в честь его дня рождения и общегосударственными праздниками в ознаменование Великой Октябрьской социалистической революции принесли Петьке, вчерашнему школьнику, клочок серой бумажки с пугающим названием «Повестка», пропечатанным по самому верху типографским шрифтом. Сообщалось в ней, в этой самой повестке, что областного военкома, целого полковника, не сильно беспокоит тот факт, что Петька всего четыре месяца назад на выпускном вечере белого вина почти что допьяна напился, а еще полгода назад озорным школьником с портфелем на занятия бегал. Нисколько его, военкома, это не интересовало. Исполнилось, мил друг, восемнадцать? Исполнилось! Не поступил в высшее учебное заведение? Еще как не поступил! Хворей хронических, контузий головного мозга или еще каких-нибудь противопоказаний в виде инвалидности не имеется? Совсем не имеется! Ну а в таком разе чего кота за хвост, будто он резиновый, тянуть и время понапрасну тратить? Нет в том никакого смысла. Так что будь любезен, Петька, позавчерашний школьник, в сегодняшние солдаты «ша-а-а-а-агом, а-а-а-арш!».
Не сильно сопротивляясь велениям судьбы и приказу министра обороны, Петька, вооружившись трехдневным запасом пищи, чистым нижним бельем, зубной щеткой и новой расческой, в аккурат на День милицейского работника убыл из родимого дома для исполнения почетного долга каждого мужественного гражданина СССР. О том, как доехал и как его приняли в дружной семье военнослужащих, рассказывать не буду, потому что коротко все это, скучно и не интересно. Скажу только, что более ранние романтические представления Петьки о службе в армии практически не оправдались, а вот смутные предчувствия предстоящих невзгод и рассказы старших парней о «тяготах воинской службы» реализовались аж троекратно.
Оказавшись в чуждой и временами неоправданно агрессивной среде, растерялся наш Петька поначалу, и честно нужно сказать, в первые месяцы несения своего армейского повиновения вид от этого имел весьма близко напоминающий велосипед, на который натянули солдатский мундир, торчащий во все стороны неопрятными складками. Настоящего солдата, коему вид иметь следовало бравый и залихватский, в том Петьке можно было распознать только по погонам и кокарде, а розовое, почти детское личико еще долго выдавало в нем недавнего школяра. Взгляд его был слегка растерянным, а на лице круглыми сутками отражалось мучительное желание скушать чего-нибудь из съедобного, и желательно – сладкого. Поверх всей этой картины, ярко живописующей юного призывника-первогодка, хорошо читались две основные мысли. Первая: «Блин! Да за что же мне все это?!» и вторая: «Мама моя, роди меня обратно! До дембеля-то еще целая вечность!» Причем вторая мысль терзала Петьку куда как сильнее первой.
Будучи мальчиком начитанным, о гражданском долге каждого мужского человека в СССР и законе «О всеобщей воинской обязанности» Петька знал хорошо, и потому ответ на первую терзающую мысль он давал сам себе: «Не „за что“, Петя дорогой, а „почему“! А потому, дружище, что Родина так повелела!» Ну а получив вразумительный и, что самое главное, совершенно логичный ответ, Петька от неопределенности причины наступившего черного периода расстался полностью и расстраиваться перестал. А вот горечь от предстоящей вечности в ожидании славной демобилизации ясного и логического ответа и обоснования под собой не имела и посещала Петьку по три раза на дню все первые месяцы службы. Шесть месяцев, если быть точным.
И если с необходимостью отдавать свой гражданский долг он хоть как-то мог смириться, то с вечностью что-либо сделать было решительно невозможно. Тянулась она, как тугая патока, и ускоряться не хотела ни в какую! Каждое утро дней до дембеля по-прежнему оставалось несколько сотен, и это, согласитесь, когда тебе не сильно нравится в армии, факт совсем не радостный. Ну а через шесть месяцев, пообтершись и научившись правильно носить ХБ, морду приобретя хитрую и молодцеватую, часто задумываться о бренности бытия и предстоящей вечности Петька перестал. И даже если вспоминал о том, что ему тут еще год с хвостиком мытариться, то только в тех случаях, когда от родителей или от закадычного друга Ильхама, с которым еще со времен их ползункового детства дружил, письма с описанием событий его родного двора получал.
Важно сказать, что вырос Петька в сильно южном городе. Настолько южном, что вся остальная страна, в нарушение непреклонной географической логики и неумолимых законов физики, всегда располагалась строго на север. Солнечных дней в этом городе странным образом было больше трехсот шестидесяти пяти в год, а снег выпадал на пятнадцать минут два раза за зиму, ну, просто так, чтобы о нем как о природном явлении не забыли. В январскую «стужу» Петькина мама, собирая его в школу, настойчиво увещевала надеть пиджак, потому как: «На улице сегодня сильно холодно – всего плюс десять!» И, надев тот самый пиджак, добежав до школы за несколько коротких минут, умудрялся Петька по пути замерзнуть до синевы на губах и окоченения в пальцах всех своих конечностей. Февральские же плюс двадцать казались всем жителям того города благословением Господним и долгожданным потеплением после долгой, аж в целую неделю продолжительностью, и изматывающе лютой зимы с неимоверными морозами в плюс пять градусов. Плодородие же в этих краях было такое, что, к примеру, лопату, в землю воткнутую, надолго так оставлять нельзя было ни в коем случае. Черенок корни пускать начинал и свежими ветками обрастал, зараза! А уж фруктов и овощей всевозможных там в таком изобилии произрастало, что почти круглый год их прямо с грядок и веток от пуза и немытыми руками кушать можно было.
И еще одна радость была в том городе: со стороны сопредельного государства, носящего скромное название Афганистан, хорошим таким, жирным потоком лилась контрабанда всевозможная, в себе материальные блага загнивающего Запада несущая. Промышляли этим благородным ремеслом все без исключения, кто хоть какую-то возможность имел на законных основаниях через пограничную реку переправиться и там, в дуканах афганского городишки с красивым названием Хайратон, капиталистическим ширпотребом отовариться. И водители автотранспортного предприятия, которые по межгосударственному соглашению в соседнюю республику ежедневно фурами материальную помощь от дружественного советского народа возили. И работники речного пароходства, которые по реке, границей между государствами служащей, баржи и иные кораблики в нуждах народного хозяйства сопредельной страны гоняли. И всевозможные работники торговых представительств и внешнеторговых банков великого на тот момент и еще сильно могучего СССР. Да и сами пограничные стражи, чего уж тут греха таить, в этом дружном оркестре изворотливых индивидов отнюдь не последнюю скрипку играли.
По этой причине гражданам, проживающим в Петькином городке и имеющим достаточно средств, чтобы заплатить за иностранный ширпотреб, не составляло никакого труда шляться по улицам в настоящих Levi's и Adidas, а дома с упоением рассматривать видеофильмы о крикливом Брюсе Ли на японском видеомагнитофоне, купленном, правда, за половину стоимости двухкомнатной квартиры. Ну а дальше, после того как удовлетворялся спрос местных горожан, все это заграничное богатство, естественно прирастая в цене, расползалось по необъятным землям Советского Союза, обогащая неимоверно всякого Петькиного земляка, который это иностранное барахло из сопредельного Афганистана умудрялся привозить.
Однако, если сказать по правде, Петькина семья финансовым избытком почти никогда обременена не была и похвалиться пресыщенностью на бытовом уровне попросту не могла. Не на все и не всегда денег хватало. Тем не менее и у него годам к восемнадцати уже были свои собственные фирменные джинсы, а в доме имелся пусть и старенький, но все-таки двухкассетный магнитофон, произведенный на свет известной японской компанией в славном японском городе Кадома, что раскинулся в не менее славной префектуре Осака. Поэтому, будучи облагодетельствованным прекрасным звуковоспроизводящим прибором, обменявшись кассетами со всеми знакомыми и незнакомыми раз по десять, мог Петька на слух, уверенно и безошибочно, отличить Сьюзи Кватро от Фредди Меркьюри. А альбомы «Битлз» мог перечислить по названиям и годам выхода, даже если его с этим вопросом посреди ночи ведром холодной воды разбудить.
Вот в таких вот замечательно интересных условиях и вырос наш Петька. Свободным, как южный ветер афганец, и крепким, как мореный саксаул. Горести бытия и жизненные невзгоды пропускал он через себя, не сильно кручинясь, проявляя при этом истинные и лучшие качества преданного ученика древнегреческого товарища Зенона Китийского. Согласитесь, ну ведь не повод же это вовсе, руки заломив, в трагедию уходить и в душевные терзания пускаться, если тебе от отца за разбитый радиоприемник, к примеру, или за карбидовую бомбу, во дворе звучно взорванную, экзекуция ременная светит. Чего тут в мучительных предчувствиях терзаться, катастрофического исхода ожидая? Не нужно вовсе, потому как лишнее все это. Совсем ведь не сложно из дома на пару-тройку дней удалиться, дабы рассерженному прародителю гневные очи не мозолить. Всего и делов-то! Поспал на уличном топчане под тенистым виноградником, тем же виноградом с утра подкрепился, и вперед – нас ждут великие дела! Месить босыми ногами пыль улиц и мутить деяния, близкие по тяжести с уже разбитым приемником и взорванной бомбой. А через пару дней и возвернуться можно, потому как и про приемник уже забывать начали, и по Петьке уже малость заскучали. В общем, не жизнь, а сказка. Оттого, такой сказочной жизнью взращенный, представлял собой Петька яркую и насыщенную смесь из любознательного пионера, почти отличника времен социалистического общества и пронырливого беспризорника Гавроша, проживавшего некогда в Париже времен Июньского восстания. Замечательный и примечательный мальчик, одним словом.
Сейчас-то Петька, конечно, мужчина хоть куда! Отец семейства и уважаемый гражданин. Взгляд грозный, голос командирский, поступь тяжелая. Что ни на есть орел! Теперь-то на нем то самое ХБ, а то и «парадка», свободный крой гражданского костюма имеющая, не только пуговицами не сойдутся, нет, они на его внушительную фигуру, за сто двадцать килограмм перевалившую, теперь просто-напросто не налезут. Из него теперь, если весь нынешний вес поровну поделить, почти двух прежних Петек сделать можно. Да и Петькой его теперь мало кто называть отважится. Он теперь для всех Пётр Сергеевич. С уважением и причитающимся пиететом, понимаешь! Но всякий, кто с ним, как и я, лично знаком, может непосредственно из первых уст выведать, что в этой истории не вру я ни одним, даже самым маленьким словом и что все оно так и было на самом деле.
Глава 2
Ну и вот… Такой вот свободолюбивый и музыкально продвинутый Петька ровно в срок, на то положенный, отправлен был служить в ряды, тогда еще Советской армии на два действительно длинных года. Как это на его внешнем виде и мировоззрении отразилось, я уже выше сказал. Не так чтобы радостно и лучезарно, если честно, отразилось. Но тут удивляться нечему. С ними, которые в свои восемнадцать лет стукнувшие Родине служить отправлялись, тогда почти со всеми так было. Первые полгода службы все как один кислые и нескладные «Петьки», в тоске по родимому дому изнывающие и тот факт, что Родине задолжали и время пришло долг сполна отдавать, от всей души порицающие. А вот в последние полгода служения Отечеству, когда уже шесть пар сапог до дыр заносят и близость встречи с домашним очагом почувствуют, смотрятся вчерашние мальчишки уже никак не хуже, а может быть, даже и получше, чем киношный Джон Рэмбо, с его здоровенным ножом и раскрашенной физией. Ну прямо боевые тигры, безропотно переносящие все без исключения тяготы и невзгоды! Казарма уже как дом родной, кроме как строем, ходить уже не умеют и при дембельском расставании горючими слезами горько рыдают, в вечной дружбе до самой гробовой доски друг другу клянясь.
Нужно, однако же, сказать, товарищи дорогие, что, когда военком для Петьки род войск выбирал, в котором ему, Петьке, честно и самоотверженно послужить предстояло, сфартило нашему герою-призывнику значительно. Побродив остро заточенным карандашом по списку возможных мест службы, от холодных причалов Северного флота, где славному Петьке, ставшему матросом, не два, а целых три года служить пришлось бы, до «уютных» бараков строительного батальона, расположившегося в глухой лесотундре Дальневосточного военного округа, военком, пребывавший тем днем в бодром здравии и добром расположении духа, ткнул куда-то в середину длинного перечня войсковых частей и, удовлетворенно хмыкнув, сказал: «Ага-сь…»
Хмыкнул и отправил Петьку не абы куда, к черту на кулички, а в целую ставку Южной группы войск СССР. А это, товарищи дорогие, не шутка вовсе! Это главный штаб и центр управления аж тремя военными округами! Это совсем немножечко пониже Министерства обороны будет. Круто, помпезно и престижно. Да и город, где этот штаб располагался, среди народонаселения считался южным и теплым, куда как более пригодным для несения воинской повинности, нежели какой-нибудь Оймякон, предположим.
Южным? Ой, мамочки мои, ну смешно же! Он, город этот, на полторы тысячи километров севернее Петькиной малой родины расположился и, на Петькин взгляд, был морозной северной Тмутараканью, хоть и имел статус столицы большой, тогда еще совсем советской социалистической республики. Впрочем, обращать внимание на Петькины представления об истинно уютных городах в то время вовсе не стоило. Совершенно не стоило. Он настолько любил свой маленький городишко, самым загадочным образом одновременно утопающий и в густой пыли, и в пышно цветущей зелени, что не променял бы все чудеса Монмартра и величие острова Манхэттен на местечковый уют своих родных улиц и закоулков. По правде же говоря, город, в котором расположился ставочный штаб, был настолько древним, что в момент его основания даже бумагу еще не изобрели, чтобы факт сей в письменном источнике задокументировать. А архитектурой своей, как старинной, так и новейшей, кухней национальной, богатейшей и многообразной, а также теплым гостеприимством местного народа город этот, как тогда, во времена стародавние, так и теперь пленяет и восхищает всякого, кто в него приехать удосужится. Ему, городу этому, в свое время даже Михаил Боярский в роли неуемного Д'Артаньяна хорошо поставленным голосом благодарность воспевал. Именно так! Скачет на лошадке, плюмажем на голове потрясывает, ус крутит и во все горло «Мерси, Баку!» орет.
Хороший город, одним словом. Заслуженный.
Ну так вот, штаб этот самый, ставочный, в котором Петьке послужить надлежало, в самом центре этого прекрасного города располагался. Располагался и территорию при этом занимал огромнейшую, на всякий случай пятиметровым забором от гражданского населения отгороженную. Но при всем при этом, вопреки ожиданиям всякого гражданского, взиравшего извне на почти тюремный забор и в вопрос не посвященного, внутреннее пространство штаба выглядело вовсе не как военный полигон или, положим, внутриказарменное пространство, нет. Выглядело и благоухало это замечательное пространство как богатый дендропарк, в многообразии растительности практически не уступавший тайскому тропическому саду Нонг Нуч. Очень сильно не похож был этот почти круглогодично цветущий рай на объект военной инфраструктуры. Совсем не похож. Ни тебе бетонных кубов штабных многоэтажек, ни казарм солдатских, ни плаца разлинованного, ни суеты круглосуточной. Исключительно аллеи тенистые, в растительном богатстве утопающие, клумбы да розарии всяческие, яркими розами цветущие и ароматами своими, как парфюмерный магазин, благоухающие.
Ну а потому как климат тут был, действительно, теплый, да еще и мягкий, морю прилегающему благодаря, богатство растительности в ставке было по-настоящему поразительным. Неустанными стараниями многих поколений садовников, с самого основания штаба здесь над зелеными насаждениями радевших, утопала территория ставки в представителях флоры практически всего земного шара. Привычные клены, тополя и березы перемежались с не менее привычными елками и соснами, но тут же богатыми мазками разбавлялась эта идиллия смешанного леса средней полосы уже незнакомыми рододендронами, кипарисами и бугенвиллеями. А в некоторых, особо солнечных местах произрастали даже пальмы, магнолии и остролистные агавы.
Поговаривали, что где-то в самой глубине, в самом что ни на есть укромном уголке ставочной идиллии, существовал фруктовый сад, дарящий столу верховного командования и сочные яблоки с грушами, и наполненную сахаром черешню с вишней, и горящий пламенем благородных рубинов гранат. И даже такой, тогда мало кому известный плод, как фейхоа, на стол командования из этого сада прибывал. Кусты же, цветущие и нецветущие, в разнообразии своем вообще никакому учету не поддавались. Много их тут было. Самых разных форм, расцветок и наименований. Так много, что и не перечесть. Рай, одним словом, а не военный объект союзного значения.
В раю же этом, в отличие от обычных строевых частей, где от бравого ефрейтора до целого полковника еще восемь видов воинских званий бултыхалось, в основном два вида кадровых офицеров всего-то и служило. Генералы да прапорщики. Ну а потому как еще Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин справедливо заметил, что генералов без мужика ну никак не прокормить, а прапорщики от роли простого народа всегда ловко уворачиваются, в ипостась неустанно трудящихся мужиков в том штабе определили обычных солдатиков, вынужденных пару лет любую службу, какую Родина прикажет, нести и не возмущаться. Вот в это-то удивительное место Петьку служить и отправили, потому как генералам рядовой солдатик очень полезен и необходим.
Генералы же, в этом прекрасном раю в служении Отечеству утруждавшиеся, как им это и положено, высокую военно-стратегическую ответственность на себе несли. И от ответственности такой обязаны были генералы, все как один, выглядеть сурово и отважно, потому как и пост, и доверие возложенное, и положение высокое обязывают! Идет, бывало, такой генерал по тенистым аллеям, из корпуса в корпус по неотложным военным делам неторопливо следуя, и сразу видно – большой и совершенно ответственный чин перед тобой. Осанка, выправка! Взгляд суровый и испепеляющий! Мастодонт, а не человек! Глыба! У него фуражка такая, что под ней песочницу детскую от дождя укрыть можно, а лампасы на штанах в два раза Петькиной ноги шире, к примеру. Да и лампасы-то всё разные: и синие, и красные, и зеленые! Особенно васильковые хороши. Не лампасы, а феерия цвета! Залюбуешься.
А как мундир парадный такой генерал наденет, так диву даешься, какую неимоверную физическую силу человек внутри этого мундира обретает. Такой вес золота в шитье и бронзы в медалях поднять, да еще и уверенно на себе нести только два вида людей себе позволить могут: штангисты и генералы. Да такой генерал у любого встречного «не генерала» вызывал дрожь в коленях, слабость в кишечнике и жгучее желание куда-нибудь поскорее спрятаться. Ну а потому как войн в стране, слава Богу, уже давно не было и, еще большая хвала Всевышнему, в ближайшее время не предвиделось, генералам тем только и оставалось, что парой вещей заниматься: проводить всевозможные учения, а между учениями, в ознаменование успешного окончания оных, дружественные встречи и междусобойчики организовывать.
Учения проводили грандиозные. И в полях, и в лесах, и в пустынях разнообразных, и даже на морских, речных и океанских просторах те учения устраивали. В общем, в любых ландшафтах, коими страна наша и по сей день богата. Нагонят, бывалоча, войск и техники, заставят их в дыму и грохоте друг за другом с радостными воплями носиться, а сами в штабах над картами глубокомысленно склонятся и линию генерального наступления разноцветными карандашами рисуют. Стратегически мыслят, понимаешь. Ну а потом, как сами вдоволь накомандуются и войска под самые гланды учебной войной утомят, за успешные учения и высокие показатели воинской подготовки друг другу по медальке выдадут. Заслужил, генерал, носи с честью.
Ну а как с первым занятием с большим успехом управятся, так тут же без промедлений ненужных ко второму ключевому занятию приступают. Нужно же как-то и былое вспомнить, и недавние учения в деталях обсудить, и новые учения обязательно спланировать! Да и свежую медаль «обмыть» обязательно требуется, а то носиться не будет. Да мало ли у генералов поводов и причин найдется, чтоб в кругу себе подобных приятно время провести? Завсегда найдется. Оттого и проводили они множество свободного времени в тех самых посиделках в самом разном составе и в самых разных местах. Когда в штабе, когда на даче какой или, положим, на кордоне охотничьем, а когда, глядишь, и в баньке. Ну, а поскольку генералы за долгие годы службы многие вещи самостоятельно делать отучились и праздничные «чаепития» самостоятельно проводить уже затруднялись, на такой случай в штабе как раз прапорщиков полно присутствовало. Нет, не офицеров, что пониже генералов будут, а именно прапорщиков.
Прапорщик, он ведь какой? Он неуничтожимый и вечный! Он в любой среде прижиться может и в любой ситуации чем свое домашнее благосостояние увеличить найдет. Найдет, домой принесет и дальше искать пойдет, потому как нет предела совершенству. И уничтожить прапорщика практически невозможно. Все ему нипочем! Хоть взрыв ядерный, хоть гнев генеральский испепеляющий. Восстает из пепла практически мгновенно. Глядишь, ну вот только что в пыль и прах втоптан был и вдруг ра-а-аз – бодр и весел! Опять что-то такое, как муравьишка усердный, бойко в сторону своего жилища тащит. Но при этом так грамотно тащит, что и вверенное ему, прапорщику, хозяйство каким-то чудесным образом напрочь не разваливается и функционировать продолжает. Хоть ты такому прапорщику гаражное, хоть подсобное хозяйство поручи, а хоть и банный комплекс в управление передай, все одно – и транспорт поедет, и поросята завизжат, и пар отменный к нужному времени в парную подан будет. И не важно совсем, что бензина с мясом дома у того прапорщика кратно больше, чем в родной части. Главное, чтоб работа работалась и служба шла.
Ну вот и сложился у генералов с прапорщиками симбиоз. Эти, большие, те, что с лампасами, дела великой военной важности вершат, а другие, те, что мелкие, но юркие до невозможности, этим первым полное жизнеобеспечение оказывают. Ну а солдатики вроде Петьки для дел совсем уж мелких или неприглядных требуются. Ну, не станет же целый прапорщик машину ассенизаторскую водить, баньку собственноручно протапливать и после бурной генеральской встречи эту самую баньку усердно драить? Или, к примеру, бассейн какой от водорослей и инфузорий всяческих тщательно отмывать? Для этого завсегда солдатик найдется. Он животная бессловесная и все, что ни прикажешь, в обязательном порядке исполнит, а потом тихонько в казарму на ночную подзарядку уползет. Незавидна, одним словом, роль и участь простого солдатика в этом, как сначала могло показаться, раю земном.
Петьке же нашему, однако, повезло еще раз.
Тут, если поглубже разобраться, Петька наш – большущий везунчик. Боженька его постоянно по головке гладит и щедростью своей одаривает, даже теперь, когда он повзрослел и заматерел порядком. Сфартило ему и тогда, в годы армейской юности. Его, когда в это высококомандное учреждение служить взяли, на кодировщика секретного отучили и в специальном секретном отделе, где всякие генеральские приказы зашифровывались-расшифровывались, на постоянной основе служить оставили. Ну а потому как приказы и распоряжения генеральские, каковые обязательно шифровать и кодировать требовалось, круглые сутки непрерывным потоком лились, Петьку на хозяйственные работы или в наряд какой, по кухне, допустим, отправить никак невозможно было. А оно и верно, пойди-ка попробуй кодировщика на свиноферму или в прачечную отправь. Да пока он там с лопатой и корытами возится, столько нужных приказов незакодированными и неотправленными останутся, что вся армия в один миг в ступор впадет и погибнуть ни за грош может. Потому никак нельзя кодировщика от его шибко тайных машинок отвлекать. Пусть уже сидит себе и про хозяйственные работы не мечтает даже. Ну он и сидел, и не мечтал. Оттого и получалась у Петьки не служба тяжкая, а почти что малина. И не просто малина, а малиновое варенье, со сгущенным молоком в равных долях замешанное и на творожное кольцо толстым слоем намазанное. Служи – не хочу! Да только так получилось, что сам Петька этот поток везенья глупостью своей оборвал решительно и бесповоротно. И вот как оно все произошло.
* * *
Был у Петьки, как у всякого нормального рядового и как тому в каждой армии быть положено, свой собственный командир. Звали командира ротный прапорщик Богдан Миронович Загоруйко, по прозвищу Картофан. И в душе своей, и в большинстве поступков своих Загоруйко был человеком неплохим и временами даже где-то добрым. В самодурстве неуправляемом или из извращенного удовольствия, чтоб самолюбию потрафить, солдатиков Богдан Миронович никогда не третировал и иногда даже сынками своими в глубине души считал. Новеньких же типа Петьки иногда подкармливал домашними разносолами, а по ушедшим дембелям время от времени скучал. Тайком от всех и не по каждому, конечно же, но таки скучал.
Родился Богдан Миронович на благодатной Западной Украине сразу после Великой Отечественной и за годы детства своего насмотрелся всякого. Единственное, что не коснулось его тонкой детской психики и неокрепшего организма, так это голод и недостаток пропитания. В местах, где Загоруйко вырос, из-за плодородия и необычайной щедрости природы вопрос дефицита пропитания никогда не стоял. Что покушать было в неисчерпаемом количестве и в изумительном качестве. Всегда. Так что вырос из мелкого мальчишки Богданчика здоровенный детина почти в два метра ростом и ровно столько же в ширине плеч. Призыв его для службы в Советской армии открыл перед ним широкий и необъятный мир, где, как оказалось, кроме родного села и областной столицы, славного города Луцка, существует целая цивилизация, в которой люди говорят не только по-польски, а городов с населением аж в сто тысяч куда как больше, чем три.
В дополнение ко всем этим открытиям выяснил Загоруйко, тогда еще ефрейтор срочной службы, что родная армия настолько богата, а учет этому богатству настолько слаб, что человек, в определенных упражнениях умелый, немного от того богатства отщипнув, практически не рискует ничем и даже напротив, пользу Родине приносит. А все от того, что вместо имущества, домой ловко умыкнутого, в родную армию обязательно нового в двойном размере привезут, и стало быть, промышленность работает, заводы гудят, а советские труженики вовремя заработную плату получают. Ну чем не красота? Красота. Одного только в этой стройной и логичной схеме Загоруйке не хватало – собственного дома, куда все, изнуряющим трудом добытое, принести можно было бы. Ну не понесет же ефрейтор Загоруйко честно добытый ящик гвоздей в солдатскую казарму, где ему, военнослужащему срочной службы, с остальными такими же солдатиками в тесном дружеском кругу обитать положено. Ну, может, и понесет, конечно же, но только смысла в этом никакого.
Проблемка, однако же, оказалась незначительной и решалась легко и виртуозно. Нужно было в специальной школе малость поучиться и, звание прапорщика получив, в непомерно богатой армии навсегда служить остаться. И тогда обязательно квартиру служебную выдадут, и вещевым довольствием не обидят, и, вот ведь богатеи и расточители, еще и зарплату, вполне себе приличную, платить станут. Правда, в армии это называется денежным довольствием, но, как ни крути, все одно – зарплата. Ну вот согласитесь, друзья мои, что это замечательное и элегантное решение. Для государства, как мы уже сказали, экономически необходимое, а для Загоруйки материально обеспечивающее. Оттого не особо долго раздумывая и быстро жизненные планы, в которых он допрежь себя исключительно передовым механизатором и мужем агрономовой дочки видел, перекроил Загоруйко в пользу служения Отечеству и в прапорщики подался.
Прапорщиком он как и был, так и на пенсию в конце концов вышел, вполне себе справным. Не хуже и не сильно лучше остальных. И даже потому, что чувством жадности Боженькой обделен был и чрезмерным скупердяем не считался, в среде офицерской долгое время уважительно Мироновичем поименовывался. А вот в Картофаны ему окреститься не повезло из-за старинной армейской забавы – солдатиков, положенный срок сполна отслуживших, домой по демобилизации на все четыре стороны распускать. Как такая именная трансформация случиться могла и причем тут солдатики с корнеплодами семейства пасленовых, не у всякого в голове сразу в стройную конструкцию сложиться может. Да ни у кого, если всю историю в деталях не рассказать, сложиться не может. Но вы не переживайте, я сейчас все по порядку и в подробностях расскажу.
Глава 3
Для начала же, прежде чем я к картошке и Загоруйке полностью перейду, всем и каждому следует понимать, что в армии, как, впрочем, и на «гражданке», прозвища сами по себе не рождаются и к людям, до того момента собственными именами и фамилиями поименованным, ни с того ни с сего не прилипают. Для зарождения прозвища особые условия требуются. Вот назовут, к примеру, человека Кривым, а он ровный, как жердь сосновая! И что, вы думаете он до конца дней своих в Кривых проходить сможет? Это вряд ли. А вот если он по жизни прямой, как лазерный луч, но в дополнение к этому фамилию Криволапенко, например, имеет, так все очень даже может быть – Кривым на всю жизнь в общественном сознании останется.
Да вы для наглядности хоть близкого друга нашего Богдана Мироновича возьмите, такого же прапорщика, не совсем гордо, но все-таки носящего прозвище Нюх. Прапорщиком Нюх был не таким славным, как Петькин Загоруйко, и потому солдаты его не очень-то жаловали. Нюху же любовь и уважение рядового состава не требовались, поскольку был он человеком нелюдимым, замкнутым и на всякий вопрос имел собственное мнение и ответ. В общем, так себе, нелюдимый человечишко. Был он удивительно тощим и искривленным в нескольких местах своего длинного тела. Длинного, потому как эту худую штакетину, на которой форма любого, пусть даже самого маленького размера, болталась, как старый пиджак на огородном чучеле, называть «рослой» язык просто не поворачивался. Длинной – всегда пожалуйста, но рослой никак невозможно. Лицо Нюха, вытянутое в сторону огромного, заострившегося носа, больше напоминало морду любознательной крысы, которая в вечном поиске чего-нибудь полезного рассматривала всякий предмет вокруг себя как потенциальный объект кражи и присовокупления к своему домашнему хозяйству. Крал же он практически непрерывно и абсолютно все, что не было прикручено насмерть или не несло на себе отметки «совершенно секретно».
Оправдать такой образ жизни и служения Отечеству было нельзя, но понять вполне-таки можно. Все дело в том, что несчастный прапорщик обладал семьей неимоверных размеров. Детей у него было то ли семь, то ли девять. Назвать точное количество, если честно, затруднялся и сам Нюх, потому что, будучи вовлеченным в нескончаемую карусель служебного воровства, он сильно уставал и, придя домой, не всегда имел силы и желание пересчитать по головам эту шуструю массу детишек, которых в военном городке называли не иначе как «нюхи». Жена же его, женщина, изможденная нескончаемой беременностью, называть точную цифру отпрысков отказывалась из вредности и вместо числительного ответа всегда требовала денег. Еще немного денег. В конечном счете и сам Нюх, и его сослуживцы утеряли интерес к точным цифрам и всех Нюховых отпрысков именовали ротой. Ну или бандой, что по сути и смыслу было ближе к тому, что эта дружная ватага в военном городке вытворяла.
В дополнение же к постоянно растущему количеству наследников в семействе Нюха имелась еще теща, как-то приехавшая с внуками посидеть, но так и засидевшаяся, дочь этой тещи, сестра Нюховой жены, приехавшая вслед за тещей, потому как «маму одну оставлять нельзя и ей помогать нужно!», двое собственных детей тещиной дочери, каковых она, конечно же, не могла оставить одинокими, и ее же муж, который этих детей на свет народил и вместе со своим, сравнительно малым семейством прибыл на помощь всем взрослым и детям, перечисленным выше. Вот это-то неимоверное семейство, насчитывающее то ли пятнадцать, то ли семнадцать человек, это смотря как считать маленьких нюхов, висело тяжеленной плитой на кошельке прапорщика, потому как теща была уже пенсионер и на ее пенсию не очень-то разгуляешься, а свояченице со свояком найти работу в военном городке было достаточно затруднительно. Ну а раз затруднительно, решили родственники, то и пробовать не нужно. Неэффективная трата времени, понимаешь.
Теперь, я надеюсь, вы сами понимаете, по какой причине несчастный прапорщик, имевший вполне себе достойное денежное содержание, все-таки вынужден был превращать государственно-армейскую собственность в денежные знаки, принадлежащие исключительно ему? Все окружающие, зная такое бедственное положение несчастного главы семейства, негромко осуждая вороватого прапорщика, все ж таки с некоторым пониманием относились к вороватой форме его существования, лишь время от времени задавая ему два вопроса.
Первый: «Когда же ты, придурок, родню по домам отправишь?»
И второй: «Зачем ты, бедолага, столько детей настрогал и, по всему судя, останавливаться не собираешься?»
Про родню Нюх рассказывал, что выпроводить ее он пытался не один десяток раз, но эти, которых он вчера самолично на вокзал отвозил, каким-то самым непостижимым образом к вечеру следующего дня вновь оказывались в его коттедже, выделенном совестливым командиром эскадрильи, и радостно щебетали при его возвращении со службы. Явлению кормильца радовались, паскуды! Ну а на вопрос про количество детей Нюх, пожимая плечами, сообщал, что дети ему не очень нравятся. Ему сам процесс нравится, а дети – нет. И потому, видимо, до тех самых пор, пока его мужское здоровье позволяет ему этот процесс реализовывать, всем в городке следует вполне оправданно ожидать появления новеньких, громко орущих младенцев, грозящих пополнить собой Нюховую роту.
Проживая в непрерывной борьбе за существование, прапорщик Нюх был человеком нелюдимым и, сторонясь человеческой дружбы, товарищей не имел. Ну, может быть, за исключением Богдана Мироновича, с которым подружился он немного позже повествуемой истории. И то только затем подружился, что имел Богдан Миронович безграничную клиентскую аудиторию среди местного населения, в которую все уворованное Нюхом проваливалось мгновенно и без остатка. Как кирпич, брошенный в Марианскую впадину. Богдан Миронович, имея от этой «коммерции» пусть и скудные, но все ж таки дивиденды, товарищества с Нюхом не сторонился, но и в близкие друзья многодетного прапорщика никогда не стремился. Так что, по совокупности всего вышеперечисленного, нелюдимого и вороватого Нюха никак по-другому, кроме как этим самым прозвищем, не называли и, кажется мне, самоё имя с фамилией его запамятовали. Нет, ну кадровики, начальник штаба и особист, те, конечно же, истинное ФИО Нюха и знали, и помнили, но использовали крайне редко и в основном для написания в рапортах и приказах.
И вот ведь что во всей этой истории главное, товарищи дорогие, Нюх стал Нюхом отнюдь не в Петькином штабе, немного загодя до того, как с Богданом Мироновичем на ниве легкой наживы дружбу свел.
Служил тогда прапорщик, у которого на тот момент и имя, и фамилия в общении с товарищами использовались, в авиационном полку, предназначенном как раз для обеспечения средствами передвижения тех самых генералов, что в ставке войск служили. Самолетики там всякие, вертолетики. И даже летающая лодка Бе-12 там имелась. В поисково-спасательную службу входила. Странный, надо сказать, самолет. Выглядит он так, будто к большой лодке приделали крылья, изогнутые кверху на пример крыльев чайки, а для большей потешности через всю длину фюзеляжа, насквозь, здоровенное бревно с размаху вставили. Бревно выдалось длиннее лодки на пару метров, и потому что спереди, что сзади из воздушно-плавучего самолета на улицу по целому метру торчало. На самом же то деле это, конечно, не бревно никакое! Это выходы радиолокационного оборудования, с помощью которого эта летающая лодка все окрестности осматривает и ощупывает. Но выглядело смешно, если честно, и все время мучил вопрос, с какой именно стороны в Бе-12 это бревно поначалу вставляли.
Ну так вот, прапорщик Нюх на этих самых Бе-12 на военном аэродроме поначалу и служил. То ли по электрической части, то ли по механической, теперь совершенно не важно. Детишек у него тогда еще не больше четырех было, и теща, живущая в благословенной дали, еще не горела мечтами облегчить в его семье воспитательный процесс. Это, однако же, совершенно не мешало прапорщику тащить в сторону своего дома любой предмет, который можно было бы продать или выменять на иной предмет, более нужный в домашнем обиходе. Перечислять все богатство и ассортимент вещевого обеспечения Советской армии не имеет никакого смысла, потому как всего, и нужного, и того, без чего можно было бы обойтись, в армии было вдоволь и даже с некоторым избытком. Потому упереть домой, скажем, авиационный аккумулятор и потом его на три автомобильных перебрать сам Бог велел, потому как у родной Красной армии не убудет! Нет, ну не велел, конечно же, и даже, согласно восьмой заповеди, запрещал категорически, но что тут поделать можно было, если эти самые аккумуляторы целыми штабелями, почти никому не нужные, по всему складу расставлены, а ты, прапорщик, приказом командира части к ним смотрящим приставлен? Или как можно спокойно мимо авиационного керосина и дизельного топлива прогуливаться? Никак невозможно спокойно мимо керосина прогуливаться! Обязательно нужно несколько канистр отлить и потом по выгодной цене местным азербайджанцам продать.
Но лучше всего продавался спирт.
Спирта на аэродроме было не просто много, а неприлично много, потому как применялся он там в самых разных целях. И в обслуживании тонкой электроники для тщательного промывания контактов, и в заправке самолетов для антиобледенительных систем непосредственно. На промывку электроники спирту, как правило, требовалось немного, а вот в самолеты его заправлялось порядком. Инженеры-электронщики, которым чистейший, как слеза, спирт выдавался для промывки плат и чувствительных контактов, к полученной амброзии относились крайне рачительно и потому чистку вверенного оборудования предпочитали производить сухой тряпочкой, предварительно дыхнув проспиртованным дыханием на очищаемую поверхность. Получалось неплохо. Советская электроника, особенно военная, хоть и выглядела неказисто и так, будто ее из цельного куска металла топором вытесали, работала годами и вполне себе исправно, даже в адских условиях эксплуатации и при таком замечательном «обслуживании». Однако то количество спирта, которое электронщиками при такой сухой чистке «экономилось», не шло ни в какое сравнение с тем объемом, каковой заправлялся в антиобледенительные системы самолетов. Главкомовский Ту-134, в простонародье – «ТУшка», за расчетный час полета использовал столько спирта, сколько груженый КАМАЗ солярки на сто километров пробега сжигает. Среди пилотов и товарищей, близких к авиации, этот самолет помимо уже знакомого вам наименования «ТУшка», еще и второе неофициальное имя имел – спиртовоз.
Ну а потому как главком летал часто и далеко, только на нужды его комфортабельного лайнера спирта расходовалось столько, сколько на хорошей ликеро-водочной фабрике за пять рабочих смен по бутылкам разливалось. И это не говоря про все остальные летательные аппараты, коих на этом аэродроме было в достатке. Ну а раз летающей техники на аэродроме в достатке, то отчего же у офицеров и прапорщиков, на этом аэродроме служащих, в том спирте нужда должна быть? Ни в коем случае! Не должны ни в чем не повинные офицеры и прапорщики при таком спиртовом изобилии в нужде и худости прозябать. Ну а раз не должны, так и тащил этот самый спирт во все стороны каждый в силу своей наглости и живости ума. Кто в бутылочках из детской кухни скромно грамм по двести в каждый карман укладывал, а кто и бидон молочный, совершенно не стесняясь и открыто, в сторону дома волок. «Вот, типа, посмотрите, граждане дорогие, каков я семьянин замечательный! Сам с боевого дежурства еле ноги волочу, некормленый, непоеный, но о семье своей прекрасной забочусь и ни на минуту беспокоиться не перестаю! Молочка вот прикупил…»
Нюх же, понимая всю валютную ценность «огненной воды» и будучи человеком малопьющим, в нуждах своего личного хозяйства таскал ведрами, и денег, полученных от реализации военного спирта, ему с лихвой хватало на обеспеченную жизнь многодетного отца. Одно только его расстраивало и время от времени портило планы – спиртом, в отличие от аккумуляторов и гаечных ключей, заведовал не он. Другой прапорщик заведовал. А тот, вот ведь вредина и гадина, не всегда спирт на солярку менять соглашался. Наверное, потому не соглашался, что курс «один к одному», предлагаемый Нюхом, его мало устраивал. Знал спиртовой прапор, что литр солярки в нефтяном Азербайджане стоит примерно столько же, сколько литр газированной воды без сиропа, и что за литр спирта Нюх должен был бочку соляры приволочь, а не трехлитровой банкой перед его носом трясти. Нюха же предложение подобной пропорции оскорбляло до глубины души, и он после таких отказов в честном бартере обзывался «козлом» и обещал страшно отомстить.
Ну он и отомстил в итоге.
Спирт, которого было действительно много, в целях хотя бы частичной его сохранности, хранился в сорокафутовом морском контейнере и надежно запирался на ночь. Три висячих замка, надежно запирающих ворота, вкупе со стальными стенами контейнера не позволяли проникнуть внутрь ни злоумышленнику, алчущему халявного алкоголя, ни его дурным мыслям этим алкоголем завладеть. Да что там алчущий с его мыслишками? Ни мышь, ни крыса, ни даже очень мелкий комар не проскочат! Сохранно все и надежно хранимо, как в золотовалютном резерве швейцарского банка, одним словом.
Но и на старуху бывает проруха.
Случилось однажды так, что, на беду спиртового прапорщика, его очень срочно и очень требовательно призвал к себе командир эскадрильи, прогуливавшийся ради повышения собственной информированности по авиастоянкам. Уж чего там комэску именно от спиртового прапора потребовалось, то истории доподлинно не известно, но только чесанул военный Бахус на зов командования так быстро, что свою алкогольную пещеру Аладдина ни закрыть, ни запереть не удосужился. И ровно, как на беду какую-то, Нюху именно в этот злосчастный момент мимо тех полураспахнутых ворот в неизвестном направлении проследовать понадобилось. Идет он, значит, идет, никого вокруг себя не замечает, в мыслях своих что-то там такое про светлое будущее думает и вдруг видит – батюшки, а спиртовая-то не заперта и без пригляда на произвол судьбы брошена. Это ли не удача?! Это ли не везение?! Да они самые, что ни на есть! Пруха, так сказать, в ее самой полной и неприглядной выраженности. Абсолютная и бесповоротная пруха!
И вот что, по-вашему, нормальный, в меру жадный и немного мстительный человек в такой ситуации сделал бы? Думаете, ведро до краев из ближайшей бочки набулькал и смылся бы? Полагаете, всю бочку целиком в свои собственные закрома укатил бы? Ну-у-у, все может быть… Я бы еще такой вариант предположил, когда чрезмерно мстительный жадина сразу две бочки укатил бы. Но это сложно. Это силушку нужно иметь богатырскую, а ее у Нюха не было. По ночам всю растрачивал, да и с богатырем, если честно, его разве что служение Отчизне малость роднило, не более. Однако же она ему, силушка эта, и не потребовалась вовсе от того, что не таков был наш Нюх, чтобы на всякую мелочь типа ведер с бидонами размениваться. Умнее он был, да и мыслил масштабнее. Ну а поскольку Нюх образование имел малость техническое, масштаб сообразительности, наложенный на инженерную науку и помноженный на смекалку вороватого ума, породил на свет Божий совершенно неожиданное решение: он использовал сварочный аппарат. Да, да, вы не ослышались, именно его – сварочный аппарат. Тот самый, который с электродуговой сверкалкой и россыпью раскаленных искр из расплавленных ошметков.
В этот момент всякому, кто не знаком с конструкцией контейнерных дверей, станет совершенно непонятно, при чем тут спирт, бочки, бидоны и сварочный аппарат. Как вообще пожароопасный электроприбор может совмещаться с летучей и чрезвычайно легко воспламеняющейся жидкостью в едином пространстве цельнометаллического контейнера? На самом же деле все объясняется чрезвычайно просто: гайки. Гайки и болты. Те самые гайки с болтами, которыми стальные воротины контейнера к здоровенным петлям насмерть прикручиваются. Ну, не так чтобы совсем уж насмерть, если честно. Болты, торчащие своими шестигранными головками на улицу, если к ним нужный ключ подобрать и недюжинную силу приложить, конечно, как это и положено болтам, немного проворачивались. Это правда. Но вот гайки, каковые изнутри контейнера к этим самым болтам присобачены, приржавев малость от морской сырости, вертелись вместе с болтами, не ослабляя своей хватки даже на половину витка резьбы. Не отворачивались, одним словом. Ни в какую не отворачивались.
Нюху сей факт был хорошо известен, потому как он уже несколько раз пробирался к воротам в вечерних сумерках и, не убоявшись суровых часовых, которые при случае и пристрелить могли, эти самые шестигранные головки болтов гаечным ключом вертел во все стороны. Идея его была незамысловата и проста, как все гениальное: если уж ворота заперты на три амбарных замка и отворить их по причине запертости возможным не представляется, то отчего бы обе воротины, надежно сцепленные охранными устройствами, не снять целиком? Снять, необходимое количество спирта из бочек нацедить и потом на место прикрутить, тем самым факт своего присутствия и небольшой утери спирта от спиртового прапора скрыв. Все чинно, все красиво, все благородно!
Тут главное – не встретиться с каким-нибудь ответственным и бдительным часовым и изо всех сил постараться не быть им убитым при попытке расхищения социалистической собственности. Тут да, тут определенные риски были, конечно же. Но Нюх, человек по природе своей настолько же настойчивый, насколько и бестолковый, учитывая всю возможную доходность алкогольной операции, с таким риском смириться смог. Смог, и время от времени заявлялся с гаечным ключом проверить, не разболтались ли гайки и не пришла ли уже светлая возможность открутить ворота настежь. Но нет. Соленая влажность близлежащего Каспия, несущаяся на аэродром непрерывными волнами морского бриза, покрыла резьбу болтов плотным налетом ржавчины и сцепила гайки, так же малость приржавевшие, с этой резьбой насмерть. И оттого казалось, что с экспериментами по откручиванию можно было бы и закончить, махнув на идею рукой и похоронив ее, такую светлую и замечательную, под немилосердным натиском погодных условий.
И он уже было так и поступил, но вдруг на тебе – такая удача! Ворота не заперты, а спиртового Цербера за какую-то неведомую провинность командир фейсом по бетону вертолетной площадки возит. Не зная латыни и потому, совершенно не ведая смысла фразы Fortis fortuna adiuvat[1], Нюх проявил невиданную смелость и решил немедленно воплотить давнишний план с гайками, молниеносно дополнив его некоторыми техническими деталями, коих в более ранней версии не существовало. Умчавшись пыльным галопом в сторону своих мастерских, вернулся он оттуда буквально через несколько минут, волоча на своей тощей спине небольшой сварочный аппарат, работающий от обычной электрической сети. Аппарат был произведен в Советском Союзе и потому весил, как промышленный трехфазный сварочник, произведенный в какой-нибудь экономной Японии. Спина Нюха хрустела, а сам он, пунцовый от напряжения, обливался потом, стекавшим с него бурной Ниагарой. Прапорщицкий китель взмок не только под мышками, но и по всей своей поверхности, поменяв из-за этого цвет со светло-зеленого, выцветшего хаки на грязно-бурый цвет нильского крокодила, а бегущие по щекам капли размером со среднюю вишню оставляли на нечистом лице Нюха светлые полосы омытой кожи.
Но это было неважно. Совершенно неважно! На это не стоило обращать внимания и терять драгоценные минуты на протирание обильной влаги. Нужно было действовать, потому как командирский задор в отношении метилового сторожа мог завершиться в любую минуту и тот, взбодренный, но не поверженный, грозил возвернуться к боевому посту в любой, самый неожиданный момент. Скинув сварочный аппарат со спины, Нюх одним движением размотал длинный провод питания и, юркнув внутрь контейнера, пахнущего дырявой канистрой из-под водки, вставил вилку в розетку, о местоположении которой он, так часто сюда захаживавший, конечно же, знал доподлинно. Выскользнув на улицу юркой змейкой и вцепившись в держак сварочника, где уже красовался электрод «двойка», в пару десятков безошибочных движений Нюх приварил приржавевшие гайки непосредственно к плашкам воротных петель. Робот-сварщик на сборочной линии «Тойоты» не справился бы так чисто и так быстро! Напортачил бы где-нибудь робот, к бабке не ходи! А Нюх – нет, прихватил совершенно одинаковыми каплями, не срезав ни одной гайки и не насыпав на пол предательских «соплей». Мастер, одним словом! И зачем оно ему надо? – спросите вы. А затем, друзья вы мои дорогие, что в таком положении гайка, намертво приваренная к неподвижной петле, шансов вместе с болтом покрутиться более не имела. А раз не имела, так и сам болт, получается, теперь снаружи полностью выкрутить можно совершенно легко и беспрепятственно. Ну согласитесь, гениально же? Гениально и элегантно.
Исполнив таким образом задуманное, прапорщик так же молниеносно смотал провод питания, взвалил сварочный аппарат на спину и, ласково помахав бочкам со спиртом на прощание, широкими скачками умчался в расположение, к коему он был приписан служебными обязанностями. Ну а поздним вечером Нюх вернулся с гаечным ключом и двумя молочными бидонами. Но только не с такими, с которыми меня в розовом детстве бабушка за молоком отправляла и в которые не больше трех литров питательной жидкости входит, а с теми, в которых это самое молоко с ферм и коровников на грузовике привозят. Заявился Нюх с алюминиевыми флягами, вмещающими в себя по сорок литров жидкой фракции. При каждом его шаге фляги негромко позвякивали расшатавшимися замками, вызывая в Нюхе справедливое опасение возможной встречи с вооруженным часовым. Но, как я уже и говорил, новомодное определение «Слабоумие и отвага» не только хорошо подходило двум мультяшным бурундукам, но и в полной мере живописало психофизический портрет Нюха, а потому, матерясь сквозь зубы на дезавуирующие фляги, до контейнера он все-таки добрался.
Далее, подставляя фляги под ноги, кряхтя и вновь обливаясь потом, выкрутил прапорщик болты сначала из верхних, а потом уже и из нижних петель, дав тем самым контейнерным воротам право выбора: остаться стоять в створе контейнера или вывалиться на улицу, предоставив тем самым прапору свободный доступ к внутренностям спиртового богатства. Ворота выбрали первое. Зажатые в распор твердыми резиновыми уплотнителями, они, ворота, даже не подумали сдвинуться хоть на миллиметр, предоставив тем самым алчущему Нюху доступ к объекту его вожделений. Стояли так же монументально и не менее надежно, как стояли до этого, будучи прикрученными к толстенным петлям парой десятков болтов на восемнадцать.
Но это ничего! Это же нестрашно. Близость желанной цели придала Нюху еще большей решимости и физических сил, кои он и приложил к застрявшим воротам. Ухватившись обеими руками за вертикальные штанги, идущие снизу вверх по каждой из воротин, он начал дергать их на себя с остервенением Отелло, трясущего несчастную Дездемону за тонкую шейку. И они не выдержали! Сдались. Чмокнув на прощание отошедшими резиновыми уплотнениями, ворота медленно вывалились-таки из проема и отделились от контейнера. Таким образом, выдернув ворота из створа и чудом увернувшись от их немалой массы, с грохотом рухнувшей в пыль, Нюх наконец-то получил неограниченный доступ к спиртовому источнику, обещающему скорое и безмерное обогащение его карманов.
Наполнив оба молочных бидона по самые горлышки, успев в уме посчитать, какую прекрасную прибыль ему сулят полученные восемьдесят литров, прапорщик решил, что на сегодня хватит и что жадничать не след, потому как теперь, при такой удачной конструкции контейнерных ворот, он сюда захаживать сможет сколь угодно часто. Вот только теперь сущая мелочь осталась: ворота обратно вставить и болты на место прикрутить. Ну чтобы потом, в следующий раз, когда новые финансовые поступления потребуются, заявиться сюда и, не особо утруждаясь, их вновь открутить.
Но тут стала очевидна неполная проработка такого, как это ранее казалось, гениального плана. Стали очевидны и половинчатость мышления Нюха, и некоторая несостоятельность разработанной стратегии. Когда-то тщательно продумав комбинацию с извлечением ворот и последующим наполнением семейного бюджета алкогольной продукцией, совершенно не подумал Нюх о том, что две цельнометаллические воротины, скрепленные нерушимыми замками, весят никак не меньше башни от танка Т-72 и вернуть их на место можно либо с помощью подъемного крана, либо благодаря усилиям пары десятков бойцов из роты охраны. Одинокому Нюху с полутора тоннами распластавшегося в пыли железа было ну никак не справиться.
Заблаговременно оттащив бидоны, наполненные спиртовой благодатью в дальние кусты, попытался он было эту стальную стену, павшую ниц, в вертикальное положение восстановить и следы своего присутствия надежно скрыть прикрученными на место болтами. Ничего не вышло, однако. Он и с правой стороны брался, и с левой натужно кряхтел, но воротины, отрывавшись от бренной поверхности всего на пару-тройку сантиметров, возноситься дальше, в сторону своего привычного местоположения, не желали ни в какую. При этом падшие створки громыхали так сильно, что у Нюха возникали реальные шансы в самом скором времени встретиться с теми самыми бойцами из роты охраны. Со всеми двадцатью. Только прибыли бы они, и это совершенно однозначно, не в помощь слабосильному прапорщику, а для четкого и полного исполнения положений Устава караульной службы. Такое служебное прилежание и педантичное исполнение грозило Нюху обретением дополнительных, но совершенно ненужных отверстий по всей поверхности тела. Нюх, как старательный военнослужащий, назубок знающий уложения того самого Устава, прирастать новыми отдушинами на своем теле не пожелал и, прекратив неравную борьбу с воротинами, скрылся в кустах, волоча за собой честно уворованные декалитры. Декалитры влажно плескались в бидонах и, лаская слух предприимчивого прапорщика, обещали ему все блага будущего века в самом скором времени и, что самое важное, еще при его жизни.
Утром причиненный ущерб, конечно же, обнаружили. Взволнованный Клюэрикон местных спиртовых хранилищ после того, как и сам втихаря отлил из початой Нюхом бочки, взорвал мирный покой воинской части настолько звучной тревогой, будто это не сотню литров спирта некто неизвестный скрал, а как минимум танковую колонну с годовым запасом ГСМ цыгане в лес увели. Прибывшее по тревоге командование и несколько заинтересовавшихся прапорщиков, включая самого Нюха, долго почесывали в затылках и пытались проникнуть в глубь представшей перед ними загадки. Напрягая зрение, мозг и дедуктивные способности, прибывшие тужились понять, кто же это так отважно и совершенно бессовестно порезвился на государственном спирте. Военный Бахус, некогда приставленный к охране контейнера, суетился вокруг командования и причитал о том, что: «Выкрали-таки, мазурики позорные, ну никак не меньше тонны, а то и двух…», вызывая тем самым в осведомленном Нюхе два чувства одновременно:
Первое – справедливое негодование таким передергиванием фактов.
И второе – восторженное восхищение изобретательностью и талантом собрата-прапорщика.
При этом Нюх, еще ночью до копейки посчитавший собственные доходы от предстоящей реализации восьмидесяти литров благоприобретенной влаги, молниеносно представил денежный водопад, каковой в скором времени польется на смышленого хранителя хмельных запасов. От полученной цифры Нюх немного заскучал и закомплексовал от мелочности собственных масштабов.
В конечном счете проведенное командованием расследование явного злоумышленника не выявило, а Нюх, в явном желании еще больше запутать дознавателей, вслух предположил, что спирт выпили питоны. А что? Вполне себе логично. Два извилистых следа, оставленных вчера уволакиваемыми канистрами, совершенно однозначно указывали на то, что в ночи от контейнера отползали две гигантские анаконды. Следы были неровно извилистыми, временами прерывались, превращаясь в четкие отпечатки бидонных днищ, и это совершенно точно указывало на тот факт, что змеюки были не трезвы.
Начальник штаба, офицер, хорошо образованный и знавший о живой природе практически все, сообщил, что у гадин рук нет, и потому они болты открутить никак не могли, а потому Нюх очевидный дурак и неуч. А еще и потому Нюх дурак, что во всей прилегающей к острову Артём округе, вблизи которого аэродром и располагался, одновременно двух анаконд такого размера сыскать возможным не представляется. Это начальник штаба знал доподлинно и потому без всякого риска мог за этот факт партийным билетом поручиться. Ну а раз так, то ему, Нюху, надлежит немедленно пойти в Ж..У и не мешать следствию своими непродуманными версиями.
Нюх, приняв указующий вектор движения за безоговорочную команду непосредственного начальства, немедленно убыл в неизвестном направлении, от всего сердца надеясь на то, что следы нетрезвых пресмыкающихся в конечном счете не приведут следственную группу именно к его скромной персоне. Но нет, не привели. Командование посчитало за лучшее списать две с половинной тонны спирта на естественные усушку и утруску, дать по шее спиртовому прапору за утерю бдительности и для полной очистки совести провести служебное расследование над начальником караула, в ночь дежурства которого произошло это немыслимое преступление. Начальник караула, который доказал, что действовал строго по Уставу, от необоснованных притязаний почти отбился и, свалив все на солдатиков караульной роты, отделался легким испугом.
Но однако же, товарищи дорогие, Нюх стал Нюхом не в тот раз, в совершенно другой. Но и там, однако, без спирта не обошлось.
А все дело в том, что после такого дерзкого ограбления вверенной ему части комэск приказал охрану спиртового Клондайка усилить, а надзор за расходованием вожделенной влаги возвести в один ранг с контролем за соблюдением государственной тайны. Спиртовой прапор, каковой благодаря своей смышлености еще некоторое время оставался щедрым фонтанчиком пьянящей радости, исчерпав благоприобретенные тонны, в конечном счете живительным родничком бить перестал и вожделенный спирт начал расходоваться именно на те цели, для которых его сюда, на аэродром, и привезли. То есть для безвозвратной и совершенно бесполезной погибели в утробе антиобледенительных систем авиационной техники. Согласитесь, совершенно глупое и нерачительное использование такого ценного ресурса. Многие этим возмущались, а некоторые даже негодовали, но поделать с этим что-либо уже было решительно невозможно. Финита ля комедия!