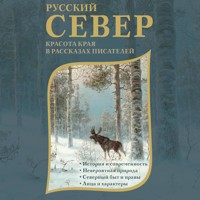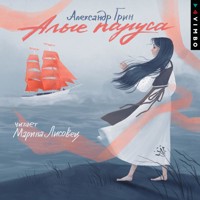Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Всем известен эффект общения с текстами прошлого, как с почтенными стариками: вот здесь мы их любим, вот тут уважаем, а там и там тактично закрываем глаза, ибо все всё понимают. В Гринландии — выдуманной Грином стране — ни с каких позиций ни на что не нужно закрывать глаза. Она не устаревает, а только делается всё ближе и современней. Гринландия — территория свободы, выдержавшая проверку временем и любыми его реактивами. Недаром ее визитка — один из главных символов свободы в мировой культуре: море. И недаром в «Блистающем мире» оно соединилось с другим главным символом свободы — полётом. «Блистающий мир» Александра Грина — программный роман о свободе, изданный ровно сто лет назад — в 1923 году, когда свобода в России катастрофически исчезала. Это остросоциальный текст, актуальный сейчас так же, как и во времена НЭПа, продразвёрстки и формирования новой империи.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
СерияОтцы и дети
№ 42
Александр Грин
Блистающий мир
Предисловие Артёма Ляховича
Freedom LettersЗурбаган2023
Артём ЛяховичГРИН И СВОБОДА
Откроешь наугад Грина, выхватишь любое из замысловатых его предложений, медлительных, упрямо отстающих от темпов нашей внутренней читалки. Подумаешь: такой текст — сейчас? В век мемов и постиронии? Жакет вместо футболки, граммофон вместо Apple Music? И ошибёшься. Грин — как дельфин, которого не определить по рыбьим плавникам. Его не просто читают — его открывают заново, исследуют, вертят со всех сторон, обсасывают до самых до костей. Зайди в любую библиотеку — обычную, бумажную (ну да, они всё ещё есть): на своей полке именно Грин будет потрепанным как никто другой. Или в электронную: количество прочтений Грина заметно обгонит соседей по жанрам и по эпохе. Почему? «Люди истосковались по романтизму» — отвечали мне; но ведь романтизма сколько угодно в куда более легкоупотребимом виде — от блокбастеров до манги. Почему тогда? Может, потому, что у Грина есть нечто такое, что виднее именно сейчас?
Что-то, что проступило со временем, как реактив замедленной проявки?
При жизни-то Грин объявлялся несовременным, а для успешного автора это верный признак, что современность его припозднилась и наступит когда-нибудь потом. Что ж. Попробуем разобраться, как выглядят для нас его книги сейчас, в третьем десятилетии XXI века. Что сможет увидеть в них читатель Венички, Эдички и сорокинской Насти, которого морская романтика и бардовский кипиш вокруг неё скорее отпугнёт, чем заинтересует (тем более что кипиш давно обофициозился)?
Пробуя на зуб гриновский текст, сразу же замечаешь, сколько в нём суггестии. Смысл преподносится читателю не так напрямую, на блюдечке буквальных значений, как незаметно — через всевозможные испарения косвенных, создающих гипнотический дурман намеков и ассоциаций. Грин подходит почти вплотную к границе не только прозы/поэзии, но и слова/музыки. Казалось бы — насколько музыкальной была эпоха, но Грин перемузыкалил всю гвардию современных ему прозаиков. Даже у Андрея Белого нет такого бесконечного нанизывания слов, нужного для дурманящего дления, в которое погружает читателя автор. Хороший прозаик цедит слова по штуке, а у Грина они, казалось бы, теряют границы и врастают друг в друга, возрождаясь в дословесной целости:
Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное "ура!", хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках подобно схваченному во время игры козленку...
Отметив суггестию, тут же видим и особенность слога: Грин подбирает слова так, чтобы всё обычное казалось необычным и царапало читательский взгляд, привыкший ехать по накатанным рельсам. Каждое слово — маленькая неожиданность, маленькая полемика с инерцией читателя. Речь гриновских персонажей неправдоподобна, но это не «книжность», потому что книги так не писали; это именно то, что его современник Шкловский назвал остранением. Стоит немного свыкнуться — и уже кажется, что только так и могут говорить персонажи, потому что только так они люди с живым дыханием, а не силуэты, склеенные из букв. Вот как говорят герои «Блистающего мира»:
— Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я зову тебя, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?
— Все гудит внутри, — призналась она, — о-о! сердце стучит, руки холодные. Каково это — быть птицей?! А?
— Это вы что делаете? — бормотал часовой, входя. — Это нельзя, я так и быть посижу тут, однако перестаньте буянить.
— Странное дело, — сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. — Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.
Отметив галочками суггестию и остранение (обе галочки, кстати, равносильны подписи «я модернист»), идём дальше. По прочтении больших кусков гриновского текста хорошо видны две вещи, непривычные в паре.
Первая — многозначность. Чем глубже вгрызаешься в книгу, тем отчетливей проступают полупрозрачные мосты неведомо куда. Всё у Грина — персонажи, коллизии, поступки — ведёт к чему-то невидимому и не менее важному, чем видимое. Это не просто «двойное дно» — это целые смысловые этажерки-невидимки. «Символизм» — хочется сказать; и да, это он, но с одним «но»: современники Грина, так или иначе согласные называть себя этим словом, писали совсем о другом. У них невидимое было также и видимым, и называемым вполне прямо, а часто и с Большой Буквы: София, Дева, Жена, Прибытие (Блок высмеял этот сленг в «Балаганчике»). По тем временам назвать символизмом то, о чём писал Грин — дерзость бо́льшая, чем теперь для кого-то признать комикс искусством.
А вторая вещь — как раз «то, о чём писал Грин». Тематика почти всех его книг обитала тогда на бульваре и в барскую башню из слоновой кости была не вхожа. Приключения, странствия, выживание, роковая любовь, сверхъестественное, — «бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!» (Грин здесь удачно пародирует сам себя). Даже сейчас, хоть и постмодерн на дворе, но всё равно где-то кто-то считает, что или жанровая литература, или серьезная, или интрига, или глубина, а и того и другого вместе не бывает. Лучшим опровержением этой позиции будет «Блистающий мир»: тут вам и приключения, и выживание, и роковая любовь, и сверхъестественное, и — в том же флаконе — столько всякого невидимого, что двери в башню из слоновой кости давно уже выломаны до петель.
Стоп: вот мы и добрались до следующей антиномии. Первой была современная несовременность Грина, а вторая — его развлекательная серьёзность. Или серьёзная развлекательность. Грин писал приключенческие книги, — и Грин писал философские книги. Они легки и увлекательны, — и они сложны как лабиринт трёх чародеев в Хогвартсе. Главное в них — интрига; и главное в них — символический подтекст. Они интересны и понятны школьнику, — и на них сточит зубы не один учёный.
Как минимум, уже одна эта черта вполне объясняет рост интереса к Грину. Но дальше будет ещё любопытней.
Прочитав несколько его книг, задумываемся о вымышленной стране, где проходит их действие — о всем известной Гринландии (так назвал её критик К. Зелинский). Чем больше прочтешь — тем больше её деталей соединяется друг с другом, образуя то, к чему мы привыкли как к воздуху, но только не в литературе 1910-20-х гг.: виртуальный мир. В точном современном смысле этого слова: прописанный до мелочей, до рельефа, топонимов и дат, как в компьютерных играх. Пока их не было, Гринландия казалась чем-то вроде «страны Фантазии» Энде, но потом вдруг выяснилось, что это нечто большее, как и Средиземье Толкина: не просто воображаемое место действия, а целая альтернативная вселенная. Чем-то схожая с нашей, чем-то иная — и безумно интересно разбираться, чем именно.
Мы и попробуем, но пока пойдем дальше. Осилив энный корпус гриновских книг, ощущаешь некую растерянность. Чего-то не хватает — чего-то такого, что обязательно должно быть в книгах, написанных русским писателем на русском языке. Хоть в нескольких, хоть бы и в одной — по крайней мере чтоб отметиться, поставить галочку, пробить в истории штамп «уплочено». Звание русского писателя присвоено, мол, на законных основаниях. Но нет. Максимум — найдешь в ранних его рассказах суровый быт революционеров и старателей; но «чего-то» не будет и там. И нигде. Даже в рассказах о революционерах Грин умудряется писать… о революционерах.
А не об идеологии.
И тем более — не идеологизированным слогом.
Серебряный век и долгие его отголоски, безусловно, — один из высших культурных взлётов в истории. И вместе с тем это какой-то сплошной ядовитый туман идеологий, которым были пропитаны и отравлены все без исключения. Верить и поклоняться было необходимо для пропуска, видимо, не только на социальный Парнас, но и на личный, творческий: без этой дани Богу или сатане (кто как посмотрит), похоже, просто не выплясывалось. Кто бы кого или что ни обличал бы и ни развенчивал — обязательно надо хоть где-то, хоть кому-то или чему-то, но воскурить фимиам. Обличаешь «вечно бабье в русской душе», как Бердяев — воскури истинно великой России, которая совсем не там, где все думают. Обличаешь историческую ответственность русской интеллигенции, как Блок — воскури гибели культуры, которой так и надо, — а заодно и новой власти. Ничего не обличаешь — тоже воскури: не Прекрасной Даме, так хотя бы отцу своему, Дьяволу, как Сологуб.
Но был один, который не курил никому.
Ни дореволюционным потребителям фимиама, ни советским.
Главное, что в это стерильное «никому» не вошло даже то, без чего тогда русских писателей просто не аттестовали: национальная ангажированность.
Грин — русский писатель по языку, по нитям традиции, связывающим его с романтизмом и символизмом, с клейкими листочками и с краем бездны, с «дальше некуда идти» и с «девочка уже не ребёнок, но ребёнок ещё не девушка» — по чему угодно, кроме того, от чего до сих пор зависит штамп в историческом паспорте: вовлечённости в национальный миф. Русской идеи, колесящей на птице-тройке. Были истово верующие в неё (их много), были верующие тихо, без шума (их меньше), были и неверующие, но всё равно вовлеченные, потому что это вопрос не только веры, но и дискурса. У Серебряного века, казалось, просто не было слов, свободных от этой веры.
Но Грин как-то их нашёл. Он не просто эскапист, — он эскапист абсолютный: коль сбегать в Гринландию, то без остатка. Как у Олега Медведева:
Чтоб этому миру в глаза швырнув
Пеплом своих пристанищ,
Крикнуть ему: «Я поймал волну,
Теперь хрен ты меня достанешь!»
В самой этой абсолютности есть нечто русское, но мы ведь о другом. Грин не просто швырнул «пеплом своих пристанищ» в глаза русскому мифу: это была его осознанная позиция. В «Фанданго», программном мировоззренческом тексте, он не только описал портал, ведущий из России в Гринландию, но и символизировал то и другое в образах двух картин. Первая — творение «великого национального художника» Горшкова (уже фамилия и титул говорят почти обо всём):
Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, — в чем предполагался, однако, порыв.
— «Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю. — Величайшая вещь!
(Не знаю, есть ли более убийственная сатира на среднестатистическую русскость, ставшую дресс-кодом.)
Другая — картина неизвестного художника, которую торговец отдавал почти даром:
Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни — была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей. <...> Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в (этой) комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.
Я специально привел длинную цитату для того, чтобы было видно: Грин описал то, к чему стремился в своих текстах сам. Уже этого достаточно для понимания его позиции, — но он идёт дальше. Под воздействием магического кристалла (не того ли, сквозь который даль свободного романа?) картины раскрывают свою суть:
Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.
А вторая картина открывает путь к бегству от классических засохших мух: портал в Гринландию.
И здесь самое время вернуться к вопросу, который мы отложили на потом. Что это за страна такая — Гринландия? На что Грин променял засохших мух? Чем схожи и различны два мира — тот, откуда он сбежал, и тот, куда?
Кажется, что ответ очень прост: Гринландия — мир мечты, сделанный из книжной экзотики. Квинтэссенция всего удивительного, собранного с тысяч чужих страниц в фонды воображения.
Обычно такие ответы слишком просты, чтобы быть правдой. Так и здесь: тогда Гринландия была бы копией тысяч других книжных стран, ради которых вовсе не один только Грин громоздил буквы. Чем Гринландия несхожа с ними (взять хотя бы Беляева, ближайшего к Грину любителя иностранных имён)? Хоть несхожесть очевидна, ответ долго не будет находиться, а когда найдется — будет странным, как и всё у Грина. Гринландия не схематичнее, не мертвее нашего мира, как положено книжной стране: она отличается от него в другую сторону. Гринландия реальнее реальности, живее жизни, как картина-портал реальней и живее не только Горшкова с мухами, но и всего холодного-голодного Петрограда. Гринландия более настоящая, чем мир, из которого мы с вами её наблюдаем.
Грин строит этот эффект приёмами, с которых мы начали наши наблюдения:
суггестией, создающей неосознанный фон, без которого нет объема, наполняющего текст жизнью;символикой, достраивающей текст во все невидимые стороны и работающей на перспективу, без которой тот лишается пространства и времени;главное: остранением говорящих персонажей, которое пробивает инерцию наших привычек, царапает нас по живому, стимулирует наши рецепторы.Это работает и в жизни, когда на фоне будней врезается в память встреча с кем-то, кто ведёт себя так ярко, что кажется живее других, в том числе и нас с вами (обычно это бывают девушки и дети). Такими и придуманы гриновские герои.
Будни, сделанные из ваты с нафталином — враг Грина, как и любого романтика. Вот только пути к бегству у всех разные. Для большинства романтиков и их потомков картины Горшковых и Ко — вполне себе портал.
Здесь и проходит незаметная, но очень жесткая линия разграничения. Большинство эскапистов всех мастей (а любой романтик — эскапист), возжаждав свободы, бегут из огня в полымя — в идеологию. В национальную идею, в род, в соборность, в слияние-приобщение, в иллюзию единения, обезболивающую одиночество побега. Весь Серебряный век про это.
Кажется, Грин первый, кому удалось найти портал в мир, одновременно и конкурентоспособный с нашим, и чистый от идеологических токсинов. Чужие миры или манили именно этими токсинами, или заметно проигрывали нашему, не оправдывая претензии на лучшесть. Чем, кстати, гриновский мир лучше нашего? Ведь в нём, в общем, всё то же, что и здесь: зло, несправедливость, пороки «слишком человеческие» и отнюдь не книжные. В своих портретах Грин — честный реалист, хоть и остранитель.
Только так поставив вопрос, понимаешь главное отличие Гринландии от нашего мира: свобода.
Не в том смысле, что там нет принуждения, а в том, что оно там всегда в фокусе. Гринландия лишена фоновой несвободы, нерефлексированной автором и главными героями, — несвободы от чего угодно, что кажется иллюзией свободы. От великих идей. От желания слиться с каким-нибудь правильным «мы». От тяги вернуться обратно в маму. От озарений, кого именно нужно убить, чтобы наступил правильный изм. От веры в богов, в пророков, в племена и во что угодно, кроме необходимости бегства.
— Свободным, — сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь. — Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь.
Гринландия — единственная в литературе того времени территория свободы, выдержавшая проверку временем и любыми его реактивами. Всем известен этот эффект общения с текстами прошлого, как с почтенными стариками: вот здесь мы их любим, вот тут уважаем, а там и там тактично закрываем глаза, ибо все всё понимают. В Гринландии ни с каких позиций ни на что не нужно закрывать глаза. Она не устаревает, а только делается всё ближе и современней.
Учитывая, что Гринландия — не один и не десять текстов, а целая библиотека, это удивительно.
Недаром ее визитка — один из главных символов свободы в мировой культуре: море. И недаром в «Блистающем мире» оно соединилось с другим главным символом свободы — полётом. Если «Фанданго» — программный текст об отношениях двух миров, то «Блистающий мир» — программный текст о свободе.
Это единственный у Грина остросоциальный роман, едва не переходящий в антиутопию (неплохо для идеального книжного мира? но Гринландия вполне позволяет строить и такие, и любые другие социальные модели). Это первый роман Грина; показательно, что лейттему для него он выбирает не лирическую, которая была бы логична после «Алых парусов», а социально-философскую: коль уж роман, коль уж замахнулся на такого слона — изволь сказать обо всём главном.
Антитоталитарный сюжет, разыгранный в вымышленной стране — не исключение, скорей одно из правил. Тут и вынужденный эзопов язык, и главное — возможность обобщить, не сковываясь конкретикой (сразу вспоминаются «Тень» и «Дракон» Е. Шварца, написанные 15-20 лет спустя «Блистающего мира» и, возможно, не без его влияния).
Итак, каков он, остросоциальный роман в Гринландии, стране Алых парусов и Режи, королевы ресниц? Центральный его персонаж — Друд, типичный гриновский герой-чудотворец (по терминологии Л. Белогорской), в отличие от других своих коллег по должности (Грей, Гарвей, Ганувер) — чудотворец не в переносном смысле, а в самом прямом: он умеет летать. И автор намекает, что это не единственная его сверхспособность.
А далее Грин даёт совершенно неожиданный, хоть и подготовленный «Великим инквизитором» поворот. Конфликт Друда с тоталитарным государством заключается не в том, что он говорит или делает какую-то контру. Конфликт — уже в самом существовании Друда:
Никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу, Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может.
Другие опальные чудотворцы как минимум чему-то учат. Или своим голосом, или авторским. Иешуа предлагает смотреть на солнце через прозрачный кристалл, а за кадром общения Инквизитора с Христом фонит неозвученное, но всем ясное противопоставление неправильного католицизма правильному православию. Друд не делает ничего. Он просто летает, и этого достаточно. Чтобы поддерживать свою сверхспособность, ему нужны зрители: чем больше — тем она мощней. Как и наоборот: чем больше они наблюдают чудо — тем ближе к нему сами. Открытый полёт чреват и потрясением зрителей, и неприятностями для Друда, поэтому он вынужден маскировать его всевозможным камуфляжем: то цирком, то летательным аппаратом. Аллегория, как видим, наглядная и блестящая, как и «картина Горшкова», и другие у Грина.
Кроме Друда, в фокусе романа две женщины — Руна и Тави. И если Тави — обжигающе правдивый портрет «девушки-живого стихотворения» (видимо, её имя — зашифрованная «вита»), и нужна она как противовес социальному плану, то Руна дополняет этот план — и тоже неожиданно.
«Друда не должно быть» — не единственный вывод из его конфликта с государством. Так считает старшее поколение — министр Дауговет; но молодёжь другого мнения. «Чудо нужно уничтожить»? Скучно и неостроумно. Иное дело — «чудо должно работать на нас». Чудо — не крамола, а окно возможностей. Стоит объединить с ним практический ум — и Наполеон лопнет в гробу от зависти. Вся эта презренная толпа, да и министры-бюрократы вкупе с ней — вот где они у нас будут!
Какая же жалость, что чуду это неинтересно.
Руна в сюжете не только для того, чтобы оттенить Тави, но и чтобы избавить читателя от искушения видеть Друда похожим на неё. Друд рискует выглядеть сверхчеловеком, и нужна Руна, чтобы расставить точки над этими i: человек-чудотворец — и потенциальный фюрер, презирающий толпу. Друд тоже не рвётся служить ей: жертвенность, типичное отечественное подчинение личного коллективному – это явно не о нём. И вообще толпа в целом и в отдельных своих атомах изображается в романе так нелицеприятно, что поневоле понимаешь Руну больше, чем она того заслуживает. «Цезарь пылит… Пыль — и Цезарь». Друд, безусловно, высокомерен. Но, однако же, он зависим от толпы — считать её таковой или нет, — и своей миссией считает воздействие на неё. Прав ли он?
И тут мы подходим к едва ли не самому интересному в романе: к двойному финалу.
Как его только не трактовали (уж больно непривычен), — но, конечно, это именно он. Представьте, что в компьютерной игре вам дают на выбор две альтернативных концовки, но при этом: 1) релиз игры вышел в 1923 году, 2) вы имеете статус чудотворца и можете совместить обе одновременно. Так и делает Друд. И неспроста: уберечь в одной сюжетной линии всё, что ему дорого, просто нельзя.
Правда, одна из концовок не может не быть иллюзорной. Какая — вопрос скорее читательской веры, чем замысла автора. В любом случае «миссия невыполнима»: в какую концовку читатель ни поверил бы, социальная линия романа ведёт к краху. Чёрт возьми, неужели Руна права?..
И напоследок — немного на тему «Грин и мы».
Удивительно, но кто из всей ослепительной компании конкурентов — Булгаков, Грин, Платонов, Замятин, Каверин, Зощенко и мн. др. — остался на общей полке? У того читателя, имею в виду, который «просто читатель», без вспомогательной исторической оптики?
Булгаков и Грин.
В ней-то, в оптике, всё и дело. Каждое новое поколение — новый виток отсева: на следующий тур отбирают именно по этому признаку. Чем больше нужно вспомогательной оптики — тем более специальной делается аудитория. Почему тексты нуждаются или не нуждаются в такой оптике? Казалось бы, тут всё просто: ближе массовому запросу — меньше потребность в ней. Или с другого конца: чем более вечные, общечеловеческие и т. д. и т. п. (добавляем пафосных слов по желанию) смыслы упакованы в текст — тем проще разглядеть их невооруженным глазом.
И снова эта схема слишком проста для того, чтобы быть правдой. Музыке Баха при жизни требовался целый парк оптики, который постепенно редел, редел — и поредел настолько, что именно Бах сейчас выпрыгивает дальше всех из классики в масскульт. Рассказы Зощенко при жизни автора вообще не нуждались ни в какой оптике, а сейчас попробуй-ка вручить их, скажем, подростку — читателю, заточенному на стёб. А в чем прикол-то? — спросит подросток. Но в комедии Мольера не спросит, хоть и «бугага» от него не дождёшься, наверно (тут Мольера потеснили мемасики). Видите, как всё сложно с этим историческим отбором.
Ошибка нашей простой схемы в том, что смыслы в ней упаковываются в текст раз и навсегда, как в капсулу времени. Так не бывает. Всё меняется: и тексты, и смыслы, и читатель, и само время. Предсказать вектор перемен невозможно, хотя некоторым удаётся. Случайно или нет — Бог их знает.
Похоже, Грин — среди этих некоторых.
Давайте-ка посмотрим, что он предсказал.
Что рано или поздно его страна будет нуждаться в романтике бризов и муссонов — раз. При жизни Грина это была бульварщина; спустя 40 лет она превратилась в единственно возможную для взрослых людей форму свободы. Или в мечту о ней. Потому-то Грин стал не просто любимым писателем, а ядром одной из первых русских субкультур.
…Что рано или поздно виртуальный мир врастёт в реальный — два. При жизни автора Гринландия была воображаемой комнатой для игр, только слишком большой; а теперь? Теперь так и вспоминаешь всевозможные старинные фото людей со смартфонами, гуляющие по сети.
(На самом деле Грин предугадал ещё и гиперпространство: хоть бери да и выпускай игрушки по бродилкам «Золотой цепи» и «Крысолова». И наверняка скоро так и будет. А «Бегущая по волнам» — это как, простите, «Алхимик» Коэльо: роман-квест, только гораздо лучше.)
…Что рано или поздно будет важна свобода не только социальная, не только внутренняя, но даже и фоновая — три.
Что свобода не в вере, не в идеологиях и не в борьбе с врагами, как и не в отрицании всего этого. Свобода в том, чтобы просто летать, не спрашивая, что думают на этот счёт всевозможные другие — от цезарей до пыли. Даже беззвучно не спрашивая, в фоновом режиме. Так, как сто лет назад мог Грин, и как до сих пор не может его страна, всасывающая в свою несвободу всех и вся.
Раз он мог тогда — авось смогут и другие.
Авось он поможет.
Киев, 6 августа 2023
Александр ГринБЛИСТАЮЩИЙ МИР
Часть перваяОпрокинутая арена
Это — там…
Свифт
Глава I
Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» Человека Двойной Звезды; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, — не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии, — раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно-небывалое. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?
«В среду, — говорила афиша, — 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человек Двойной Звезды.
Не имеющий веса
Летящий бег
Чудесный полет
Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.
Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до трех секунд полного времени.
Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.
Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».
Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. — только; ни адреса, ни профессии…
Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:
— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но… да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не могу выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.
Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно один раз, ни больше ни меньше, — без гонорара, «без» угощения, без всякого иного вознаграждения. — Эти три без Агассица свистнули солидно и вкусно. — Я предлагал то и то, но он отказался.
По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем — без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделясь в воздух, — двинулся через стол, задержавшись над ним, — над этой вот самой чернильницей, — не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. «Вот все, что я умею, — сказал он, когда мы уселись опять, — но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».
Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался — и даже — зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, — сказал он, — слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот — единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.
На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.
Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»
Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится „царь природы“. И капли пота покроют его лицо»…
Глава II
Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что Двойная Звезда (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и бренчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмиревшего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.
Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря неважна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит… Пыль — и Цезарь.
Глава III
23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея — в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.
Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаться с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как люстры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.
Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; силясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.