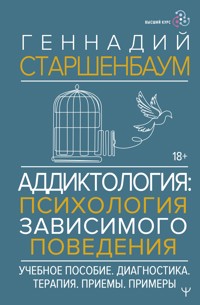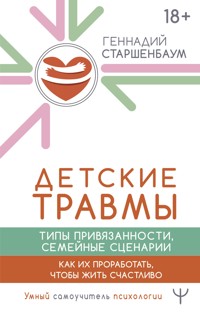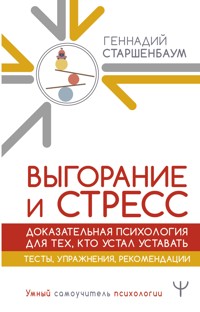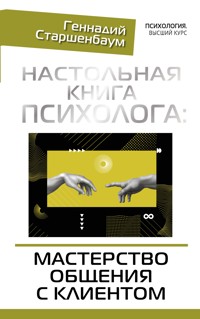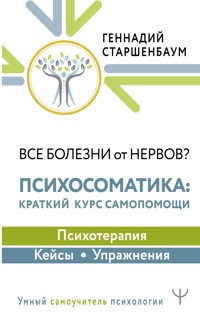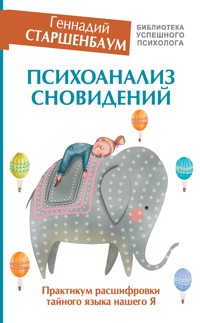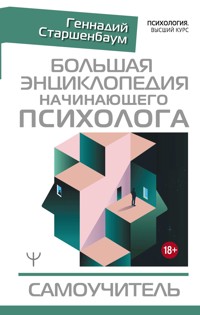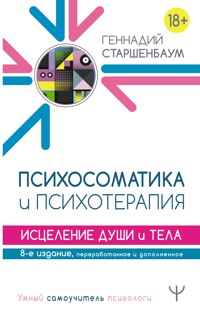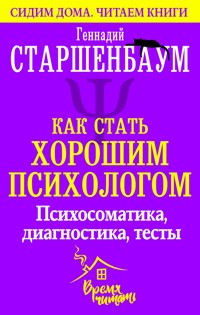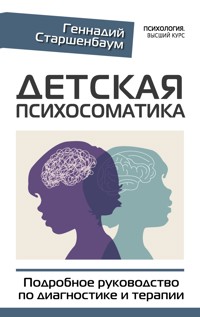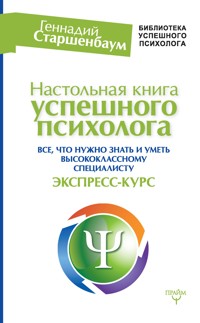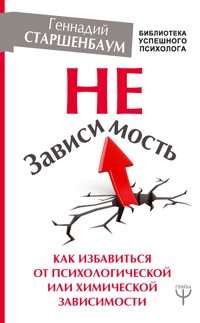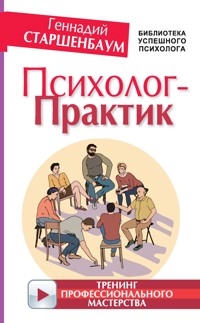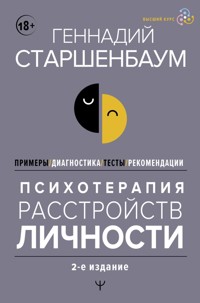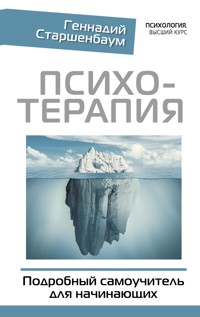Большая книга психологических кризисов. Программа помощи от 3 до 103 лет E-Book
Геннадий Старшенбаум
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Библиотека успешного психолога
- Sprache: Russisch
Эта книга написана психотерапевтом, специализирующимся на кризисной психотерапии. Автор описывает различные варианты психологического кризиса, приводит разработанную им программу кризисной терапии, адаптированной для каждого жизненного этапа от детства к старости. Несложные тесты и индивидуализированные рекомендации помогут читателю объективно оценить психологические проблемы — свои или близкого человека — и разрешить их, самостоятельно или с помощью специалиста. Обучающиеся и практикующие профессионалы (психологи, врачи, педагоги, социальные работники) найдут в книге самые современные данные о кризисных состояниях и психологических методах их профилактики и коррекции. Г.В. Старшенбаум — психиатр-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа, автор нескольких учебно-практических руководств по психотерапии.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Геннадий Старшенбаум Большая книга психологических кризисов. Программа помощи от 3 до 103 лет
Библиотека успешного психолога
Настоящее издание не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.
© Старшенбаум Г., 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Замечательная книга уважаемого мной психотерапевта Геннадия Владимировича Старшенбаума не только расскажет о том, что такое кризис и как он появляется, но и что можно сделать, если в вашей жизни кризис уже наступил.
Книга понравилась, глубоко и подробно описаны как различные виды кризисов, в том числе депрессия – болезнь века, так и условия их развития. Детально исследуются критические периоды в жизни – возрастной кризис, любовный и пр.
Введение
В трудные 90-е годы я работал в Кризисном стационаре, руководил Отделом суицидологии Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ, защитил диссертацию, которая легла в основу монографии «Суицидология и кризисная психотерапия» (2005). В ней я впервые в литературе обобщил теоретические, методические и организационные вопросы суицидологии и кризисной терапии, предложил клинико-психологическую классификацию кризисных состояний и изложил авторскую программу кризисной терапии.
С этого времени многое изменилось. Эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) называют XXI век веком депрессии, гомосексуальность признана нормой, мастурбация широко используется в секс-терапии. Размывается гендерная идентичность, разрушается институт семьи. В ряде стран легализовали наркотики и эвтаназию (добровольное самоубийство), узаконили однополые браки и готовятся узаконить инцест. В Интернете открыто существуют сайты для наркоманов и самоубийц, участились случаи школьного насилия.
В этой книге я попытался систематизировать теоретический и собственный практический материал последних 20 лет. Кризисные ситуации и состояния соотнесены с возрастом, в котором они чаще всего наблюдаются. Большинство глав начинается с клинического случая, затем приводятся современные теоретические представления о данном расстройстве, опросники и советы для клиентов и их близких, а также тесты и терапевтические рекомендации для профессионалов.
Используются еще не переведенные на русский язык диагностические критерии Справочника по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации DSM-V, а также готовящейся к выпуску Международной классификации болезней 11-го пересмотра МКБ-11. Представлена основная литература по затронутым темам за последние 20 лет.
Кризис (др. – греч. κρισιζ – решение, поворотный пункт) – это переломное состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся недостаточными. Вся цепь социально-психологического развития личности скреплена звеньями кризисов. Это, во‑первых, закономерные возрастные кризы, которые могут сопровождаться эволюционными кризисами. К ним относятся кризисы развития у детей и реакции адаптации у подростков и взрослых. И, во‑вторых, это ситуационные кризисы, возникающие под воздействием тяжелых психических травм, эмоциональных стрессов.
В поле зрения психиатров оказываются кризисные пациенты с выраженными реакциями адаптации и реакциями на тяжелый стресс, реактивными и хроническими депрессиями. Клиенты психолога обычно переживают кризис на доклиническом уровне, недостаточно описанном в психиатрической литературе.
Продолжительность психологического кризиса ограничивается обычно сроком от одной до шести недель – время, за которое человек находит средства разрешения своих проблем самостоятельно или с чьей-то помощью. Благоприятный исход кризиса способствует повышению адаптационного уровня человека, включая его способность противостоять кризисам в будущем. Негативный исход кризисного состояния ведет к суицидному поведению.
Каждый третий, совершивший попытку самоубийства, рано или поздно ее повторяет, и каждый десятый в конце концов кончает с собой.
Наибольшее количество случаев суицида приходится на возраст 15–24, 40–60, 70 и более лет.
Суициды – это вторая по частоте причина смерти молодых людей. Высокий уровень самоубийств наблюдается среди демобилизованных офицеров, молодых солдат, людей, взятых под стражу, недавних пенсионеров и инвалидов. У нас более 2,5 млн молодых людей не имеют работы, трудоустраивается лишь половина выпускников вузов.
В группе повышенного риска суицида находятся (по мере убывания вероятности) люди, никогда не состоявшие в браке, разведенные и бездетные супруги. Мужчины заканчивают жизнь самоубийством в четыре раза чаще женщин. Вероятность суицида повышается при наличии хронических сердечно-сосудистых болезней, онкологических заболеваний, депрессии с паническими атаками, алкоголизма и наркомании.
Россия занимает первое место в Европе по количеству подростковых самоубийств. Только в Москве ежегодно пытаются покончить с собой 60 тысяч подростков. Половину от общего числа самоубийств подростков до 16 лет составляют суициды из-за неразделенной любви. Многие дети и подростки убивают себя из-за конфликтов со сверстниками и родителями.
Однако больше всего самоубийств совершают пожилые люди и одинокие старики с безнадежными, смертельными заболеваниями. Уровень суицидов у них в четыре раза выше, чем у других. Пожилой человек отстает от жизни, теряет прежнее положение в семье и обществе, уходят из жизни его близкие люди и старые друзья. Отсутствие социальной поддержки, унизительное чувство ненужности и никчемности, тотальное одиночество – вот те причины, которые толкают наших стариков на самоубийство.
Мы очень мало внимания уделяем людям, которые остались со своими незалеченными ранами после самоубийства близкого, особенно ребенка. Такое горе может «увековечиваться» неослабевающим чувством вины: не заметил, не поддержал вовремя, не настоял на консультации специалиста…
Человек, потерявший близкого, часто ездит на кладбище или, наоборот, уходит в работу, вытесняет психический конфликт в психосоматику, «лечится» от депрессии алкоголем или наркотиками. И далеко не всегда может поделиться горем и разделить его с друзьями и близкими людьми в силу традиционного избегания темы самоубийства в нашем обществе.
Если вы читаете сейчас эти строки, значит, вам небезразличны эти проблемы. Я призываю вас, дорогой читатель, набраться мужества. Нам предстоит нелегкая работа.
Воспитание воспитателей
Мама боится
Из чего твой панцирь, черепаха? —
Я спросил и получил ответ:
Он из мной накопленного страха.
Ничего прочнее в мире нет.
Грешный ангел
Анжела плачет у Милы на руках, отмахивается от меня, просит побить. Она закрывает от меня лицо, машет рукой: «Пока!» Мила разувает Анжелу, усаживает на диван и включает ей мультик на айпаде.
У Анжелы нет мягких игрушек и кукол, которых можно раздевать и одевать. Я приношу ей такие игрушки, но она их не берет, стереотипно ставит и снимает крышу с домика. Анжела использует Милу вместо своих рук. Мне время от времени повторяет свое «Пока-пока».
Анжела в безличной форме приказывает Миле, что для нее сделать, та механически обслуживает ее. Анжела топчется по пластиковой лягушке, потом засовывает ее под плед – спать. Алик с умилением наблюдает за Анжелой, Мила механически гладит ее, жалуясь, что Анжела не отпускает мать от себя даже в туалете, трясет ручками, боится наступать на асфальт и плитки, просится на руки, не умеет одеваться и раздеваться, ходит голой при мужчинах. Мила с жалобной гримасой ноет: «Она же не разговаривает».
Проблемы с речью и другие странности возникли у Анжелы во Франции, где она была с родителями. Она не смогла играть с детьми в песочнице, которые ее не понимали, и у нее пропала речь. Она стала отбиваться от чужих людей, как маленькие французы отбивались от нее. Детский психиатр заподозрила у Анжелы шизофрению и назначила терален. Мила не будет давать ей такой препарат – это было бы подтверждением диагноза, ей страшно даже обсуждать его. Она сама принимает от невроза полтаблетки фенибута и дает треть детской дозы Анжеле, не зная, что малые дозы транквилизатора возбуждают.
Анжела устраивает истерику – она ощущает что-то неприятное на затылке. Алик, не глядя: «Все хорошо!» Я предлагаю поинтересоваться, он расстегивает пуговицу, Анжела умоляет снять ее ручки, ножки, лицо, как она снимает у куколок. Алик поглаживает ей спину, Анжела умолкает. Потом начинает бегать по комнате, гладит лицо папе, потом несколько раз подбегает ко мне и гладит по голове. Несколько минут мы играем в «Уйди – приди», она сама зовет меня.
Анжела включает и выключает свет в течение нескольких минут, просится домой. Алик смотрит на часы: у него деловая встреча. Он предлагает Миле остаться одной или с Анжелой. Мила хочет ехать с ними. Анжела пытается надеть балетки, Алик обувает дочь (без ее просьбы). Анжела прощается со мной за руку, гладит, прижимается щечкой.
Алик вносит Анжелу на руках. Анжела улыбается мне, разрешает подержать себя на руках. Гладит меня по голове, целует и обнимает, приговаривая «Пока-пока». У Анжелы появились мягкие игрушки, она прижимает их к груди. Алик сразу предупредил Анжелу, что сегодня она вне игры, и она первые 15 минут лежит у него на коленях, иногда кряхтит. Анжела играет игрушками между родителями, потом сидит у отца на коленях, играет в «Привет – привет!», тычет мягкой игрушкой ему в лицо, а затем обнимает его. Мила умиляется и воркует.
Анжела старается прийти пораньше на занятия к балерине, которая ей очень нравится. В садике ее все любят, она ходит там с другом за ручку. Родители договорились отдать дочь в детсад на полный день, а потом сказали об этом ей. Анжела произнесла: «Это неправильно». Мила признается, что думала не об Анжеле, а о себе, признается, что за ее наигранной любовью к дочери – пустота. Милу никто не ласкал в детстве, зато все следили, чтобы она не кряхтела и не потела – этим она выдавала себя во время мастурбации. Когда Мила приходила в гости к папиной сестре, та первым делом посылала ее в ванну.
Мать отдала Алика в ясли с 8 месяцев, тащила его туда насильно, он бился на асфальте в истерике – позорил мать. Мила вспоминает, как они возвращались от свекрови. Впереди в 30 шагах Алик, на таком же расстоянии Мила, оглядывающаяся на отставшую на 30 шагов Анжелу. Мила упрекает мужа, что он на прогулке уходит вперед от них с дочерью. Это напоминает ей, как она ждала с мамой возвращения папы из долгой командировки, а потом родители быстро пошли домой, и маленькая Мила не могла их догнать.
Алик в 8 часов вечера посылает дочь спать и щелкает пультом, смотря одновременно несколько каналов. Так он избегает лишних волнений. Анжела возбуждается, капризничает, устраивает истерики. Мила чувствует себя не матерью Анжелы, а прислугой дочери и мужа. Лишь бы они не сердились на нее. Ее пугает и бесит отсутствие эмоционального резонанса у мужа. Ей хочется убить, утопить его. Она разряжает на него агрессию к своей матери.
В 3,5 года у Милы были полипы голосовых связок, врачи приговорили ее к немоте, а мама – к недоразвитости. Теперь Мила воспринимает Анжелу, которая сейчас в таком же возрасте, через эти переживания. Анжела с писком втягивает воздух. Милу пугает этот звук – значит, дочь все же ненормальная. Мила забыла, как втягивала воздух, когда ее душили папилломы. Возможно, Анжела заметила мамину реакцию и теперь дразнит ее.
Анжела играет с отцом, гладит его по лицу, он сидит с ней в обнимку. Мила со стоном вздыхает. Анжела перебирается к ней, гладит ее по лицу. Мила садится на пол, уткнувшись лицом в колени дочери и обняв ее. Анжела гладит ее по голове. Через пару минут Мила облегченно вздыхает, вытирает глаза и садится к мужу на диван. Ей хочется открыть детский садик или детский клуб. Но для этого ей надо чем-то наполниться. Она наполняется, когда болтает с Анжелой. Мила называет мужа папой – видит его глазами дочки.
Мечта Алика – шале в горах, там был бы его дом и бизнес. Мила начинает плакать на плече у мужа, он гладит ее: ты чего? Она обнимает его живот. Анжела сидит отстраненно. Я шепчу ей: мама плачет. Анжела гладит по лицу отца, потом вскользь и мать. Та рыдает. Она очень устала, ничего не хочет. Анжела перебирается к ней, утешает мать, гладя ее по щеке. Мила сокрушается, что испугала ее, Алик весело возражает – Анжела достаточно веселая. Мила стонет: «Алик, пойдем домой, пойдем!» Она оправдывается, что не хочет пугать Анжелу, чтобы та не видела ее такой.
Анжела забирается ко мне на колени. Я говорю, что Мила делает из нее себе маму, а из Алика папу, отбирает его у Анжелы. Анжела обнимает меня и идет к отцу. Мила молча выходит, Алик с Анжелой деловито собирают игрушки. Родители уходят без оглядки. Анжела перед лифтом оглядывается, машет мне ручкой.
Анжела просыпается на даче в шесть. Там легкие светлые шторы, громко поют соловьи, а главное – она в постели боится мухи. Анжела переутомляется. Ей очень нравится новая преподавательница балета и сам балет, но это увлечение сбивает ей режим. В конце недели Анжела устает, перестает запоминать новые английские слова. Между прочим, по-английски она говорит без нарушений, которые появляются, когда она говорит по-русски.
Анжела уходит в себя, взгляд – вовнутрь, это аутизм. Она рыдает по два часа и тянется к Миле, присасывается к ее шее. У Милы это вызывает страх и чувство вины, что она не справляется с психически больной дочерью. Мила с детства играет в больницу. Она мечтала стать врачом, но ее выучили на бухгалтера. Алику до слез жалко дочь, как себя в детстве. Мама предпочитала ему старшего брата, которого видела великим математиком.
Я прошу Милу прочитать вслух описание из справочника: «Детский аутизм характеризуется врожденным нарушением социального поведения. Ребенок не откликается на свое имя, не смотрит в глаза, не хочет, чтобы его брали на руки. Он не боится посторонних, одиночества или реальной опасности, проявляя в то же время страх по отношению к безвредному предмету. Высказывания ребенка являются монологом и ограничены рамками собственного интереса к конкретному предмету. Он не просит о помощи, не пользуется мимикой и жестами, выражает лишь крайнюю степень аффекта криком или плачем, а позднее – хватает других за руку и направляет в нужное место, используя человека как инструмент. В ответ на малейшие изменения внешней обстановки и привычного порядка, на попытку вовлечь в какую-либо деятельность у ребенка может возникнуть реакция панического страха и яростного сопротивления».
Я зачитываю диагностические критерии других детских расстройств, указываю на роль стрессов, в том числе перегрузки различными развивающими занятиями. Родители согласны разгрузить Анжелу, но начинают спорить, как это сделать, в итоге все происходит по принципу: «Дура – сам дурак». Алика бесит Мила – она то тискает дочь, то орет на нее. Вышла за дверь и орала: «Сучка!» (Мила: «Я тихо, она не слышала».) Потом вошла и дернула ее за руку.
Мила жалуется: Анжела ласкается с отцом и трогает себя между ног. Миле приходится оттаскивать ее руки и держать в своих. Вечером у них были друзья Алика, Анжела перевозбудилась, разделась и хотела бежать к гостям голая, от нее пахло, как от текущей сучки. Мила не пустила ее, Анжела долго плакала.
Мила признает, что болезнь дочери укрепляет их брак. Она радостно рассказывает, как ей нравится на даче общаться с Анжелой на ее уровне, и Алик тут же, не отвлекается на дела и других людей. Он бьется, а они с Анжелой – его дочери. Алику в последний год хочется мальчика. Второй общий ребенок придал бы ему больше уверенности, что он не уйдет от Милы (у него на глазах слезы).
Анжела приходит к родителям в постель, хотя перед сном Мила наказывает ей не мешать им утром делать «ангелочков» – она же любит маленьких детей? Анжела боится ухода беременной мамы от нее. Так ушла беременная воспитательница детсада и любимая преподавательница балета. Анжела выбрасывает кукол-девочек в пруд. Играет с куклами-мальчиками, но недавно среди них появилась совсем маленькая куколка-девочка. Анжела просит мать накормить кукол.
Алик упрекает Милу, что она поддакивает мне, а сама ничего не хочет понимать, только боится диагнозов. Соглашалась со мной, когда я зачитывал диагностические критерии, но по-прежнему паникует при мысли об аутизме. Я нужен, чтобы успокаивать ее, убеждать в том, что Анжела нормальная. Мила жалобно кривится: не надо трогать эту тему, это сведет ее с ума.
Алик говорит, что Мила с Анжелой для него на первом месте, а у Милы на первом месте ее родня, на втором – работа, на третьем – дочь. Он устал обслуживать ее страх вызвать чье-то недовольство. Анжела, как кошка, которая лечит больное место, лезет к родителям на колени, соединяет их руки, сближает головы, чтобы они целовались.
Мила освободилась от ответственности за Анжелу, которую взял на себя Алик. Он много внимания уделяет дочери, та уже командует им. Перед сном в 12 часов Алик заходит к Анжеле, она еще не спит. Он тоже долго не засыпал в детстве. По утрам Анжела забирается к Алику в постель, они обнюхивают друг друга, кусают, Анжела эротично возбуждается.
Алик вспоминает, что в детстве ходил по классу, не подчинялся требованиям. Мила обижается, что он не сказал ей об этом раньше. Он не хотел становиться ученым, как старший брат. Зато теперь готов на все для развития дочери. Алик упрекает Милу, что она хорошо устроилась: отправила его с Анжелой купаться на пруд и 40 минут болтала по телефону с матерью. Мила поправляет: 20 минут, и радуется, что на пруду дочь впервые много говорила о себе в первом лице.
Анжела пошла в английскую школу. Она подбегает к воспитателям, закрывает лицо руками, потом выглядывает, кричит «Нет!» и убегает. Она впервые сказала, что боится (индусскую учительницу). Алик хвалится, что они платят в два раза больше других, так как с Анжелой там занимается много специалистов. Они ставят ряд дополнительных условий, но Алик с энтузиазмом готов их оплачивать.
В школе предупредили, что могут отчислить Анжелу ради благополучия других детей, но Алик этого не потерпит и обратится к юристу. Они рекомендуют оставить лишь один иностранный язык. Кроме того, требуют прекратить психотерапию. Я хмыкаю. Мила напоминает, что я не Бог, чтобы оспаривать тактику мировых специалистов уникальной школы, в которой учится Анжела. Но ее радует, что в ходе семейной терапии они с Аликом вскрыли свои детские проблемы, стали лучше понимать друг друга. Они решили начать супружескую психотерапию.
Комментарий. Анжела растет в дисфункциональной семье, ее родители сами росли в таких же семьях и находятся под влиянием непроработанных детских травм. У них наблюдается оценочная зависимость: у отца – в социальной сфере, у матери – в моральной. В основе этой аддикции лежит родительский комплекс неполноценности, который делегируется якобы неполноценной дочери. Забота о ее «нормальном функционировании» служит объединяющим фактором в браке, который может распасться в пылу взаимных обвинений. Такая напряженная атмосфера усугубилась у девочки стрессом попадания в иноязычную среду.
Стресс произошел во время формирования диалоговой речи и других коммуникативных навыков, что привело к развитию социального тревожного расстройства с нарушением речевого развития и элементами аутистического спектра. В процессе краткосрочной семейной терапии удалось добиться некоторого снижения нагрузки девочки. Чрезмерная нагрузка утяжеляла течение расстройства у ребенка. У родителей удалось выработать мотивацию к супружеской и личной терапии.
Страус вовсе не прячет голову в песок – он показывает нам задницу.
Будь готов!
Сегодня для поступления в хорошую школу необходимо уметь читать и логически мыслить. Во многих школах неправомерно вводятся различные программы (например, физкультуру заменяют уроком ментальной математики) и обязательные дополнительные уроки (например, иностранного языка). Учащихся начальных классов обязывают посещать группы продленного дня и различные кружки, не учитывая, что ребенку нужно побыть одному, отдохнуть в спокойной обстановке, поиграть на свежем воздухе. Более 40 процентов школьных программ ориентированы на «продвинутый» уровень образования, в то время как доля одаренных детей в школах не превышает 6 процентов, а имеющих высокие учебные возможности – 15. Функциональные отклонения и хронические заболевания под воздействием школьных программ чаще наблюдаются у учащихся начальных и выпускных классов.
Родители-перфекционисты предъявляют к ребенку завышенные требования, выражают недовольство недостаточно хорошими оценками или наказывают ребенка за них, например, отказывая в чем-то. Родители сравнивают ребенка с более успешным братом или сестрой, формируя у него чувство вины, неполноценности и страх отвержения. Бабушки и дедушки могут чрезмерно опекать такого ребенка и «спасать» его от возможных неприятностей, как беспомощного. В результате у ребенка развивается эмоциональная неуравновешенность, он растет капризным, плаксивым, зависимым от старших.
В классе, где периодически возникает педагогическое насилие, ученики, в основном младших классов, переживают страх, испытывают чувство незащищенности. Дети нерешительны, пассивны, избегают общения с учителем. У таких детей могут также развиваться различные фантазии, лживость, агрессивность. Учителя запрещают ученикам выражать свое недовольство и делиться с родителями, привлекают на свою сторону большую часть учащихся в классе и их родителей, чтобы натравить их на сопротивляющихся или бойкотировать их.
Некоторые школьники, особенно в старших классах, испытывают чувство ответственности за создавшуюся ситуацию, хотят изменить ее. При этом они могут так глубоко вовлекаться в конфликт, что испытывают чувство собственной вины за создавшуюся ситуацию, становятся напряженными и нервными. У многих из них недостаточно развиты коммуникативные навыки и самоконтроль. Стремление таких подростков к лидерству в сочетании с эмоциональной несбалансированностью приводит к конфликтным ситуациям с учителями и сверстниками в школе, возникают конфликты и дома. Отвергнутый подросток может стать «двоечником и хулиганом». Он начинает прогуливать уроки, открыто курить, появляется в школе в нетрезвом виде.
Некоторые дети в силу ряда обстоятельств не успевают усваивать новые темы. Постепенно количество неудовлетворительных оценок увеличивается, ребенок получает обидные прозвища и оскорбления. Он разочаровывается в школе, в людях, в себе, а порой и в жизни. У школьников, находящихся в изоляции и разочаровавшихся в себе, в конце концов могут сформироваться заниженная самооценка и чувство «заслуженности» жестокого обращения с ними со стороны учителей. Возникает чувство неполноценности, одиночества, появляются мысли о самоубийстве.
Рекомендации родителям тревожного дошкольника
Закрепите за ним постоянное место за столом, кроватку. Используйте в занятиях с ребенком знакомые ему игрушки и материалы. Не заставляйте его заниматься непривычными видами деятельности, вначале дайте ему возможность просто посмотреть, как это делают сверстники. Не привлекайте ребенка к соревновательным играм и подобным видам деятельности. Не подгоняйте его, дайте возможность действовать в привычном для него темпе. Хвалите его за незначительные достижения. Если малыш ни на шаг не отходит от вас, поручите ему «важную роль» помощника.
Постарайтесь позитивнее относиться к жизни. Используйте внутренний диалог, состоящий только из позитивных утверждений. Когда у вас появляются негативные мысли, старайтесь тут же переключиться на что-то хорошее.
Ищите в людях не недостатки, а достоинства. Относитесь к себе с уважением. Составьте список своих достоинств и убедите себя в том, что вы действительно ими обладаете. Попытайтесь избавиться от того, что вам не нравится в себе. Чаще смотрите на себя в зеркало с мыслью: стоит ли что-то изменить в себе? Начинайте принимать самостоятельные решения. Помните, что не существует правильных и неправильных решений. Любое принятое вами решение вы всегда можете обосновать и оправдать.
Постарайтесь окружить себя тем, что оказывает на вас благоприятное влияние. Приобретайте любимые книги, музыкальные записи. Имейте и любите свои «слабости». Начинайте рисковать. Принимайте на себя ответственность, вначале с небольшой степенью риска. Обретите любую веру: в человека, в судьбу, в обстоятельства и пр. Помните, что вера в более значительное, чем вы сами, помогает в решении трудных ситуаций. Если вы не можете повлиять на ход событий, «отойдите в сторону» и просто подождите.
Психотерапия. Я всегда спрашиваю у конфликтующих супругов, что их связывает. Обычно до брака – это секс, а в браке – быт и дети. Для многих имеют значение общественное мнение, отношение близких и друзей. Моя задача – выявить все эти объединяющие факторы и выработать критическое отношение к ним: что укреплять, а что взять под сознательный контроль.
Понятие объединяющего фактора объясняет зависимые отношения как взаимную идентификацию с идеализированным объектом (чувственными удовольствиями, моральными ценностями, будущим ребенком). Объединяющими факторами могут быть общий враг, фетиш (тело, богатство), аддиктивность и искрящие страсти («О, как Ты красив, проклятый» – А. Ахматова).
Отец любит дочь за то, что она продолжает его жизнь: «Ты моя хорошая!» Родственники гордятся, что она несет в себе фамильные черты: «Наша кровь!» Гордятся «благородным» происхождением, заслугами предков. В острой форме это может быть влюбленность. В хронической, чаще связанной с тревогой разлуки и зависимым расстройством личности, это эротическая мономания без бреда, но с кризисами зависимых отношений и реакциями затяжного горя.
Нарцисс предлагает в качестве объединяющего фактора свой Я-идеал, с которым он идентифицируется: «Как прекрасно вместе любить меня!» Кризис развивается, когда нарцисс стыдится своего несоответствия собственным завышенным ожиданиям и надеждам идеализирующего партнера. Хорошая чистая девочка в идеале и грязная девка в постели, святая женщина на людях и деспотичная эгоистка в семье.
Зависимые личности испытывают навязчивое влечение к партнеру как лекарству от тревоги разлуки. Объединяющими факторами служат два сценария. Один – для товарища по несчастью, другой – для аддикта избегания, напоминающего отвергающего родителя. В обоих случаях потребность в безусловной любви не удовлетворяется, что лишь усиливает влечение. Развивается кризис зависимых отношений. Затем цикл повторяется.
Пограничные личности страдают от отсутствия стабильных объединяющих факторов из-за мгновенных переходов от симбиоза к отчуждению. Психосоматики переносят борьбу за независимость в соматическую сферу – с организмом как с интимным партнером. Психосоматик боится его предательства и ищет спасителя – целителя, врача или психолога. «Будем вместе спасать меня от болезни».
В отличие от таких отношений зрелая любовь основана на идентификации с реально хорошим партнером (подражательная идентификация) и его идеалом (дополняющая идентификация). Такая любовь включает и детское приятельство, и подростковую дружбу, и родительскую заботу. Такая гармония делает отношение к партнеру по-хорошему сверхценным. При этом он не является незаменимым, как родитель. И не нужен как Карфаген, который обязательно должен быть разрушен.
В психотерапии тревожного ребенка решающей фигурой является объект его привязанности. Родители ребенка, как правило, отличаются повышенной тревожностью, озабоченностью социальным успехом и завышенными соответствующими ожиданиями, которые предъявляют ребенку. В воспитании преобладают тревожная гиперопека, ограничивающий контроль, критика.
Необходима коррекция стиля руководства ребенком, формирование его самостоятельности, самоутверждения. Этому способствуют занятия спортом, танцами, художественной самодеятельностью. Важно, чтобы ребенок и его родители осознали вторичные выгоды, извлекаемые им из робости, в том числе – возможность контролировать таким образом поведение родителей.
Обычно мне приходится вскрывать и разрешать семейные конфликты, скрывающиеся за фасадом внешнего благополучия. С помощью индивидуальной психодинамической терапии я исследую бессознательное значение симптомов, выявляю источники обиды, недовольства, гнева, заниженной самооценки. Постепенно ребенок приучается справляться с все более пугающими его ситуациями, вначале представляя их, а затем и действуя в условиях подкрепления успешного поведения.
Для ликвидации выученной беспомощности я использую ролевой тренинг уверенного, самоутверждающего поведения. С помощью когнитивных приемов корригирую неадаптивные установки, лежащие в основе заниженной самооценки. Эффективна также индивидуальная психодинамическая терапия, которая не должна быть ни слишком краткой, ни слишком долгой. Особого внимания заслуживает фаза окончания терапии (из-за возможности усиления тревоги разлуки в связи с прекращением поддержки).
Все мы рождаемся милыми, чистыми и непосредственными; поэтому мы должны быть воспитаны, чтобы стать полноценными членами общества.
Кризисы развития
Большинство из нас воспитывали так, чтобы мы были хорошими, а не настоящими, приспосабливающимися, а не надежными, послушными, а не уверенными в себе.
Первое время после рождения человек нуждается в самоотверженной материнской любви с безусловным отношением: «Я рада, что ты живой». Наготове у него и врожденные психические защиты. Травма рождения, изгнание из утробного рая включает у младенца чувство грандиозности, всемогущества, отрицающее саму возможность смерти. Эту нарциссическую позицию могут зафиксировать последующие лишения.
До 5 месяцев ребенок ведет себя так, будто он и воспитатель неотделимы друг от друга. Остановка на этой стадии развития формирует симбиотически зависимую личность, не мыслящую себя вне пары. При дальнейшем развитии малыш сталкивается с тем, что «хочу» и «надо» часто могут не совпадать, и это вызывает его недовольство. Ребенок плачет и падает на пол, требуя что-то, он легко обижается, может кидать во взрослого игрушками и т. д.
Отнятие от груди возрождает ностальгию по «утраченному раю» и включает нарциссическую обиду и жажду мести. В ответ страх наказания включает чувство вины. Фиксация ребенка на этом чувстве формирует негативную самооценку и приводит к депрессивной позиции. Некоторые люди так и останавливаются на ней.
В 6–10 месяцев ребенок начинает обожать мать, чтобы возместить ей вред, нанесенный его враждебными чувствами. У него появляется страх причинить ущерб тревожной матери, сочувствие заставляет его бессознательно разделять ее тревогу. Это ухудшает его состояние, что в свою очередь усиливает тревогу матери, замыкая порочный круг.
Годовалый ребенок учится выделять те свои качества, которые одобряют или осуждают воспитатели. Если у ребенка сохраняется убеждение, что нанесенный им вред непоправим и, значит, его вина непростительна, он может вырасти стеснительным, тревожно-мнительным. Разрешение этого кризиса амбивалентности требует способности интегрировать противоположные чувства. В случае неудачи формируется пограничная личность с разграничением всего на ненавистное и обожаемое.
Для нормального прохождения этого кризиса требуется позиция матери: «Я люблю тебя и активного, и спокойного». Иначе формируется основа для двух субличностей: «Я хороший» и «Я плохой». Вторая связана со страхом отвержения и неприязнью к себе. От названных двух персонификаций в это время отделяется более ранняя, хаотическая – «Не Я». Она включает состояния ужаса, отвращения, ярости и т. п. Когда взрослый человек регрессирует в такое состояние, говорят: «Вышел из себя». Такое чаще наблюдается у психопатов из-за слабости «Я».
Наиболее важной проблемой до 18 месяцев становится обретение доверия к себе и окружающим в противовес недоверию и настороженности к людям. Развивается кризис доверия. В 15–18 месяцев непоследовательные, бессвязные материнские сигналы приводят к развитию тревоги и формированию множественных «Я» ребенка. В таком случае отношение к другим и себе сумбурно и непоследовательно, в нем смешиваются безразличие, привязанность и жестокость. Отвержение депрессивной матери, например, переживается как потеря объекта и в анальной фазе может привести к компенсаторному поеданию кала.
В 16–24 месяца развивается кризис отделения: потребность в материнской заботе и одновременно нежелание принять ее. Разрешение кризиса происходит по мере совершенствования навыков ребенка и возникновения способности получать удовольствие от самостоятельного выполнения действий. Благоприятное прохождение этой фазы облегчает ребенку в последующем отделение от матери и формирование самости.
Если поведение воспитателей препятствует этому процессу, ребенку приходится расщепить образ себя на две части: одна часть, ложная, соглашается с внешними требованиями, а другая составляет тайный мир ребенка. Он живет как будто «не совсем настоящий» и всю жизнь злоупотребляет объектами, которые приносят лишь временное облегчение: пищей, психоактивными веществами или другими людьми.
Проблемы в отношениях между матерью и двухлетним ребенком способствуют формированию патологических черт характера, возникновению расстройства половой идентификации или расстройств личности. Строгая властная мать лишает ребенка самостоятельности, независимости. Став взрослым, ее сын может стать подкаблучником или будет избегать близких отношений, чтобы не попасть вновь под власть женщины. Стеснительная, самолюбивая, раздражительная и обидчивая мать передает своему ребенку качества, которые мешают ему переносить обычные проблемы и разочарования в отношениях.
– Мам, а когда я выласту – я буду на тебя похоза?
– Будешь, доченька, будешь…
– Ну и зацем тада зыть?!
Кризис трех лет (стадия независимости) связан с регулированием враждебных и агрессивных чувств. Решается конфликт: инициатива против чувства вины за свои желания и потребности. Ребенок начинает проверять любовь окружающих к себе в условиях проявления своей независимости. Позиция родителей: «Мы любим тебя таким, какой ты есть» помогает ребенку сформировать механизмы самоутверждающего поведения и самостоятельного совладения с фрустрациями.
В это время ребенок проявляет следующие черты.
• При негативизме ребенок поступает наперекор определенному человеку и собственному желанию.
• Упрямство заключается в готовности настоять на своем решении только потому, что уже высказал его.
• Строптивость является скрытым бунтом против прежних правил. Ребенок отказывается ложиться спать в обычное время, ходить в садик и т. п.
• Своеволие проявляется в том, что ребенок стремится делать по-своему даже то, что еще не умеет: «Я сам!»
• Протест-бунт выражается в постоянных ссорах с родителями без явной на то причины.
• Обесценивание распространяется на любимые прежде игрушки, книги, которые он ломает и рвет, называет бранными словами. Он критикует взрослого, чьи слова раньше воспринимал безоговорочно.
• Деспотизм характеризуется стремлением доминировать, проявлять ревность, агрессию, впадать в истерики. Мотивация поведения – идентификация с агрессором.
• Фантазирование и вымысел, направленные на защиту от наказания («это приходил бабайка и съел все конфеты»), демонстративное проявление чувств, хвастовство.
Чтобы справиться с этими проявлениями, взрослый должен быть очень терпеливым и проявить хитрость и смекалку. Например, зная, что ребенок воспротивится сну, предложить ему делать все что угодно, только не ложиться и не закрывать глаза. Также не рекомендуется подкреплять истерику (давать то, ради чего она была вызвана), иначе она станет действенным способом добиться желаемого.
В 3–5 лет формируется половая идентификация. Ребенок различает пол окружающих, осознает свою половую принадлежность и ее необратимость, идентифицируется с родителем того же пола. Неразрешенные детские проблемы во взаимоотношениях с родителем другого пола впоследствии вызывают страх одиночества и расставания, избыточное ожидание ответных чувств любви от партнера, приводят к конфликтам в браке.
В 5–10 лет вырабатываются полоролевые (гендерные) установки, в играх происходит обучение полоролевому поведению, развиваются дружеские отношения. Часто отмечается соперничество между братьями и сестрами. Оно начинается в период до 6 месяцев после рождения младшего брата или сестры и заключается в антипатии к младенцу. В этой ситуации наблюдаются признаки возрастной регрессии, вспышки гнева, раздражительность, нарушения сна, оппозиционное поведение по отношению к одному или обоим родителям, попытки вернуть их внимание.
Отец дарит своей пятилетней дочери на Новый год костюм феи: платье со шляпкой и волшебной палочкой. Та наряжается в костюм, и папа ей говорит:
– Ну-ка, давай, соверши какое-нибудь волшебство.
Тогда она подходит к лежащему в кроватке шестимесячному братику, дотрагивается до него волшебной палочкой и произносит:
– Исчезни!
Стремление ребенка к свободе и его негативная реакция на родительский авторитет приводит к развитию кризиса 7 лет. Решается конфликт: прилежание и компетентность против чувства неполноценности. Помогающая позиция матери: «Я люблю тебя, и когда мы разные». От взаимодействия ребенка с родителями, учителями и сверстниками зависит, будет ли он доволен собой и уверен в себе. Удачное прохождение кризиса способствует формированию эффективного полоролевого поведения, сексуальной привлекательности.
Ребенок приобретает новый социальный статус – статус ученика. Он утрачивает детскую непосредственность и наивность. У него могут появиться некоторая странность и непонятность поступков, манерность и вычурность поведения, кривляние, агрессивность и аффективные вспышки. Если ребенок разочаровывается в своих возможностях и навыках, проявляющихся в школе и во дворе, у него возникают чувства собственной неполноценности и унижения. Нарушения на данной стадии приводят к повышенной тревожности, размытости образа «Я» и неустойчивости самооценки.
Реакция оппозиции возникает в ситуации лишения привычной любви и заботы со стороны матери и других близких или непомерных требований с их стороны. Подобное поведение близких особенно травмирует ребенка в ситуации школьного насилия. Социальная дезадаптация, продолжающаяся больше года, приводит к прогулам школы, уходам из дома и демонстративному суицидному поведению. Для профилактики подобных нарушений у тревожного ребенка желательно получить советы детского врача и психолога о том, какую программу в школе сможет освоить ребенок, и заручиться поддержкой школьного психолога.
Опросник родительского отношения
Обведите кружком номер утверждения, с которым вы согласны.
1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка заметно отклоняется от нормы.
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют.
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
6. Я уважаю своего ребенка.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто мне неприятен.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда жестокость по отношению к ребенку приносит ему пользу.
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения.
15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит недостаточно развитым.
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.
18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет хороший человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, как другие дети.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне более воспитанными и разумными, чем мой ребенок.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким.
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни.
31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.
39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрямство.
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.
41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка – это одна сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то обязательно получается не так, как нужно.
55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю это от него.
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям.
Ключ:
Принятие-отвержение: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.
Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.
Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.
Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.
«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.
Обработка результатов
За ответы, совпадающие с ключом, начисляется по 1 баллу. Суммируйте баллы по каждой шкале.
Интерпретация результатов
Принятие-отвержение
24–33 балла. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает его планы, проводит с ним немало времени и не жалеет об этом.
0–8 баллов. Взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, иногда даже ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением подавляет ребенка.
Кооперация
7–8 баллов. Взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка. Он высоко оценивает способности ребенка, поощряет его самостоятельность и инициативу, старается быть с ним на равных.
1–2 балла. Взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может быть хорошим воспитателем.
Симбиоз
6–7 баллов. Взрослый не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от неприятностей.
1–2 балла. Взрослый устанавливает чрезмерную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим воспитателем для ребенка.
Авторитарная гиперсоциализация
6–7 баллов. Взрослый ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным как воспитатель для детей.
1–2 балла. Контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим показателем по этой шкале является 3–5 баллов.
«Маленький неудачник»
7–8 баллов. Взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим воспитателем для ребенка.
1–2 балла. Взрослый считает неудачи ребенка случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, является неплохим воспитателем.
При проведении семейной терапии я вначале выслушиваю родителей отдельно от детей. Помогаю родителям осознать связь поведения ребенка с психотравмирующей ситуацией в семье и характерологическими особенностями родителей. В то же время указываю на положительные моменты в семейных отношениях и в личности ребенка как на терапевтическую перспективу.
Затем мы вырабатываем общую точку зрения на причины расстройства, способы его лечения, а также на воспитание ребенка. При этом я подчеркиваю роль обоих родителей в психотерапии, необходимость тесного сотрудничества с терапевтом. Пытаюсь реабилитировать ребенка в глазах родителей, уменьшить излишнюю строгость и принципиальность в отношении к нему, предоставить ему больше самостоятельности и возможностей для эмоциональной разрядки, игр, движений. Обращаю внимание на необходимость единства и последовательности в родительских решениях и устранения препятствий для эмоционального контакта ребенка с кем-либо из членов семьи.
Совместная психотерапия больного и родителей осуществляется на последующих встречах, когда обсуждается динамика лечебных изменений и отношений в семье. Открыто рассматриваются семейные конфликты. Родители и дети прямо высказывают свои мнения. Я не тороплю и не осуждаю ребенка, отмечаю его положительные качества, одобряю его детскую непосредственность и активность, желание наладить отношения с родителями. Подчеркиваю роль родителей в процессе терапии.
Каждую встречу по возможности я завершаю совместной ролевой игрой-импровизацией, в которой участвую и сам. Тему для игры предлагает поочередно каждый, в том числе и я. Используется обмен ролями, что дает родителям и детям возможность лучше понять друг друга, овладеть навыками руководства и подчинения. При этом у меня возникает возможность показать родителям образец конструктивного решения конфликта.
Привела сына в садик. В раздевалке подходит ко мне девочка и говорит:
– А Костя мой жених, и у нас скоро свадьба.
Я начинаю потихоньку отходить от новости, что скоро стану свекровью, и тут новый удар:
– А жить мы будем у вас.
Ну, такого подвоха я вообще не ожидала. И решила я своей «невестке» подыграть. Спрашиваю:
– А мама твоя не против?
И тут шестилетняя девочка мне выдала:
– Нет. Вы знаете, как тяжело сейчас найти мужчину с квартирой и с престарелыми родителями.
Отвяжитесь!
Решиться обзавестись ребенком – дело нешуточное. Это значит решиться на то, чтобы твое сердце отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела.
Жизнь с пуповиной на шее
Таисия Евгеньевна привезла ко мне своего 15-летнего сына, которому через год надо поступать в вуз, а у него много проблем. Таисия Евгеньевна дает мне самодельную историю болезни.
Она родила сына в 35 лет, после защиты диссертации. Муж старше нее на 17 лет. Его мать болела шизофренией, брат многие годы провел на принудительном лечении в психбольнице. Его сестра совершила суицид, ее дочь тоже. Сын мужа от предыдущего брака 5 лет жил у отца. В квартире – наркоманы, варка зелья с ацетоном и уксусной кислотой. Женя все это переживал очень тяжело.
Женя боялся ходить в школу, точнее, отпустить мать. Во втором классе боялся, что что-то случится. В 11 лет мать оставила его у родителей и уехала, он там три дня молча сидел задумчивый, а потом спросил у деда: «Скажи честно, где моя мама?» После этого он начал хуже учиться. Раньше он много читал, играл в шахматы и занимался музыкой. Все эти увлечения он забросил, «потонул» в компьютерных играх и начал общаться с фашиствующей молодежью.
Когда Женя ложится спать, ему нужно, чтобы мама его «приспала». Когда ситуация стрессовая, он все время заглядывает ей в глаза: он ничего плохо не сделал? Она не сердится? От громких звуков и криков у него начинает болеть голова. Агрессивные проявления настроения взрослых вызывают у него внутреннюю дрожь, он мерзнет, у него дрожат колени, болит желудок, сердце.
Таисия Евгеньевна развелась с мужем и осталась жить с ним в его квартире. У сына была фамилия отца, которую он возненавидел. После развода она вернула себе фамилию своего отца, которую носит теперь и сын. Он и назван в честь деда. В глубине души Таисия Евгеньевна неприязненно относится к сыну. Она хотела бы пристроить сына к своему другу. Или ко мне.
Женю раздражают учителя и мать. Ему стало невыносимо жить под одной крышей с отцом. Он поздно приезжал с подготовительных курсов, не высыпался, запустил учебу в своем физико-математическом лицее. В его классе половина отлично успевала и на курсах, и в текущей учебе, а он неуспевающий. Были и середняки. Он завидовал в глубине души отличникам, а середняков не замечал.
Женя оставил курсы, решил поступать не в МГУ, а в радиотехнический, где маленький конкурс. После каникул перейдет на менее престижное, но более легкое отделение в лицее. Он боится не быть на высоте, как требует мать. Она пообещала ему премию за успех. Он и сам не умеет договариваться с собой иначе чем кнутом или пряником. Похоже на игру «Назло маме отморожу уши», раз она так заставляет учиться.
Женя ест вне дома, потому что дома тяжелая атмосфера. Он занимается кикбоксингом, а до этого ходил с ножом. Наверное, у него что-то изменилось после сотрясения мозга, когда его стукнули бутылкой по голове, и на следующий день у него кружилась голова и тошнило. Ему навязчиво снились сны, где за ним ходил кто-то и всаживал ему нож в спину, он падал с дикой болью и просыпался. Или он подходил к своему зомбированному двойнику, боясь его протянутой руки. Наверное, в этом убийце прячется его мать.
Отец бил его за непослушание, сгоряча. А мать утром оставляла на столе список домашних дел на сегодня, в котором, как правило, была строчка: «Выпороть Женю за…» Приходила с работы и била, читая мораль. В 15 лет он схватил ее за руку, вырвал ремень и сказал: «Больше не дам». И так на нее посмотрел, что она испугалась – за его рассудок.
Ему нравятся импрессионизм и сюрреализм, он в четыре года увидел «Жирафа в огне», и теперь у него есть альбомы Дали. Он показывает на мобильнике мне свой рисунок лица, где вместо носа – изящный женский силуэт, один глаз – как живой, а другой, как у скульптуры, – мертвый.
Таисия Евгеньевна позвонила утром в панике: сына выгоняют из школы, у него под глазом фингал – сигнал его социальной опасности. Женя зол на социального педагога – учительницу химии, которая придралась к нему из-за синяка под глазом. Он получил его в драке с бывшим другом. Тот раньше давал Жене в долг, и Женя всегда возвращал свои долги. Потом Женя с трудом собрал для него пять тысяч рублей, но друг уже год не отдает. Женя решил поставить его на счетчик, но друг заявил, что заложит участников коллективной драки, в которой зарезали их приятеля. Женя припугнул его местью тех, кто останется на свободе, тот в свою очередь заявил, что его друзья круче.
Женя признается, что выясняет отношения, провоцируя драки, так как хочется убивать. Летом он начнет работать, чтобы не скучать. Я говорю о возможности самому оплачивать мою работу. Но мать предупредила его, что если он начнет зарабатывать, то будет обслуживать себя сам.
Таисия Евгеньевна приехала обсудить, как повлиять на поведение сына, ему грозит исключение из школы, и к тому же он попал в секту. Ее не удивишь исключением из школы, он поменял уже четыре школы. Он наверняка обманул меня, что улучшил посещаемость и успеваемость. Хотя про его успеваемость и посещаемость она не знает, так как не следит за этим, подключается, только когда надо его спасать. Она дружит с его классной руководительницей, наверное, он догадывается об этом. Разве она говорила, что неприязненно относится к сыну? Ей такое не могло присниться даже в самом кошмарном сне. Ей некогда приходить вместе с ним. Она работает на трех работах, ей надо дотянуть сына до вуза.
Комментарий. У Жени плохая психиатрическая наследственность, детство прошло в конфликтной семье. В 11 лет мать «сдала» его бабушке, и у него на фоне тревоги разлуки развилось социальное тревожное расстройство детского возраста. Причина его невроза – конфликт между понуждением к работе и стремлением к чувственным удовольствиям. Жене не нужны престиж и высокий заработок, это не его потребности, а родителей. Он лишь соперничал с отцом и боялся, как ему внушали, что не сможет сам справиться с трудностями. Мать внушала это из-за тревоги, а отец – ради самоутверждения.
Подростковый криз протекал с игорной компьютерной зависимостью и реакцией социальной оппозиции. Не найдя объединяющего фактора ни дома, ни в школе, Женя стал искать его в виртуальном пространстве и в группе маленьких разбойников. Скорее всего, Таисии Евгеньевне все же удастся дотянуть Женю до вуза. Какую следующую задачу она поставит перед ним? И кого наймет толкачом?
Тревога разлуки (сепарационное тревожное расстройство) у детей часто связана со стилем воспитания, который препятствует развитию самостоятельности и самоорганизации. Например, родители не позволяют ребенку самостоятельно одеваться и купаться. Такие дети боятся остаться одни или идти куда-то без сопровождения. Они проявляют «цепляющее» поведение, находясь рядом с родителями или не отходя от них вне дома или требуя, чтобы кто-то был с ними при переходе в другую комнату в доме. В разлуке они опасаются, что с родителями что-то случится. Детям нужно знать местонахождение родителей и оставаться с ними в контакте. Они неохотно покидают дом или вовсе отказываются выходить на улицу. Дети боятся заблудиться, быть похищенными или попасть в другие обстоятельства, которые не позволят им воссоединиться с родителями.
У таких детей наблюдается стойкое нежелание или отказ спать вдали от дома или не находясь рядом с основным объектом привязанности. Дети с этим расстройством часто испытывают трудности перед сном и могут настаивать на том, чтобы кто-то оставался с ними до тех пор, пока они не заснут. Ночью они могут пробираться к кровати своих потенциальных защитников. Дети могут сопротивляться или отказываться посещать лагерь, спать в домах друзей или выполнять поручения, требующие разлуки. Взрослым с тревогой разлуки может быть некомфортно путешествовать в одиночку (например, спать в гостиничном номере).
Могут повторяться ночные кошмары, содержание которых отражает беспокойство за покинутый объект привязанности (например, гибель семьи из-за пожара, убийства или другой катастрофы). Физические симптомы (например, жалобы на головные боли, боли в животе, тошнота, рвота) часто встречаются у детей, когда происходит отделение или ожидание разлуки с основными объектами привязанности. Сердечно-сосудистые симптомы, такие как учащенное сердцебиение, головокружение и слабость, редко встречаются у детей младшего возраста, но могут возникать у подростков и взрослых.
В случае разлуки с основными объектами привязанности дети с тревогой разлуки могут проявлять социальную изоляцию, апатию, грусть или трудность концентрации на занятиях или в игре. В зависимости от возраста у людей могут быть страхи животных, монстров, темноты, грабителей, разбойников, похитителей, дорожно-транспортных происшествий, путешествий на самолете и других ситуаций, которые воспринимаются как представляющие опасность для семьи или для самих себя.
Некоторые люди чувствуют непереносимую тоску и дискомфорт, когда они находятся вдали от дома. Тревога разделения у детей может привести к отказу посещать школу, что, в свою очередь, может привести к академическим трудностям и социальной изоляции. Когда дети крайне расстроены перспективой разлучения, они могут проявлять гнев или иногда агрессию по отношению к тому, кто принуждает их к разлуке.
Находясь в одиночестве, особенно вечером или в темноте, маленькие дети могут сообщать о необычных обманах восприятия (например, видения людей, заглядывающих в их комнату, пугающих существ, тянущихся к ним, невидимое око, следящее за ними). Дети с этим расстройством выглядят требовательными, навязчивыми и нуждающимися в постоянном внимании. Повзрослев, они могут стать слишком привязчивыми и зависимыми. Чрезмерные требования человека часто становятся источником семейных конфликтов. Тревога разлуки связана с повышенным риском самоубийства.
Девочкам с тревогой разлуки чаще не хочется посещать школу, чем мальчикам. У мужчин более, чем у женщин, может быть распространено непрямое выражение страха разлуки (например, в форме ограниченной самостоятельной деятельности, нежелания находиться вдали от дома в одиночку) или дискомфорта, когда супруг или дети делают что-то врозь, или когда невозможен контакт с супругом или ребенком.
Периоды повышенной тревоги разделения с объектами привязанности являются частью нормального раннего развития и могут указывать на развитие отношений надежной привязанности (например, около одного года, когда младенцы могут испытывать страх перед чужими людьми).
Тревога разделения может начаться уже в дошкольном возрасте и может возникать в любое время в детстве и реже в подростковом возрасте. Как правило, бывают периоды обострения и ремиссии. В некоторых случаях опасения возможного разделения и избегание ситуаций, связанных с отделением от дома или родительской семьи (например, отъезд на учебу), могут сохраняться в молодости.
Проявления расстройства изменяются с возрастом. Младшие дети проявляют беспокойство только при переживании разъединения, они неохотно идут в детский сад или школу. С возрастом дети начинают беспокоиться о конкретных опасностях (например, несчастных случаях, похищениях людей, грабежах, смерти) или испытывают смутные опасения, что не воссоединятся с объектами привязанности. У подростков тревога, касающаяся школы, или отказ от ее посещения обычно связаны не только со страхом разлучения, но и с такими факторами, как конфликт с учителями и прогулы, отвержение сверстниками и школьная травля.
У взрослых тревога разлуки может ограничивать их способность справляться с изменениями обстоятельств (например, переезд, брак). Они, как правило, проявляют чрезмерную озабоченность в отношении своего потомства и супругов и испытывают выраженный дискомфорт, когда от них отделяются. Они могут также испытывать значительные нарушения в работе или социальных ситуациях из-за необходимости постоянно проверять местонахождение близкого человека. Для них характерно сочетание с аффективными и тревожными расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством и расстройствами личности.
Тревога разлуки часто развивается после жизненного стресса, особенно потери (например, смерть родственника или любимого домашнего животного, болезнь индивидуума или родственника, смена школы, родительский развод, переезд в новый район, иммиграция, катастрофа с временным отделением от родных и близких). У молодых людей стрессы включают уход из родительского дома, вступление в романтические отношения и становление родителем. Тревога разлуки может быть связана гиперопекой, тревожной защитой и назойливым вмешательством родителей, что вызывает желание изолироваться от родителей и одновременно страх покинутости.
Социальное тревожное расстройство детского возраста преобладает у девочек; их родители обычно также отличаются повышенной тревожностью. В незнакомой обстановке дети краснеют, говорят шепотом или молчат, пытаются прятаться. Дома они навязчивы и требовательны по отношению к опекающим лицам. Расстройство в первую очередь проявляется в сфере активного отдыха и спорта, особенно в подростковом возрасте, когда возрастают требования к навыкам общения.
Наблюдаются:
1) стойкая боязливость и избегающее поведение в социальных ситуациях, в которых ребенок встречается с незнакомыми людьми, в том числе со сверстниками;
2) смущение, замешательство или преувеличенные опасения относительно приемлемости своего поведения в глазах посторонних;
3) отчетливые нарушения и снижение социальных контактов, в том числе со сверстниками; в новых или вынужденных социальных ситуациях отчетливый дискомфорт, слезы, молчание или уход из этих ситуаций.
Инфантильность бывает результатом неправильного воспитания или неблагоприятных условий развития ребенка в период с 8 до 12 лет. Именно в этом возрасте ребенку надо начинать передоверять ответственность за свои поступки. Рождается инфантильность – из уроков, которые родители делают за ребенка. Из шнурков, которые быстрее завязать самой, чем дожидаться, пока их завяжет ребенок. Из невымытой посуды, которую проще вымыть самой, чем перемывать за ребенком. Из желания уберечь ребенка от риска и ошибок, чтобы не беспокоиться лишний раз и не расхлебывать последствия. Из незнания возможностей ребенка и недоверия к нему.
Корни инфантильности – в неуверенности ребенка в себе: «А вдруг не смогу?»; в привычном стремлении следовать решениям и советам авторитетов, чтобы самому не отвечать за последствия; в нежелании обидеть тех, кто предлагает свою заботу.
В 13–15 лет формируются жизненные цели и личная система ценностей. Определяется группа единомышленников, возникает групповая идентичность со сверстниками. Устанавливается взаимосвязь между моралью, усвоенной ребенком, и групповыми нормами. Адекватная позиция родителей: «Наша любовь всегда с тобой; мы верим, что ты попросишь нас о поддержке».
В это время происходит кризис идентификации. Он включает преемственность с индивидуальным прошлым, чувство постоянства, а также целостное ощущение «Я», включающее цели, задачи и стиль жизни наряду с сексуальной идентификацией. Наблюдается озабоченность своей внешностью, почитание кумиров, охваченность идеологией. Подросток старается укрепить и сделать более явной свою эгоидентичность в отношениях с родителями, сверстниками и лицами противоположного пола.
На пути к достижению идентичности подросток проходит ряд этапов:
1) регрессию к инфантильному уровню со стремлением отстрочить обретение взрослого статуса;
2) смутное, но устойчивое состояние тревоги, связанное с социальной незрелостью;
3) чувство изоляции и опустошенности из-за страха утратить собственную идентичность в интимно-личностных отношениях;
4) ожидание чуда, которое может внезапно изменить жизнь;
5) страх перед общением, особенно с противоположным полом;
6) враждебность и презрение к существующим общественным ролям;
7) презрение к отечественному и переоценка всего иностранного;
8) стремление стать «ничем» в качестве единственного способа самоутверждения.
При неудачном прохождении данного кризиса возможна диффузия идентичности: продление детства с отказом от поиска собственной идентичности. Диффузия идентичности приводит к ролевому смешению, чувствам сомнения, неуверенности, беззащитности, бесцельности и бесполезности. На этом фоне возникают эпизоды отстраненности от себя самого и от реальности (деперсонализация-дереализация), склонность к психогенным депрессиям и суицидальное поведение.
Расстройство сепарационной тревоги по МКБ-11
Выраженный и чрезмерный страх или тревога, связанные с разлучением (сепарацией) с теми лицами, к которым человек привязан (то есть имеет с ними глубокие эмоциональные связи). Для детей и подростков, как правило, объектами привязанности, которые обычно оказываются в фокусе сепарационной тревоги, являются родители, другие члены семьи, воспитатели, в то время как у взрослых такими фигурами являются романтические партнеры или дети. Проявления страха или тревоги в связи с разлучением зависят от уровня развития индивидуума, но могут включать в себя:
• стойкие мысли о том, что несчастье или какое-либо негативное событие (например, похищение) приведет к разлучению;
• нежелание или отказ идти в школу или на работу;
• периодические чрезмерные тягостные переживания (например, истерики, социальная самоизоляция) в связи с разлучением с объектом привязанности;
• нежелание или отказ идти спать, если рядом нет объекта привязанности;
• периодические кошмарные сновидения о разлучении;
• соматические симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, в ситуациях, связанных с разлучением с объектом привязанности, например, при необходимости покинуть дом, чтобы пойти в школу или на работу;
• симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев;
• симптомы не являются более соответствующими другому психическому и поведенческому расстройству;
• симптомы достаточно выражены, чтобы вызвать значительный дистресс (разрушительный стресс) из-за постоянного наличия симптомов тревоги или привести к значительным нарушениям в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных сферах функционирования.
Схожие расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве имеется указание на перенесенное воздействие травматического события, которое может включать потерю ключевого объекта привязанности. Однако в этом случае опасения связаны с навязчивыми повторными переживаниями травматического события, хранящегося в памяти, и избеганием ассоциируемых раздражителей, а не с предчувствием будущей утраты или с угрозой причинения вреда ключевому объекту привязанности. Тем не менее, после перенесенного травматического события сепарационное тревожное расстройство может быть даже более вероятным, чем посттравматическое стрессовое расстройство.
Лица, страдающие тревогой разлуки, часто ограничивают самостоятельную деятельность вне дома или без объекта привязанности (например, дети отказываются идти в школу, ехать в лагерь, испытывают трудности со сном в одиночку, юноши и девушки не поступают в вуз, взрослые не покидают родительский дом, не путешествуют, не работают вне дома). При агорафобии пациенты тоже боятся выходить из дома в одиночку, но их опасения сфокусированы не на разлучении с ключевым объектом привязанности, а на том, что в случае паники помощь не будет доступна или возникнут ограничивающие или ставящие в неудобное положение симптомы.
Угроза разлуки может привести к крайней тревоге и даже панической атаке. При тревоге разделения, в отличие от панического расстройства, беспокойство связано с возможностью оказаться вдали от объектов привязанности и неприятностей, которые могут случиться с ними. Паническое расстройство характеризуется повторяющимися, неожиданными, самостоятельно прекращающимися паническими атаками, которые возникают во многих ситуациях, в то время как состояния паники при тревоге разлуки ограничены ситуациями, когда человек разлучен с ключевым объектом привязанности или предвидит разлуку.
Пациенты с оппозиционным вызывающим расстройством могут демонстрировать поведение, подобное тому, которое наблюдается при сепарационном тревожном расстройстве, в частности, гнев, раздражительность, эмоциональные вспышки и/или вызывающее и своенравное поведение (например, отказ выйти из дома или пойти в школу). Тем не менее, при сепарационном тревожном расстройстве это происходит исключительно в результате ожидаемой или фактической разлуки с ключевым объектом привязанности.
Зависимое расстройство личности характеризуется неизбирательной тенденцией полагаться на других, в то время как тревога разлуки связана с обеспокоенностью относительно близости и безопасности основных объектов привязанности.
Пограничное расстройство личности характеризуется страхом лишиться любви близких, но в этом расстройстве центральными также являются проблемы с идентичностью, самостоятельностью, межличностным функционированием и импульсивностью, в то время как они не являются центральными для тревоги разлуки.
Рекомендации родителям
Необходимо воспитывать ребенка в духе самостоятельности, самоутверждения. Этому способствуют занятия спортом, танцами, художественной самодеятельностью. Важно осознать выгоды, извлекаемые ребенком из его робости, в том числе возможность контролировать таким образом поведение родителей.
Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. Повышенная воспитательная активность родителей угнетает развитие личности ребенка. Позвольте ребенку встретиться с отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть единственно возможным путем – на собственном опыте.
За фасадом внешнего благополучия могут скрываться семейные конфликты, которые можно вскрыть и разрешить с помощью психолога. В процессе индивидуальной психодинамической терапии исследуется бессознательное значение симптомов, выявляются источники обиды, недовольства, гнева, заниженной самооценки. Особого внимания заслуживает подготовка фазы окончания терапии (из-за возможности усиления тревоги в связи с прекращением поддержки).
Вырастая, мы чаще всего становимся теми самыми мужчинами, от которых мать велела держаться подальше.
Затюканный принц
Власть одним ударяет в голову, другим ударяет по голове.
Бунт на корабле
Екатерина привела своего 11-летнего сына. Арсен последний месяц на домашнем обучении. В четвертом классе он так учился весь год. Если бы директор школы не был близким другом семьи, сына давно исключили бы за плохое поведение. Три года назад они ходили всей семьей к школьному психологу, которая давала им тесты, играла с Арсеном в игры и сказала, что мальчик нормальный. Психоневролог тоже ничего не нашел.
Екатерина просит посмотреть мальчика, так как он, на ее взгляд, все же не в порядке, раз плохо себя ведет и иногда уходит в себя – бывает в прострации. До года Арсен был очень тихим, но когда начал ходить, его было невозможно остановить, он совершенно не слушал мать. Говорил только тогда, когда ему самому было что-то надо. В три года Арсена избили в драке, он лежал в больнице, дрался с соседями по палате, по его настоянию мать забрала его домой.
Муж имеет маленькую фирму, которая сейчас не дает дохода. Он недавно попал в ДТП, а через пять дней – Арсен. Как будто сглазили этого мальчика и всю семью, они уже и в церковь ходили, но ничего не помогает. Муж увлекается спортом, отдавал Арсена в секцию тхэквондо, в бассейн, но Арсен ходит не больше недели, просит записать его на футбол, однако отец отказывает, объясняя это тем, что сын не умеет в него играть. Отец не занимается с сыном, предлагает Арсену оставить учебу, а когда тот подрастет, он даст ему заведовать магазином. Когда Арсен подерется, отец бьет его и потом может полтора часа объяснять ему, почему так нельзя. Когда у Арсена что-то не получается, отец обзывает его тупицей и дает подзатыльник – выбивает дурь из головы.