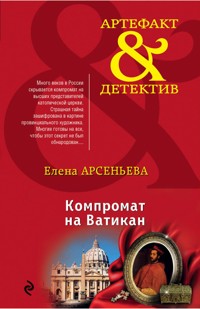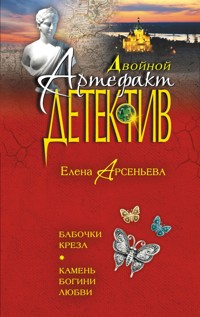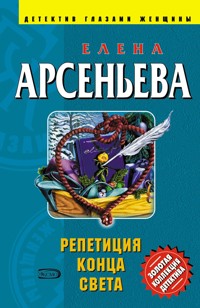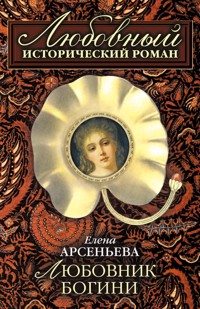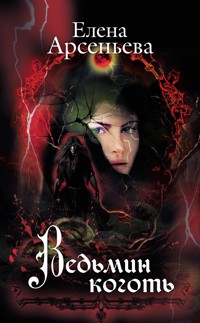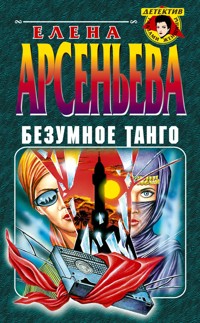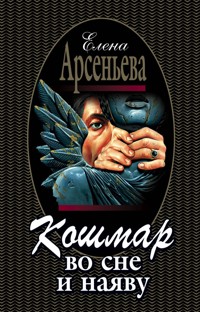Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Детск. Большая книга ужасов
- Sprache: Russisch
Что делать, если стал жертвой черного колдовства или семейного проклятия? Если привычная реальность в один миг превратилась в невероятный, сверхъестественный кошмар? Герои этой книги на своем опыте поняли: главное — не отчаиваться и не трястись от страха! Из любой, даже самой жуткой, ситуации можно найти выход. Ведь часто мы сами не догадываемся, на что способны... Для читателей от 12 лет. «Большая книга ужасов» — старейшая серия ужастиков на российском рынке. На ней выросло целое поколение читателей. Секрет успеха серии прост: в ней собраны по-настоящему страшные и захватывающие истории.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Елена Арсеньева Большая книга ужасов 91. Правнук ведьмы; Верни мое имя
© Арсеньева Е., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Правнук ведьмы
…Я зажмурился – и словно бы увидел тот скрюченный, страшно изувеченный скелет, который Древолаз превратил в свой трон.
Вот что он сделал с моим отцом.
Эх, если бы я мог… если бы я мог отомстить! На все готов ради этого!
Таким злым я себя никогда в жизни не чувствовал. Прямо к сердцу жар подкатывал. Уж не знаю, что еще мне надо увидеть, что узнать, чтобы быть готовым ко всему и на все. Причем я понимал: это злоба отчаяния, злоба обреченного.
Ну да – мы обречены. Так или иначе, рано или поздно Древо зла доберется до нас. Оно уже давно могло бы нас прикончить, но, может быть, ему нравится наш страх. И нравится, что каждый из нас втихомолку мучается мыслями: «Вот если бы я не сделал то-то и то-то, я бы здесь не оказался!»
И это правда.
Коринка, конечно, думает: «Если бы не гроза! Если бы мы не вбежали в тоннель! Если бы у меня не было зонта! И вообще, если бы мы с Пеплом не пошли тогда по «Маленькому поясу», с нами бы ничего не случилось! Мы бы сюда не попали! Мы бы…»
А я грызу себя: «Если бы я не согласился поехать к Потапу! Если бы я не зазевался около почтового ящика! И вообще, если бы Леха не умер той давней ночью, со мной бы ничего не случилось! Я бы сюда не попал! Я бы…»
Если бы да кабы во рту выросли грибы.
Запросто, кстати, они могут у нас во ртах вырасти. Мы ходим практически по кладбищам, и у всех, кто лежит под этим лесом, уже выросли во рту грибы. Наш черед придет. Древо зла нас так или иначе прикончит.
Рано или поздно.
Наверное, надо бы с этим уже смириться – но кто бы знал, до чего же мне охота прикончить Древо зла самому!
Вопрос: как это сделать?..
* * *
– Лесник, ну соглашайся уже! – явно через силу выдавил Потап, не глядя на меня. – Знаешь ведь: если не будет тебя, Лили тоже не поедет.
Моя фамилия Лесников, а его – Потапов. Мы с первого класса вместе учимся: прозвища Лесник и Потап приклеились к нам еще в те времена, ну мы их и таскаем как несмываемые клейма. Привычка свыше нам дана, как сказал Пушкин, а он знал, что говорил.
Ехать к Потапу? Не ехать? Потап бегает за Лили, она бегает за мной, я – от нее, причем очень быстро. Раньше у нас с Потапом были приличные отношения, но из-за Лили он меня почти возненавидел. И в голову бы не взошло, что Потап пригласит меня на этот свой день рождения, да еще придется тащиться в их деревенскую резиденцию!
Может, он решил меня там по-тихому пристукнуть из ревности? И закопать в лесу? Избавиться, так сказать, от соперника?
Вообще-то компанию Потап собрал нормальную. У нас в классе с первого сентября появились несколько ребят, у которых, похоже, в голове не мозги, а мозг. Понимаете, о чем я? Мозги – это то, что варят или жарят, а потом едят: к примеру, мозги телячьи по-деревенски. Мозг варит сам, да и зажарить может так, что о-го-го! В общем, такое впечатление – нормальные новички, особенно Стас, Кирилл и Витька. Хорошо бы поболтать с ними на свободе, не в классе.
Короче, я решил поехать. Но для начала малость повыпендривался, конечно.
– Потап, ты что, извращенец? – говорю. – Если Лили начнет меня интенсивно клеить, ты скажешь нам «Совет да любовь»?
– Не дури, – буркнул он. – Я, если честно, Лесник, здорово на тебя рассчитываю. Она начнет тебя клеить, ты ей брякнешь что-нибудь типа «Вали отсюда!», она разревется, убежит, а я… Ну, понял?
– Чего ж тут не понять? Ты сразу кинешься ей слезы утирать. Ладно, Потап. Если сия интрига избавит меня от Лиличкиных охов-вздохов, я тебе только спасибо скажу.
– Ты полный и окончательный лох, – сочувственно вздохнул Потап. – Такая девчонка – а ты словно ослеп!
– Умерь пыл, Потап, – говорю, – а то я ка-ак прозрею и разгляжу Лили. Охота тебе, чтобы я ее разглядел?
Его прямо дрожь пробрала, он даже побелел! Любовь – страшная вещь, оказывается.
– Ладно, – я махнул рукой. – Поеду, уговорил. Отошью Лили, если приставать начнет, а ты подставишь плечо, чтобы она слезы выплакала. И это будет мой тебе подарок. А твой – за тобой.
– Ну да, мы твой день рождения тоже отпразднуем! – радостно воскликнул Потя.
Штука в том, что у нас с Потапом дни рождения совпадают. Мы оба сентябрьские Девы. Или все-таки обе?.. Загадочный грамматический казус!
Наша семья обычно праздновала мой день рождения дома (любимое меню – пельмени, селедка под шубой, тортик «Наполеон»). Правда, последние два года ходили в ресторан. Я, типа, уже дорос до злачных заведений! Из одноклассников раньше приглашал Вовку Фролова да Борьку и Ваську Ядровых. Но в прошлом году их отцов – они военные – перевели в другие города. В этом году мы посидели бы по-семейному, втроем, но тут подоспело приглашение Потапа. Рассказал об этом мамане и дяде Сереге, моему отчиму, и они, как и следовало ожидать, напряглись… Сейчас объясню почему.
Знаете выражение «У каждого в шкафу свой скелет»? Не знаю, кто это сказал, но будто про нашу семью!
Шестнадцать лет назад у мамы родилось двое пацанов. То есть у меня был бы брат-близнец, если бы не умер. Мама после этого долго болела. Отец мой погиб еще до моего рождения. Его придавило деревом в лесу. Маме приходилось непросто. Бабуля металась между нами и другой своей дочерью, моей тетей Олей, которая аж на Урале живет. Потом в маму влюбился дядя Серега, в смысле Сергей Владимирович Кузьмин, и они поженились. Бабуля со спокойной совестью уехала к тете Оле. У нас отличная семья, все идет как надо, но раз в год тот самый скелет, который спрятан в нашем шкафу, дает о себе знать.
Ежегодно перед моим днем рождения (и днем рождения моего умершего брата!) мама садится в пригородный автобус и едет куда-то в сторону своей родной деревни Ведемы. Я там тоже, кстати, родился. Правда, в самой Ведеме уже почти шестнадцать лет никто не живет: все разъехались, деревня одичала, лесом заросла. Нас с Серегой мама в поездку не берет, но мы и так знаем: собственно до Ведемы она не доезжает, а где-то на трассе опускает в почтовый ящик написанное накануне письмо. Получатель – Алексей Васильевич Лесников.
Это имя и фамилия моего умершего брата. А меня зовут Александр Васильевич Лесников. Мы были бы Санька и Леха, но остался один Санька.
Адреса на конверте нет. Ну какой может быть адрес – «Тот свет», что ли?
Мама каждый год Лехе пишет… Это странно и немного жутковато, но если ей от этого легче становится, то пускай. Пускай пишет!
Потом она возвращается, и на следующий день мы отмечаем мой день рождения – все чин чинарем.
Столько уже лет прошло, но мама из-за Лехи очень переживает. Иногда встанешь среди ночи, чтобы попить, и видишь, как в темной кухне мама перед окном стоит и смотрит на деревья, которые машут ветками под уличным фонарем. Смотрит и всхлипывает.
– Ну ты что, мам? – спросишь. – Сон страшный приснился, да? Не надо, не плачь, это ведь только сон!
Она кивнет, слабо улыбнется:
– Ах ты радость моя, утешение мое! – и уходит в их с дядей Серегой комнату.
А я знаю (не пойму откуда – но вот чувствую, чувствую!), что страшные сны ее – всегда о моем умершем брате.
Иногда я думаю, что останься Леха жив, она бы любила его больше, чем меня. А может быть, если бы я вместо него умер, она бы точно так же плакала по мне, а Леху называла бы своей радостью и утешением.
Ну вот, значит, предложил я отпраздновать не в воскресенье (в этот раз день рождения на воскресенье пришелся), а накануне – в субботу. А в воскресенье с утра пораньше двину к Потапу. Вечером вернемся.
Мама растерянно спросила:
– Но как же письмо?!
– А что письмо? – ответил я, как пишут в книжках, вопросом на вопрос. – Я его сам брошу. У Потаповых дом в Ельне, а это ж совсем рядом с Ведемой.
– Да, рядом, – пробормотала мама. – На перекрестке, откуда две дороги расходятся – одна на Ельню, другая на Ведему, – находится почтовое отделение. Оно, конечно, давно закрыто, но почтовый ящик на месте. Ты правда сможешь письмо опустить?
– Конечно! – кивнул я. – Попрошу остановить машину на перекрестке, добегу до ящика и брошу твое письмо.
Мама повздыхала-повздыхала, потом улыбнулась и согласилась. Я даже, помню, удивился, что она согласилась так быстро…
Итак, в субботу мы попраздновали, в кино сходили, потом в ресторанчик «Счастливый день», потом прогулялись в парке, а на другой день в восемь утра, прихватив рюкзачок, в котором лежали книжка в дорогу и письмо, я вышел встретить машину, на которой мы должны были ехать в Ельню. «Газелька» была белая, новехонькая, вся сияла и сверкала. Потапов-олд поддерживает отечественный автопром, как я понял.
Машина оказалась уже полна: все ребята собрались, задние сиденья загромождены какими-то сумками, вдобавок там сидели Потаповы предки, и единственное свободное место оказалось, можете себе представить, рядом с Лили.
– Я для тебя место сразу заняла, – гордо заявила она, – и держала обеими руками, никого к нему не подпускала!
Сюрпризец… нечего сказать.
Ну, что делать. Я плюхнулся рядом, но тотчас вскочил: в заднем кармане моих старых спортивных штанов оказалось что-то твердое. Елки, да это же мой складной ножик! Я эти штаны с самой весны не надевал, когда мы с Серегой ездили незадолго до Пасхи в лес и я нарезал для мамы вербы. Потом про ножик ни разу не вспоминал, а утром, в спешке одеваясь, его не заметил.
– Не убежишь! – хихикнула Лили, хватая меня за руку.
Я сунул руку в задний карман и достал ножик.
– Ой, ты меня зарезать решил? – вытаращила глаза Лили и тут же кокетливо простонала: – Режь! Испытай мою страсть!
Во дурища, ну дурища… Какая еще на фиг страсть?!
Я поскорей спрятал ножик в боковой карман и сел, а то ребята уже со смеху покатывались, на нас глядя. Один Потап не покатывался, а страдал.
– Наконец-то мы с тобой вдоволь поболтаем! И вообще… побудем вместе, – промурлыкала Лили, пытаясь положить голову мне на плечо.
Эх, распустились девчонки… Проучить бы ее, чтобы не забывала о приличиях!
Я перехватил несчастный взгляд Потапа и подмигнул. Он хороший парень – зачем вообще Лили нужен я, который ее в упор не видит?
Буркнул:
– Извини, Лили. У меня другие планы. Не до болтовни. – И вытащил из рюкзачка «Драматическую медицину» Гуго Глязера.
Я собираюсь в медицинский, хочу уже сейчас знать как можно больше о профессии, а эта книга рассказывает о врачах, которые искали способы лечения разных болезней, ставя опыты на себе.
Между прочим, все наши, кроме Лили и Потапа, сидели с книжками. Десятый класс – это ступенька серьезная, школа у нас престижная, учителя суровые, поэтому в машине кто учебник истории листал, кто биологию, кто в Достоевского, который будет у нас по литературе, уткнулся (я «Преступление и наказание» еще летом осилил и даже проникся, честно говоря!). Хотя заметил я и развлекуху: Лукьяненко и даже «Большую книгу ужасов»… Но, если честно, Глязер пострашней любых ужастиков будет.!
Сначала Лили меня то и дело дергала и трындела что-то вроде:
– Это историческая книжка, да? Я тоже люблю исторические! Читала, не помню, как книжка называется, что раньше дамы красили глаза жирной такой сажей из жженой ореховой скорлупы. Надо попробовать, хотя у меня и так ресницы темные и вообще глаза красивые, правда?
Я – из чистого гуманизма! – сохранил свое мнение в тайне. И мысленно начал колдовать: «Повернись, посмотри на Потапа, у него скоро астенопия начнется – так он на тебя таращится!»
Астенопия, если кто не знает, – это утомление глаз, которое начинается от сильного напряжения. Я же говорил, что в мед хочу поступать, вот и подковываюсь в терминологии потихоньку.
Колдовство не помогло. Вместо того чтобы повернуться к Потапу, Лили начала заглядывать в Глязера. И тут мне повезло! Она наткнулась на описание работы русского эпидемиолога Бещевой-Струниной, которая искала способы излечения возвратного тифа. Бещева-Струнина исследовала около шестидесяти двух тысяч тифозных вшей и получила шестьдесят тысяч укусов. Я ж говорю: Глязер пострашней любого ужастика будет!
Лили слетела с сиденья с такой скоростью, словно эти шестьдесят две тысячи вшей пока еще ползали по мне, но явно намеревались штурмовать ее, и растерянно огляделась: все места были заняты.
На счастье, Потап, который глаз с нее не сводил, мгновенно сориентировался: шепнул что-то Стасу Чернышову, своему соседу, и тот пересел ко мне, а Лили плюхнулась рядом с Потапом.
Стас, похоже, даже не заметил перемены мест слагаемых: не мог оторваться от своей книжки.
Ну, конечно, я не удержался и глянул краем глаза на страничку.
«…Я тебя предостерегаю.
– От чего? О чем ты говоришь?
– Владей собой, – он упрямо говорил свое. – Поступай так, как будто… Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Но ты попробуй. Это единственный выход. Другого я не знаю».
Да ведь это «Солярис» Станислава Лема! Любимая книга дяди Сереги. Ну и я прочитал ее. Крис Кельвин только что прилетел на станцию, и Снаут намекает ему на странности, которые там происходят. К фантастике я вообще-то спокойно отношусь, книжки про медицину и врачей люблю больше, но «Солярис» – это да, это мощно! Из тех книг, которые время не берет.
Город закончился, мимо замелькал подступающий к шоссейке лес. До Ельни мы ехали часа полтора, но только когда входили в шикарный дом (ничего так деревенская резиденция у Потаповых!), я вспомнил про мамино письмо.
Письмо-то я не опустил!
– Слушай, Потап, – говорю, – а мы обратно когда поедем?
– После обеда погуляем немного и двинем еще засветло. Завтра же в школу! И вообще, знаешь, тут такие места, что лучше по темноте не шляться.
– Какие, какие места? – сразу прилипла Лили, но надо было накрывать на стол, и она от нас отстала – пошла помогать Потаповой маманьке.
Стол оказался роскошный! Пили мы безалкогольное шампанское, ели какие-то ресторанные мудреные закуски, лосятину в горшочках, жареных креветок, потом был торт огроменный, потом счастливый Потап вспомнил, что у меня тоже сегодня день рождения, меня тоже поздравляли, и за мое здоровье тоже звенели бокалы… Короче, сплошная веселуха.
Правда, разговор, который я нечаянно услышал, когда вышел сами понимаете куда, меня удивил. Оказывается, Потаповы собрались дом продавать. Как раз сегодня должен был приехать очередной покупатель, однако так и не появился.
– Наверное, и до него слухи дошли, – пробормотала мама Потапа и всхлипнула от огорчения. Конечно, спросить, какие-такие слухи могли дойти до покупателя, было невозможно, однако любопытство меня подгрызало.
* * *
После обеда решили прогуляться. Пока шли по улице к лесу, я обратил внимание, что деревня почти пустая. На двух-трех подворьях ожесточенно довыкапывали картошку, но в основном дома (такие же красивые, как потаповский – пижонистые новостройки) были заперты, жалюзи опущены, на воротах замки. В старых избах окна вообще забиты крест-накрест, в огородах – кучки пожухлой ботвы… Можно подумать, люди сюда приезжают, чтобы только урожай вырастить да собрать поскорей, а отдых на природе никого не интересует. А ведь милое дело в это время – костры жечь и картошку печь!
В прошлом году мы ездили с мамой и дядей Серегой в лес и решили развести костерок. А спички забыли! Так что дядя Серега сделал? Нашел кремень (а в тех местах как раз заброшенный карьер, камешков-кремешков полно), положил на лезвие ножа какую-то бумажонку, чуть ли не магазинный чек, – и давай кремнем по лезвию чиркать, приговаривая: «Огнивом наши предки еще в девятнадцатом веке пользовались! А мы чем хуже? Кремень есть, кресало есть – вот и все премудрости!» Это лезвие ножа, значит, стало кресалом.
Я в это время сухого мха и травки подсобрал, мама – тоненьких веточек – и вот бумажка дяди-Серегина затлела, а потом такой костер получился! И такая была картошка…
Я после того случая дядю Серегу еще больше зауважал.
Середина сентября – мое любимое время года. Красотища потому что! Лес уже разноцветный, осенью тронутый, но трава еще зеленая, и даже цветы кое-где видны. Стрекоз почему-то много было в тот теплый солнечный день. Ветерок легкий, листва так весело шумит…
Впрочем, тепло теплом, а ветерок иногда задувал довольно-таки прохладный. И я не пожалел, что надел поверх толстовки коричневую замшевую безрукавку. Отличная безрукавка, вот только пуговицы чуток великоваты для петель: вечно возишься с ними, чтобы в петли протолкнуть, расстегнуть или застегнуть. То ли дело молния: вжик – и готово! Зато пуговицы, я вам скажу… Их дядя Серега нашел на толкучке, где любители всякой старины тусуются. Эти пуговицы с формы пожарных прошлого, ну двадцатого, века, еще довоенной формы. Там отчеканена пожарная каска на фоне двух перекрещенных топориков. Между прочим, мамин дед работал пожарным и погиб на службе. Эти пуговицы мне о нем напоминают, это раз, и вдобавок с ними моя безрукавка смотрится офигенно стильно!
Бродили мы, бродили, пока не вышли на окраину заброшенного кладбища. Очень старого какого-то: кресты деревянные уже полегли; металлические, ржавые, кое-где торчат; видно несколько покосившихся пирамидок со звездочками; могилки заплело травой. Кое-кто из наших порывался побродить между ними, но Потап воскликнул:
– Лучше не надо!
– А что, боишься, за ногу кто-нибудь схватит? – усмехнулась Лили, и Потап серьезно ответил:
– Боюсь, да! Здесь всякое бывало. Кладбище очень большое: пойдешь по нему – невесть куда выйдешь, да и выйдешь ли, еще вопрос. Вон там видишь ельник? Под этими елями, говорят, кости находили.
– А они чьи были, человеческие или звериные? – спросила Лили.
– Человеческие, конечно, – буркнул Потап.
– Ты их сам видел? – недоверчиво вскинула брови Лили.
– Видел! И я видел, и другие видели! – огрызнулся Потап. – Овер до фига, кто видел!
– А еще чего они видели? – с издевкой вмешался Витька Аболдин. – Какого-нибудь мальчика, который бродит по кладбищу и плачет, потому что пошел один погулять и теперь не может найти маму? А потом он вдруг радостно бросается к какой-то могилке с криком «Нашел, нашел!» – и исчезает в ней, а на кресте написано, что здесь похоронены мать и ее маленький сын? – И Витька захохотал, покосившись на Лили.
– А может быть, видели девчонку, которой не нравится фотка на ее памятнике, поэтому она выходит из могилы и просит всех, кто ей попадется на пути, сделать другой снимок? – Это уже Кирилл Слепак противным таким пренебрежительным тоном высказался. И тоже покосился на Лили…
Понятно! Все с ними понятно! Они положили глаз на красоты Лили и теперь выпендриваются, старательно выставляя перед ней Потапа дураком и трепачом. А эти пацаны, между прочим, приехали к нему на день рождения и только что ели-пили за его столом и говорили всякие слова на тему «Наш Потап – самый суперский Потап на свете!».
– Да ладно токсичить! – Потап решил не давать себя в обиду. – Вон деревья, видите? Они вроде березы, стволы у них березовые – а листья как у рябины, понятно? Такие только на этом кладбище растут!
– Мутанты, что ли? – с сомнением протянула Лили.
– Не знаю, – дернул плечами Потап. – Зато если пойти по этому кладбищу во‑он туда, говорят, обязательно добредешь до дерева-урода – страшного, корявого, огромного… А на его ветке висит старая ведьма.
– Старая ведьма висит на дереве-уроде?! – повторила Лили чуть ли не по слогам. – При-кол-дес… И давно висит?
– Лет, наверное, пятнадцать, – ответил Потап. – Или двадцать… Не знаю точно.
Ребята так и грохнули восторженно:
– Ауф!
– Пушка!
– Ты гонишь, Потап!
– Скинь пруф!
– А по ночам она кричит «Снимите меня отсюда, я уже высохла!»? – ехидно вопросила Лили.
– Как она может кричать, если давно умерла и в самом деле высохла? – фыркнул Потап. – Нет, честно: говорят, она совсем как осенний лист, который болтается на ветке всю зиму. Но иногда ее сдувает ветром и носит по дворам. Бывает, она зацепится за куст; бывает, ее заносит под чье-нибудь крыльцо. Тогда беда. Надо сидеть дома и не высовываться. Потому что на ее поиски отправляется человек, у которого нет лица, и если он заметит кого-то, то заберет его с собой.
– Веди себя хорошо, а то дед Бабай спрячет тебя в мешок и унесет! – страшным голосом провыл Стас Чернышов и покосился на Лили.
И он туда же!
А с другой стороны, Потап порол такую ересь… Уникальную ересь, рассчитанную на полных болванов! Тоже выпендривался перед Лили почем зря.
А он все не унимался:
– Риали, с тех пор как ведьму повесили, в Ельне начали люди пропадать! Риали, я вам говорю! И поэтому остальные почти все разъехались. Страшно стало. Может, заметили, что почти все дворы пустые? Дома, огороды, хозяйства бросают, потому что их не продать: перебираться сюда никто не хочет.
«Ага! – сказал я сам себе. – Так вот почему к его родителям никто не приехал».
– Мы сегодня приехали не только мой день рождения отпраздновать, но и попрощаться. И вещи кое-какие собрать, – вздохнул Потап. – Уедем мы – и скоро никого здесь не останется. Ельня захиреет и совсем под землю уйдет, как Ведема ушла.
Я насторожился.
Из Ведемы родом мои мама и бабуля, да и я там родился, как уже говорил. Но мне никогда не рассказывали ни про сухой труп ведьмы, ни про то, что Ведема под землю ушла. Просто заброшенная, покинутая деревня, каких много. И когда я предлагал туда съездить, мама отвечала, что не хочет, мол, воскрешать печальные воспоминания. Ведь там не только я родился, но и умер мой брат.
– Ой, Потап, ты такой душнила! – простонала Лили. – Окончательно меня утомил. То говоришь, что ведьму на каком-то дереве повесили, то она у тебя под землю ушла… То есть она сначала ушла под землю, а потом ее повесили проветрить, что ли?
Наш коллектив опять заржал. Бедный Потап, который, похоже, во что бы то ни стало хотел сохранить мир во всем мире и дружбу между народами, начал объяснять, что это вообще разные вещи: повесили старуху ведьму, а Ведема – это деревня, которая…
Интересно, знал он, что «ведема» – это то же, что «ведьма»? Вряд ли. Я открыл было рот, чтобы внести ясность, но в этот момент на опушке появился Потапов фазер и крикнул:
– Денис, пора уезжать! Смеркается. Мы уже все погрузили. Давайте, ребята, в машину!
Голос у него был встревоженный, и эта тревога передалась нам. Мы сорвались с места, как будто нас подхватил тот самый ветер, который срывал с какого-то там дерева-урода высушенную ведьму и таскал ее по деревне. Вся наша компания мигом оказалась около «газельки».
Я оглянулся. Закат был яркий, багряный, можно сказать кровавый. Не люблю такие безнадежные закаты! Да и вообще, рассветы я люблю больше.
Машина до половины оказалась загружена коробками и большущими пластиковыми пакетами. Понятно: родители Потапа вывозили имущество…
Нам теперь пришлось сидеть не по двое, а по трое. Сумерки сгущались, свет в салоне почему-то не горел, и наш отъезд все больше походил на самое настоящее бегство. Я не совсем понимал, от чего мы бежим-спасаемся, но настроение у меня и так было не ахти из-за массового Лили-поклонства, а теперь и вовсе испортилось. Как-то не по себе стало… Но остальные вели себя как всегда. Правда, книжки никто не открывал: в темноте читать невозможно. Кто-то пялился в телефон, кто-то задремал, ну а Лили сидела между Потапом и Кириллом и перекладывала голову с плеча одного на плечо другого. Кирилл довольно лыбился, а Потап опять переживал.
Все в своем репертуаре, короче.
По телевизору, помню, стихотворение Блока читали: «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук!» Похоже, Потап и против такого возражать не будет. Риали, как он любит говорить!
Ну, мчались мы, мчались, я думал, что без остановки и до города долетим, уже задремывать начал, как вдруг «газелька» остановилась. Шофер выскочил из кабины, кинулся куда-то в сторону, и я увидел, что под одиноким фонарем стоит покосившийся сарай с почти нечитаемой вывеской «Почтовое отделение», а на его стене висит ящик для писем. Шофер бежал к этому ящику, держа в руке конверт.
А-а!!! Почтовый ящик! Письмо! Мне же надо опустить мамино письмо!
Я выхватил из рюкзака помявшийся конверт, хотел сказать соседям, что сейчас вернусь, но и Стас Чернышов, и Ванюша Метелин спали, поэтому я молча выскользнул из машины и помчался к ящику.
Показалось, что Лили посмотрела мне вслед. Ох и надоела она своими взглядами!
Только шофер опустил свое письмо, как подъехал корявенький облупленный пикап с закрытым кузовом. На боку надпись «Почта». Из кабины выскочил тощий долговязый дядька в коричневой куртке, коричневых штанах и коричневой фуражке. Я, правда, думал, что у почтальонов форма синяя, да какая разница? Может, этот дядька просто подрабатывает, собирая почту в придорожных отделениях. Под ржавый, с облезлой краской, ящик (та еще рухлядь!) он подсунул темно-серый мешок (ну знаете, есть такие особые почтальонские мешки, которые вставляют в какие-то пазы, что ли, под ящиками) и стоял ждал, пока конверты в мешок упадут.
Я подбежал к почтальону и говорю:
– Подождите, еще мое письмо заберите!
– Сейчас, – отвечает он, – вытащу мешок, прямо в него бросишь.
Голос у него был хрипловатый, даже как бы скрежещущий. Горло болит, что ли?
Ну, всякое бывает.
Тем временем наш шофер со всех ног чесанул к «газельке»: наверное, испугался, что его шеф, то есть Потапов-олд, будет ругать, что долго стоим. А мешок заело: почтальон его дерг-дерг, да напрасно. И вдруг я слышу фырканье мотора и вижу, что «газель» взяла с места и помчалась прочь!
Наверное, шофер меня не заметил. Вот так номер!
– Эй! – кричу. – Подождите!
– Что, забыли тебя? – ухмыльнулся почтальон, наконец-то выдернув мешок и подставляя мне. – Бросай сюда свое письмо, садись в мой пикапчик – мы их мигом догоним.
Он держал мешок раскрытым, и, бросив мамин конверт, я невольно туда заглянул. Там оказалось всего два конверта: мой и, стало быть, нашего водителя. Оба лежали лицевой стороной вверх, и что-то меня в эту минуту зацепило, что-то бросилось в глаза, что-то показалось странным… Но сейчас было не до размышлений: надо догонять наших!
Почтальон забросил мешок в кузов, вскочил в кабину и открыл мне дверцу:
– Давай в темпе!
Я плюхнулся рядом, мотор взревел, пикап рванул вперед с такой скоростью, что меня аж в спинку сиденья вжало.
– Ого, – говорю, – мы их и правда быстро нагоним!
– Оглянуться не успеешь! – сказал он и засмеялся.
И тут я вдруг сообразил, что именно мне показалось странным на конвертах в почтовом мешке: на них были только имена и фамилии получателей, но не было адресов.
– Ничего удивительного, – буркнул почтальон, как-то угадав, что меня удивило. – Сюда опускают только такие письма. Для мертвых. У шофера вашей машины умерла дочь, которой было пятнадцать лет.
– Откуда вы знаете, что у него была дочь? – уставился я недоумевающе, и шофер повернул ко мне свое остроносое худое, со впалыми щеками темноглазое лицо:
– Глупый вопрос.
– А, ну да, конечно! – спохватился я. – Вы прочли имя на конверте.
Почтальон молча кивнул и снова повернулся к рулю.
– А про возраст откуда знаете? – спросил я, но он, похоже, не услышал и пробормотал:
– Ее отец уже шестнадцать лет приезжает сюда с новыми письмами для Людмилы Петровны Смирновой.
– Значит, его дочку звали Людмила Петровна Смирнова, – блеснул я сообразительностью. – А моего брата звали Алексей Васильевич Лесников. И он тоже умер шестнадцать лет назад. Моя мама верит, что он когда-нибудь прочтет ее письма. Но ведь это невозможно! И все эти письма написаны зря!
– Почему невозможно? – пожал плечами почтальон. – Они ведь в Ведеме умерли? В Ведеме. А там такие дела творились…
– Откуда вы знаете, что они умерли в Ведеме?! – чуть не заорал я.
– Я сам оттуда, вот и знаю, – хмыкнул он.
«Так Ведема, значит, не одичала и не ушла под землю?» – хотел спросить я, но почтальон снова заговорил:
– В тамошней больничке тогда умерли двое детей. Эта девочка и новорожденный младенец. Как раз в этот день. С тех пор в деревне не осталось людей. А родители этих детишек пишут своим умершим детям. Чувствуют себя перед ними виноватыми, наверное. Однако виновата только ведьма. Если бы не она, ничего бы не случилось. Хотя кто знает…
«Ведьма?!»
– Говоришь, Алексей Васильевич Лесников – это твой брат? – снова заговорил почтальон. – Ты не переживай: он это письмо и все другие обязательно прочитает. Только ты сам его передашь, договорились?
Ну и чувство юмора у этого типа! Приколдес, как выразилась бы Лили.
Интересно, почему она не попросила остановить нашу «газельку»? Страшная месть, что ли? Пусть, мол, этот противный Лесник как следует потрясется от страха?
– Смеяться уже можно? – спросил я ехидно – и онемел, уставившись на тот самый конверт, который мне дала мама и который несколько минут назад я сам бросил в почтальонский мешок! А потом мешок был закинут в кузов пикапа. Но теперь конверт оказался у меня в руках. Или этот фокусник умудрился выхватить его из мешка, чтобы так незамысловато разыграть меня?
– Лихо! – бросил я. – Вам бы в цирке выступать. Но где же я найду своего брата?
– А мы едем как раз туда, где он находится, – обнадежил почтальон.
И тут до меня дошло… Мы едем туда, где находится мой мертвый брат? На тот свет, значит, почтальон меня отвезет? Елки-палки, да ведь рядом со мной убийца!
Ну я и попал! Надо бежать, бежать! Он сейчас вытащит нож и пришпилит меня к спинке сиденья! Или пистолет выхватит!
– Пистолет? А зачем мне пистолет? – хмыкнул почтальон, снова поворачиваясь ко мне.
И я задохнулся…
У него не было лица!
Только что я видел его острый нос, темные глаза – теперь ничего этого не осталось! Вообще ни намека!
Передо мной маячило тусклое черно-зеленоватое пятно, а вместо волос и коричневой кепки виднелась какая-то коричневая короста. И одежды не было – тело оказалось покрыто такой же коростой!
Я отпрянул.
– Рано ты начал бояться, – захохотало лицо, которого не было.
Пятно жутко заколыхалось, и я словно услышал слова Потапа: иногда в деревню приходит человек, у которого нет лица, и если он заметит кого-то, то заберет его с собой.
Так это не ересь?! Это не выдумки?! И это безликое чудище сейчас заберет меня?!
А может, у меня бред? Может, я сошел с ума? Может, безалкогольное шампанское не совсем безалкогольное?!
– Не повезло просто. Не сошел ты ни с какого ума! – снова заржал почтальон, и снова зеленоватое пятно заколыхалось. А потом ко мне потянулась такая же зыбкая, нереальная, несуществующая рука – нет, не рука, а щупальце, нет – древесный корень…
Тут я и в самом деле обезумел. Отпрянул, ударился всем телом о дверцу. Мелькнула ужасная мысль, что она может быть заблокирована, однако дверь подалась как-то подозрительно мягко, и сразу мутная, зыбкая, темная зелень окружила меня… «Это он меня схватил!» – подумал я, но черно-зеленая муть рассеялась, и я на полном ходу вывалился на обочину дороги… нет, не на обочину, да и никакой дороги не было и в помине: я валялся в глубокой канаве – в овраге, можно сказать. Из земли тут и там торчали голые корни деревьев. Цепляясь за них, я кое-как выбрался из ямы и ломанул куда глаза глядят, лишь бы оказаться как можно дальше от этого пикапа и его жуткого водилы.
* * *
Сначала я вообще ничего не соображал – просто мчался невесть куда, пока окончательно не потерял представление о том, где нахожусь.
В лесу, это понятно. Но в какой стороне дорога? Куда идти?
Телефон, по закону подлости, остался в рюкзаке, а рюкзак – в «газели». Наверное, там уже заметили, что я отстал, вернулись к почтовому ящику, ищут меня, зовут… Лили точно шум подняла на весь лес, странно, что я не слышу! Ну вот разве что ее страшная месть продолжается… Да разве на Лили можно надеяться?!
– Ребята, я здесь! – заорал я, забыв, сколько времени мы ехали, сколько я метался тут и как далеко убежал. Но все-таки я прислушался: может, услышу рокот шоссе? Но нет, ни отзвука цивилизации – только тоскливо шумит лес под ветром, иногда начиная перебирать ветвями и стучать ими одна о другую.
Будто кости гремели, честное слово!
Я хотел было крикнуть снова, но прикусил язык.
Чего разорался, спрашивается?! А вдруг меня услышит почтальон?
Ха, почтальон! Он, конечно, такой же почтальон, как я торт «Наполеон»! Это чудище! Оборотень! Я меньше всего хотел, чтобы он меня услышал и притащился сюда вместе со своим черно-зеленым пятном вместо лица!
Стало как-то совсем холодно, я хотел было застегнуть свою безрукавку, но вдруг обнаружил, что на ней не осталось ни одной пуговицы.
Оторвались! Только нитки торчат на том месте, где они были! Неужели они оторвались, когда я вывалился из машины? Или их ободрал этот, как его, темно-зеленорожий? Может, эта нечисть коллекционирует человеческие пуговицы?
Ха-ха.
Ну, ерунда, конечно, однако я порадовался, что штаны у меня не на пуговицах, а на резинке. В спадающих штанах бежать было бы трудно, а я мчался со всех ног, поворачивал туда-сюда, надеясь или случайно отыскать дорогу, или запутать почтальона, если он все же пустился за мной вдогонку.
Тем временем в лесу стало темно. Луна взошла, но едва виднелась сквозь бледно-серые облака и светила совсем тускло: я почти ничего не видел и вынужден был идти с вытянутыми вперед руками, чтобы не наткнуться на какую-нибудь ветку и не выколоть глаза. А деревья, похоже, задались целью сцапать меня: честное слово, они подбирались все ближе и ближе! Я не сомневался, что они заодно с тем кошмаром, который то ли остался в почтовом пикапе, то ли преследует меня. Одно из этих деревьев оказалось особенно хищным: оно вдруг нагнуло ветку и вырвало у меня конверт! Тот самый, с маминым письмом!
– Отдай! – завопил я, но оно махнуло веткой, и конверт улетел невесть куда. Я погнался за ним – и внезапно очутился на поляне, посередине которой стояло только одно раскидистое дерево с толстенным, необъятным стволом. Облака от луны будто ветром сдуло, и я видел это дерево очень ясно. Оно было голым – без листьев, без коры, да еще с одной стороны его могучий, широкий ствол будто проказа изъела, таким он выглядел корявым. Ветви словно судорогой искривило; на одной из них болталась под ветром какая-то черно-серая тряпка – что-то вроде давно не стиранной простыни. Как ее в лес-то занесло, интересно?
А впрочем, мне это вовсе не было интересно – мне хотелось только одного: выбраться отсюда, найти какую-нибудь тропинку, которая вывела бы на шоссе!
Шагнул в сторону – ветер ударил мне в лицо, буквально швырнув ближе к дереву, более того – подбросив над ним!
Я даже испугаться в первый момент не успел, зато потом в моем распоряжении оказалось сколько угодно таких моментов.
Ветви, которые только что торчали в разные стороны, вдруг вздыбились и сомкнулись надо мной. Я оказался как бы в клетке из деревянных прутьев, которые стремительно сплетались между собой, выпуская новые и новые побеги: гибкие, пронырливые, как щупальца цепкие, колючие. Только одна ветвь по-прежнему была отведена в сторону – та, на которой болталась странная тряпка. И тут я разглядел, что это тощее человеческое тело – тело старухи в ветхой, обтрепанной одежде. Ветка пронзала тело насквозь, старуха была мертва уже давно: сухая, сморщенная потемневшая кожа обтягивала скелет…
Неужели это то, что ожидает меня? И никто не узнает, что случилось со мной – бессильным, безоружным…
Безоружным?!
Как бы не так!
У меня же есть нож, забытый нож!
Я сунул свободную руку (в другую уже накрепко вцепилась одна из веток) в карман, выхватил ножик, кое-как открыл его и вонзил в ту самую ветку, которая обвивалась вокруг моего запястья и норовила вползти выше.
Раздался пронзительный вопль (это вопило дерево, честное слово!), нож окрасился кровью… или это была какая-то красная жидкость, ужасно похожая на кровь, не знаю, да и какая разница – все равно гадость! Щупальце отцепилось, съежилось, и я принялся наносить удары по другим отросткам. Им это не понравилось, очень не понравилось! Они отпрянули от меня, однако дерево заскрипело, застонало, завыло, и я от неожиданности выронил спасительный нож. А потом и сам свалился на землю.
Я вырвался! Это невероятно, но я вырвался: я лежал у подножия кошмарного дерева, и высохшее тело мертвой старухи реяло надо мной словно знамя ужаса.
Да ведь это… да ведь это та самая ведьма, о которой говорил Потап! Та, которую повесили на дереве; та, которую иногда срывает ветром и уносит невесть куда, а на поиски ее отправляется человек без лица, вернее, с черно-зеленым пятном вместо лица, с которым я уже познакомился!
Тело той самой ведьмы висело надо мной, но я уже ее не боялся. Ведь мы вместе побывали в плену у дерева-урода. Старуха так и оставалась в этом плену, а я спасся. Но если бы не вспомнил про нож – пропал бы. Где же мой нож? Наверное, где-то здесь валяется!
Я начал шарить в траве, как вдруг над головой послышался шорох. Я вскинул голову и увидел, что высохший труп раскачивается прямо надо мной и, кажется, вот-вот свалится на голову!
Я разглядел мертвое лицо… показалось, что пустые глаза смотрят на меня, причем смотрят настойчиво, словно хотят мне что-то подсказать.
Ну все, шиз меня настиг! Да, я шизанулся, это точно, потому что все еще ползаю под этим кошмарным деревом, которое уже перестало вопить и, похоже, набирается сил, чтобы снова вцепиться в меня: ветки его опускаются все ниже и ниже.
Я вскочил и ринулся было прочь. Пробежал несколько шагов, как вдруг услышал громкий плач. Оглянулся на бегу: если из этого дерева может идти кровь, если оно может выть, рычать, стонать – то почему не может плакать?
Это плакало не дерево. Это был горький и жалобный плач ребенка.
Я остановился.
Наверное, мне показалось. Наверное, это очередной глюк. Откуда здесь взяться ребенку? И все-таки я остановился. Такой это был плач… такой горький, что я повернулся и шагнул в том направлении. Шаг, другой… у меня волосы встали дыбом, во мне все протестовало и словно бы молило при каждом шаге: «Не ходи, не ходи туда!» Не знаю, пошел бы я дальше, поддавшись жалости, или чесанул бы с прежней прытью в противоположную сторону, однако вдруг услышал крик:
– Санька! Санька, забери меня домой! – Это был тоненький детский голосок. Так мог кричать совсем маленький ребенок. Испуганный, заблудившийся, потерявшийся.
И он звал меня…
Я прекрасно понимал, что никакого ребенка здесь нет, что меня здесь никто не может звать, не может знать моего имени, что это морок, бред леса, в который я нечаянно ввалился, будто в ужастик, в страшилку, в какой-то фантастический фильм… я бы его с удовольствием посмотрел в свободное время, но оказаться внутри этого фильма, да еще в роли главного героя, мне совсем не хотелось!
Я все это прекрасно понимал, но остановиться уже не мог. А ребенок плакал все жалобней, я шел все быстрей, ругал себя, уговаривал, что надо драпать отсюда, но шел и шел, и вдруг понял, что мои ноги обвиты длинной веткой – вернее, это был корень, длинный, тонкий корень, и он тащил меня, онемевшего, одуревшего, все ближе и ближе к тому самому дереву, из щупальцев которого я только что вырвался.
Я заметался, озираясь, но ножа, который спас меня в первый раз, в траве было не разглядеть. Наклонился и попытался распутать корень, который тащил меня куда-то, – но сразу с отвращением отдернул руки.
Корень оказался крепким, скользким, вообще мерзким каким-то. Когда я брезгливо отшвырнул его, ладони мои были покрыты какой-то гадостью, похожей на кровь и слизь.
Я заорал от отвращения, и тут почувствовал сильный рывок, не смог удержаться на ногах и упал, и больно ударился о землю, и покатился в какую-то яму, попытался вскочить, но только неуклюже заворочался и сел.
И тут плач и хныканье, которые все это время не прерывались, утихли. Раздался тихий довольный смешок.
Что еще такое?! Я повернулся…
Я повернулся – и крик застрял в горле.
Передо мной на земле лежал маленький человекообразный уродец, выточенный из дерева. На теле были кое-где маленькие корявые сучки; голову вместо волос покрывала кора. И в то же время он шевелился как живой, он махал ручонками, улыбался! Глаза его были закрыты, но я чувствовал, что он на меня смотрит. А древесный корень… то, что я принял за древесный корень, тянулось из его живота, словно пуповина.
Помню, мама все время смотрела сериал «Склифосовский», я тоже смотрел: это же про медиков, мне про них все интересно, – ну и там часто показывали, как рождаются дети. Они соединялись с телом матери пуповиной. А это существо было соединено пуповиной с деревом, как если бы его родило дерево!
– Санька? – пропищал он. – Привет, братец.
Братец?..
Братец?!
– Наконец-то ты пришел, – продолжала пищать деревяшка. – Ну давай же письмо!
Все закружилось у меня перед глазами, но я потряс головой и немного очухался.
– Письмо? – повторил я тупо. – Какое письмо?
– Ну мамино письмо, конечно, какое же еще? Тебе же было сказано доставить его мне, – капризно протянул он. – Мне, Алексею Васильевичу Лесникову! Неужели ты его потерял, раззява?!
Я вспомнил слова почтальона, которые раньше казались жутким бредом. Ну что же, бред продолжался! А где письмо, я и знать не знал. У меня его отняло какое-то дерево!
Я тупо кивнул.
Деревянное личико уродливо сморщилось, раздался визгливый смех:
– Ладно, прощаю. Письмо ерунда. Главное, что ты сам здесь! Когда мы родились, я так и не смог тебя прикончить, но теперь-то сделаю это, дорогой братец! – Он схватился за пуповину и с силой, которая казалась невероятной в этом маленьком тельце, подтащил меня к себе.
Краем глаза я увидел какую-то дырищу между корнями дерева, которая придвигалась все ближе и ближе. Да нет, это не она придвигалась – это деревянный уродец волок меня туда, перебирая ручонками по пуповине.
Он задумал меня в эту ямищу затащить?!
И вот он вцепился мне в плечи, закрытые глаза оказались совсем близко, ротишко раскрылся – широкий, как пасть – и исторг какие-то булькающие утробные звуки:
– Да, да! Затащу! Убью! И твое сердце наконец остановится! Твое! Остановится!
Мое сердце точно бы остановилось, если бы я не вырвался из скользких ручонок деревяшки и не отшвырнул ее от себя.
* * *
Швырнул впечатляюще: уродец отлетел к самому дереву и, ударившись об один из толстенных корней (даже треск послышался!), замер неподвижно.
«Неужели я его убил?» – мелькнула мысль, которая меня ужаснула, но, на счастье, другая оказалась более разумной: «Невозможно убить того, кто уже умер!» Третью можно было бы считать пределом идиотизма, но лучше считать ее показателем того состояния, в котором я находился: «Если его невозможно убить – значит, он может снова очухаться и наброситься на меня!»
Я не стал разбираться в деталях: кое-как выпутался из пуповины, выполз из ямы и кинулся наутек.
Вокруг было ни светло, ни темно: откуда-то лился яркий, но в то же время призрачный не то белый, не то голубоватый, не то зеленоватый свет, но мне его было вполне достаточно. Я думал только о том, чтобы убежать как можно дальше от кошмарного дерева!
Я бежал, озираясь – и постоянно ощущал чей-то взгляд, устремленный на меня. Но постепенно дошло, что это не взгляд, а взгляды! Деревья, мимо которых я несся как угорелый, смотрели на меня!
Нет уж, хватит с меня мертвящего взгляда деревянного уродца!
Все время казалось, что он очухался и мчится следом, проворно перебирая ножонками, не то злорадно хохоча, не то плача от бессильной злобы, размахивая при этом пуповиной, как лассо.
Подумал с отчаянной надеждой: «Нет, наверное, я уснул в «газели», вот и мерещится невесть что. Сейчас доедем до города – и я проснусь. И окажется, что мы не останавливались около почтового ящика и письмо я так и не бросил.
Ну и ладно! Тем лучше! Я его просто выкину. Изорву в клочки и выкину, и не в почтовый ящик, а в мусорный! И постараюсь отговорить маму на следующий год ехать туда, где я был сегодня – или где мне казалось, что был…»
На бегу я заметил в чаще сбоку автомобиль и чуть не рухнул от изумления. Но это был не глюк – там в самом деле стоял автомобиль! Я видел его крышу – не то коричневую, не то красноватую. Правда, через нее проросло какое-то дерево, да и весь автомобиль покрылся травой и мхом так, что марку не различить.
Я не мог понять, что за лес окружает меня. Не сказать, что я такой уж знаток ботаники, но березу от елки, а дуб от клена все-таки отличу. И даже ясень мне знаком, и рябина, ну и липу узнал бы, особенно когда она цветет или ягодой покрыта. Но здесь деревья были одновременно и знакомые и незнакомые, как бы скрещенные между собой. И Потаповы рассказки всплыли в памяти: «Вон деревья, видите? Они вроде березы, а листья у них как у рябины, понятно? Такие только на этом кладбище растут!»
«Мутанты, что ли?» – с издевкой спросила тогда Лили.
Похоже, она была права. Стволы березовые, белые в черных черточках, но с веток осыпаются желуди, а листья разлапистые, кленовые, желто-красные… Значит, такие деревья растут не только на кладбище? Или кладбище и сюда дотянулось?
У меня мутилось в голове от этих мыслей, и в эту самую минуту впереди, в просвете между деревьями, показалась крыша избы. На ней, правда, торчало какое-то высохшее деревце, но я уже понял, что передо мной деревня.
Там наверняка есть какие-нибудь жители! И они помогут мне выбраться отсюда!
И тут что-то произошло… Сначала я почувствовал словно холодное дыхание со всех сторон, а потом увидел, что к обочине подступают не деревья, а люди! Все они казались одного роста, большеголовые, с покрытыми корой телами и деревянными, грубо вырубленными лицами. Они подходили с обеих сторон, молча, с опущенными руками, похожими на длинные ветви, оканчивающиеся множеством веточек-пальцев.
Это что, деревья ожили?! Я совсем спятил? У меня начались глюки?
И тут до меня донеслось чуть слышное шипение.
Еще только змей тут не хватало!
Но шипение издавала не змея, а зловонное белесое пятно, которое скользило от одного человеко-дерева к другому, прилипая поочередно к каждому стволу, как бы растекаясь по ним, и тогда плоть деревьев исчезала, оставляя только что-то вроде скелетов, которые делали несколько шагов, начинали мерцать как гнилушки и бесшумно рушились в траву. При этом пятно меняло цвет и делалось багровым.
Довольным становилось, что ли? Или, наоборот, злилось?
Если честно, точно знать не больно-то хотелось. Может, пятно действовало в мою пользу и мне стоило его поблагодарить, хотя бы мысленно, но уж очень оно было мерзким и воняло гадостно, а действовало против человеко-деревьев до того подло, что не благодарить его хотелось, а удрать подальше. Вдруг оно и впрямь прониклось ко мне симпатией и решит выразить ее объятием? И тогда я тоже рухну, словно древесная труха, в траву и уж точно отсюда не выберусь?
Я попытался убежать, однако ноги меня по-прежнему не слушались. И тут…
И тут среди человеко-деревьев возник, словно выкатился из чащи, какой-то лысый, пузатый, белокожий, коротконогий… посередине его брюха – как раз на том месте, где у нормальных людей пупок, – находился огромный глаз с тяжело нависшим веком без ресниц. При этом его мучнисто-бледное лицо было лишено даже крошечных гляделок.
Пониже глаза располагался разинутый гнилозубый рот.
Веко на животе шевельнулось, начало медленно подниматься, и я понял, что, если этот глаз откроется, мне придет конец, конец!
Ноги мои, похоже, смекнули, что им тоже придет конец, если не прекратят забастовку. Они очухались и понесли меня вперед, а потом припустили еще шибче, когда раздались стремительно приближающиеся шаги, вернее прыжки, какого-то быстро бегущего существа.
Я не обольщался насчет его доброжелательного отношения. В этом лесочке доброжелательностью к представителям рода человеческого и не пахло!
А деревня уже открылась передо мной: два-три десятка домиков разбросаны там и сям, на пригорке и в низинке. Чуть в стороне – поросшие елями развалины какого-то длинного одноэтажного дома. Может, там сельская администрация? Или как это раньше называлось – правление колхоза? Или больница?
Да какая разница, что там было! Сейчас во всех окнах выбиты стекла, в плафонах двух-трех уличных фонарей нет лампочек, заборы оплетены повиликой и еще какой-то травой… И тут я разглядел совсем близко, за забором, дом с целыми окнами, крылечко и открытую дверь!
Я почти добежал до этой избы, как вдруг в соседнем огороде, заросшем, как и все прочие, сорной пожухлой травой, засек боковым зрением человеческую фигуру – в просторном, кое-как запахнутом и ничем не подпоясанном халате, до того застиранном, что ни цвета, ни узора не различить; на голову нахлобучена шапка-ушанка.
Сначала я решил, что это пугало огородное, однако оно вдруг косноязычно прокричало:
– Эй, че-а-эк, ко меня, ко меня! – И приглашающе замахало длинными руками, на которые были натянуты черные перчатки.
Не пугало, значит!
Подумать, стоит ли отозваться на это приглашение, я не успел: позади раздался грозный рык и короткий звук, похожий на лай. «Пугало» подхватило полы халата и чесануло в свой дом, мелькая кривыми ножищами, обтянутыми черными трениками, а может, кальсонами.
В подробности я не вдавался: преследователь был совсем близко, и это, судя по рыку, было что-то кровожадное, вроде волка!
Я кинулся к посеревшему от дождей забору, ограждающему первую избу, распахнул кривую калитку, проскочил в нее и, не оборачиваясь, захлопнул, надеясь, что она шарахнет моего преследователя. Судя по чему-то среднему между воем, рыком и лаем, который до меня долетел, зверюге досталось, но вот калитка распахнулась вновь, потом опять захлопнулась. Преследователь ворвался во двор! Я в это время был уже на крыльце, влетел в открытые сенцы, потом ринулся в комнату, однако споткнулся о порожек и ничком плюхнулся на пол, а мой отставший было преследователь, не ожидавший, конечно, такой удачи, с размаху свалился мне на спину, и я затылком и шеей ощутил его распаленное бегом дыхание.
Щелкнули зубы… сейчас они вопьются мне в шею, перекусят позвонки…
* * *
Внезапно мимо протопали быстрые легкие шаги и раздался сердитый девичий голос:
– Вставайте! Развалились тут! Лучше бы дверь закрыли!
Захлопнулась дверь, рухнул с грохотом засов, потом девчонка еще более сердито крикнула:
– Да вставай же, Пепел! Превращайся скорей, а то он с ума сойдет, когда тебя увидит.
И я почувствовал, как тяжесть, давившая мне на спину, с пыхтением сдвинулась.
Стремительно повернулся, сел – и в самом деле чуть не рехнулся, увидев перед собой огромного пса, тело и голова которого были обугленными, обожженными, как если бы он упал в костер, но все-таки вырвался из него. Местами на теле не было шерсти, а та, что осталась, слегка дымилась, и даже искры по ней пробегали. Ошейник обгорел и едва держался, а изо лба торчал короткий штырек – черный и вроде бы тоже обгоревший.
Что-то жизнь моя стала удручающе однообразной в этих краях! Я то бегу со всех ног, то шлепаюсь в обморок. Вот и сейчас… теряю… теряю сознание…
– Эй, держись, ты же мужчина! – донесся до меня голос девчонки, и я почувствовал, как она уперлась мне в спину коленкой, вцепилась в плечи и сильно встряхнула.
Уплывающее сознание раздумало уплывать, пелена перед глазами рассеялась, и я отчетливо разглядел, как полусгоревший пес грянулся оземь и… и рассыпался кучкой пепла. Но в следующую минуту пепел закружился, принимая очертания человеческой фигуры. Да-да, я увидел тощие босые ноги, обгоревшие джинсы прикрыли эти ноги до колен, появилась грязная, в прожженных дырках футболка, из рукавов высунулись длинные ухватистые руки, сформировалась шея, а потом пепел сложился в голову с разлохмаченными волосами, на которой вылепились черты задорного мальчишеского лица, расплывшегося в улыбке и уставившегося на меня серыми глазами.
Не только глаза – и кожа, и волосы, и даже зубы, и, конечно, одежда у этого парня были серыми, тускло-серыми, как пепел. Ну да, он же восстал из пепла в буквальном смысле слова! Вот только торчащий изо лба штырек был по-прежнему черным, обугленным. И ошейник никуда не делся…
Это пес превратился в пепельного человека?!
Почему-то я не заорал, не плюхнулся снова в бесчувствии, а даже как бы не очень удивился. Впрочем, если бы я увидел подобное превращение в нормальной жизни – меня, конечно, сразу же в психушку можно было отправлять. Но в этом лесу ничего нормального мне еще не встречалось. Я как-то пообвыкся, можно сказать. Хотя поколачивало меня сейчас, конечно, однако значительно меньше, чем от встречи с деревянным братцем и с этим… как его там… у которого глаз на брюхе!
– А ты ничего, – ухмыльнулся бывший пес, – бегаешь быстр-ро! Твое счастье, а то бр-рюхоглаз уже буквально на хвосте висел. – Он отчетливо раскатывал звук «р».
– На твоем? – промямлил я, представив, как на обгоревшем хвосте обугленного пса висит жуткий брюхоглаз.
Очень точное название, кстати!
– Ясно, на моем, – кивнул бывший пес. – У тебя же хвоста нет. Хотя не факт. Может, ты его прячешь? С чего бы недочел тебе махал и звал «ко нему»? Наверняка почуял родственную душу! – И он зашелся коротким лающим хохотом.
– Да ладно тебе, Пепел, – сказала девчонка, которая по-прежнему стояла сзади и поддерживала меня за плечи. – Недочел вечно голодный, сам знаешь. Увидел незнакомца – ну и обрадовался: вдруг выпросит какой-нибудь еды.
Недочел, сообразил я, это «пугало» в шапке, неподпоясанном халате, черных перчатках и черных трениках, а может, кальсонах.
– Древо-птицы еще не вывелись, вот он и мается, – продолжала девчонка. – А яиц мало осталось: я почти все недозрелые в прошлый раз собрала. Не знаю, появятся они снова или нет..
– Сочувствую, – пробормотал Пепел. – Выходит, иногда быть мертвым лучше, чем живым. Хотя бы есть не хочется.
– Сомнительное преимущество, – фыркнула девчонка. – Эй, ну ты как? Сам сидеть можешь? Или рискнешь встать?
Понятно, что она обращалась ко мне. Я кивнул, поднялся на ноги – не слишком ловко, надо сказать, – и увидел ее.
Высокая, ростом с меня (а во мне метр семьдесят пять, чтоб вы знали), тонкая – не худая, а именно тонкая, как стрекоза, кудрявые каштановые волосы растрепаны, глаза темно-карие, как черешня или вишня переспелая, брови домиком, будто их хозяйка чему-то как удивилась однажды, так и продолжает удивляться. Платье синее в красный цветочек, довольно симпатичное, только на груди почему-то не застегнуто на пуговицы, а зашнуровано черными обувными шнурками с расхристанными концами. Поверх платья накинута вязаная серая кофта. Что-то в этой кофте показалось мне странным, только я не сразу понял что. На ногах серебристые кроссовки, немного испачканные, но явно фирменные. Помню, Лили такими же «прадами», купленными за совершенно конские деньги на каком-то хитром сайте, всем в классе мозг вынула. Ну, Лили – она может! Наверное, эта девчонка на том же сайте их покупала. За такие же деньги.
– Привет, – сказала она. – Меня зовут Коринна.
– Пес Пепел, – отрекомендовался пепельный. – Можно звать и Псом, и Пеплом. А ты кто?
– Александр, – пробормотал я, почувствовав, как вспыхнули щеки.
Коринна… Красивое имя, никогда такого не слышал. Только слишком монументальное. Я бы ее лучше Коринкой звал, такую тонкую-звонкую. Если она разрешит, конечно.
Я решил начать с себя и сделать первый шаг к уменьшительно-ласкательным:
– Меня вообще-то можно Сашей звать. Или Сашкой. Или Санькой. Кому как нравится.
– Мне нравится Александр-р, – сообщил Пепел. – Иногда так охота лишний раз порычать!
Коринка смотрела на меня улыбаясь, хлопая длиннющими ресницами и комкая на груди кофту. И я понял, что в этой кофте показалось мне странным. На ней не было пуговиц! Совершенно как на моей безрукавке. Петли были – а пуговиц ни одной. И, кстати, я смекнул, почему платье Коринки зашнуровано, а не застегнуто. На нем тоже не было пуговиц, вот какая штука.
Я растерянно огляделся. Впервые, между прочим, с тех пор, как сюда попал. Ну да, у меня были более важные дела: то созерцать превращения Пепла, то на Коринку пялиться.
Это какая-то кухня. Четырехконфорочная газовая плита, застеленная выцветшей клеенкой, на ней металлический закопченный чайник; над раковиной с заржавевшим краном – полка, застеленная пожелтелой бумагой с нелепыми вырезанными фестончиками по краям – видимо, для красоты; на этой полке – две тарелки с облупленным золотым ободком и такие же кружки… В застекленном буфете виднеется разнокалиберная посуда. Две табуретки у стола, покрытого такой же клеенкой, как на плите; у стола вместо одной ножки подложены толстенные книги, похожие на «Большую советскую энциклопедию» – я такую видел в школьной библиотеке. А кстати, это и есть «Большая советская энциклопедия» – разглядел название.
Странно… почему-то показалось, что я бывал здесь раньше – не знаю когда! – и все это мне знакомо: и мебель (правда, тогда у стола все ножки были на месте), и плита (газа, конечно, нет, поэтому плита и накрыта клеенкой, а раньше на ней что-то кипело в кастрюле и скворчало на сковородке), и грязно-желтый пластиковый телефон, который стоял на проржавевшей насквозь железной полке, приколоченной к стене…
Телефон! Телефон! Связь с внешним миром! Мой-то мобильник остался в рюкзаке, но теперь появился телефон! Хоть бы он работал, этот раритет!
Я схватил трубку, торопливо набрал домашний номер – Пепел злобно рыкнул по-собачьи, однако я уже крикнул во весь голос, отчаянно: «Алло, алло!» – но ответом была тишина, и я наконец сообразил, что не слышал гудка, когда снял трубку.
Телефон не работал.
Ну да, было бы странно, если бы он работал: провод-то оторван! А я и не заметил на радостях…
– Положи трубку, – шепнула Коринка, и в голосе ее звучал страх. – Пожалуйста, положи и больше никогда ее не поднимай!
– А то что? – буркнул я. – Боишься, эта рухлядь развалится?
– Во-первых, она уже развалилась, – рассудительно ответил Пепел. – А во‑вторых, никогда не знаешь, кто тебе ответит. Лучше, знаешь ли, не провоцировать здешнее чокнутое гипер-рпр-ростр-ранство!
Гиперпространство?! Ну надо же, какие слова этому псу известны!
Внезапно раздался громкий дребезжащий звук, и я аж подскочил от неожиданности: ведь это телефонный звонок! Коринка и Пепел схватили друг друга за руки и замерли. В глазах у Коринки ужас, а Пепел был теперь не серым, а белым, честное слово! То есть он от страха побледнел?! Ничего себе…
– Ну вот, – прошелестел Пепел. – Спровоцировали-таки!
Вдруг возникла мысль – поразительная, честное слово, и она в самом деле поразила меня, как штырек, который вонзился Пеплу в лоб. Я осознал, что перестал удивляться невероятному, всей этой невероятности, в которой оказался.
Мне было не по себе, мне было, честно признаюсь, даже страшно, но все происходящее я теперь воспринимал как данность. Вообще все! И то, что было, и то, что есть, и то, что будет.
Как это написано в «Солярисе»? «…Не делай ничего. Владей собой. Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Но ты попробуй. Это единственный выход».
Да, похоже, придется поступать именно так, а всякие вопли «этогонеможетбыть!» пусть канут в Лету. Кстати, если кто не знает, это такая река в древнегреческой мифологии, куда валится все, что надо забыть. Или не надо, но оно все же забывается…
Между тем неработающий телефон с оборванным проводом продолжал трезвонить.
Может быть, когда я бросил трубку, то нечаянно надавил на какой-то звонильный рычажок и его заклинило?
– Он не успокоится, пока ты не снимешь трубку, – пробормотал наконец Пепел. – Ты набирал номер – ты и должен взять трубку. Только ничего не говори! Ничего не говори!
Мысль, которая мне внезапно пришла, – показатель того, насколько уже всерьез я воспринимал все, что здесь происходило. Я подумал: а вдруг это мама позвонила? Она же беспокоится, куда я пропал, где потерялся! Наши-то все вернулись, а меня нет, и она, конечно, сидит у телефонов – и городского, и мобильного, – ждет звонка! И вот кто-то позвонил, номер определился – и она теперь перезванивает…
Да! И несмотря на то что провод оборван – звонок прошел! Я верю, что это возможно! «Этогонеможетбыть!» лежит на дне Леты и не трепыхается!
Я схватил трубку и чуть не заорал радостно: «Алло! Мам, это ты?» – но Коринка метнулась вперед и так вцепилась ногтями мне в руку, что я натурально окосел от боли. Дернулся было, но она держала крепко, уставившись мне в глаза, и это был такой взгляд, что я словно услышал ее мысленный крик: «Молчи, молчи, молчи!!!»
И тут до меня отчетливо долетел знакомый голосишко, который был настолько пронзительным, что разносился по всей кухне. Во всяком случае, Коринка и Пепел его услышали и уставились на меня с ужасом и любопытством:
– Ну что, Санька? Добрался до своих? Думаешь, отсидишься у них? Думаешь, я оставлю тебя в покое? Зря! Я же сказал, что твое сердце теперь должно остановиться, как раньше остановилось мое! Во всем виновата наша прабабка! Она уже за все заплатила – заплатишь и ты. Ты мне должен – ты мне должен шестнадцать лет счастливой жизни! И ты мне их отдашь… Ну ладно, дыши пока. Я тебе еще позвоню. И ты, это, лучше трубку сразу бери, а то ставни вышибу!
В трубке раздались короткие гудки, а потом в окно что-то сильно шибануло – настолько сильно, что ставни ходуном заходили, а стекло задребезжало. Потом громко хлопнула калитка – кто-то ушел со двора.
Волоча за собой пуповину небось!
Я опустил трубку на рычаг – осторожно так, осторожненько… Ну да, меня этот братский монолог впечатлил. А кого бы не впечатлил, интересно?!
– Хорошо, что ты молчал, – еле слышно шепнула Коринка. – Если им не ответишь, они, может быть, отвяжутся.
– Откуда ты знаешь? – спросил я.
Она опустила голову и пробормотала:
– Когда мы только сюда попали, я позвонила домой: не заметив, что провод оборван. Конечно, никто не ответил. Но через минуту раздались звонки. Я схватила трубку и заорала: «Мама! Папочка!» В ответ раздался голос – какая-то девчонка бубнила: «Миламиламиламила…» Голос был не злой, скорее жалобный, но леденящий душу. – Коринка поежилась: – Меня до сих пор бьет дрожь, как вспомню. А еще… Ты, когда бежал сюда, не заметил во дворе качели?
Я пожал плечами:
– Ты что, какие качели?! Я думал, за мной какое-то чудище гонится, ну и бежал сломя голову.
– Это я гнался, – гордо заявил Пепел. – Я вполне гожусь на роль чудища!
– Нашел чем хвастать, – отмахнулся я. – Рассказывай, Корин… на.
К сожалению, на уменьшительно-ласкательный суффикс у меня решимости пока не хватило.
– Мы по дурости оставили ставни открытыми, и я увидела, как эти качели раскачиваются, – продолжала Коринка. – Однако на них не было никого, кто бы их раскачивал. Но приглядевшись, я заметила тень… тень качелей и человека, который на них сидел. Это была тень какой-то девочки. Она раскачивалась и что-то бубнила себе под нос. Наверное, то же самое, что в трубку: «Миламиламиламила…»
Каринка обхватила себя за плечи, словно ее вдруг зазнобило.
Да уж, зазнобит, наверное!
– Потом заскрипели ступеньки крыльца, как будто по ним кто-то поднимается. Я бросила трубку – оказывается, так и стояла, вцепившись в нее! После этого голос утих и тень девочки исчезла. А качели продолжали раскачиваться. И только когда мы заперли дверь, а потом Пепел закрыл ставни, качели остановились. С тех пор мы стали очень осторожны.
– Как-то это против всех мифологических правил, – сказал я задумчиво. – Не то чтобы я такой уж знаток, но читал кое-какие фэнтези. Нежить не отражается в зеркале и не отбрасывает тени. А эта девчонка отбрасывала, как вы говорите.
– Эх, – вздохнул Пепел, – здесь сплошные противоречия, никаких закономерностей не найдешь.
– А тебе кто звонил, можешь сказать? – тихо спросила Коринка.
– Да! – подхватил Пепел. – Кому ты так на хвост наступил, что он сюда приперся и грозит тебе?
– Не знаю, – забормотал я. – Это такой маленький деревянный человечек, покрытый корой. Глаза у него закрыты, но он все видит, я чувствовал его взгляд! Он к тому ужасному дереву пуповиной привязан… прикован… пришит… Не знаю! Как он добрался сюда – ведь он же деревяшка? Эта его «пуповина» безразмерная, что ли? Резиновая? Латексная? Стретчевая? Но ведь не может…
«Этогонеможетбыть» забулькало из глубины Леты, явно намереваясь всплыть, и я умолк.
– Ну, не такая уж он деревяшка, если во двор проник, – задумчиво проговорила Коринка. – Значит, что-то человеческое в нем есть.
– Ничего в нем нет человеческого! – закричал я. – Он меня чуть не задушил, чуть не прикончил!
– За что? – спросили хором Коринка и Пепел.
– Понимаете, у моей мамы родились близнецы. Здесь, в Ведеме, в местной больнице. Но выжил один я. Мама до сих пор из-за этого мучается. А деревянный уверяет, что он мой умерший брат. И в смерти его виноват я. Слышали, что он болтал по телефону?
Коринка и Пепел одновременно кивнули.
– Поняли, что мне лучше не общаться с ним?
Они опять кивнули.
– Но я… я, честно говоря, из-за этого деревянного братца и попал сюда.
– Пришел его проведать, что ли? – ухмыльнулся Пепел.
– Да нет, нет, но… я должен был письмо опустить в почтовый ящик.
– Письмо?! – ахнула Коринка. – А кому оно было адресовано?
– Алексею Лесникову, – сообщил я. – Меня зовут Александр Лесников, ну а брата звали бы Алексеем…
Коринка и Пепел переглянулись.
– Странная фамилия, – пробормотала Коринка. – Похожа на русскую.
– Еще бы, – усмехнулся я. – Я русский, и фамилия у меня русская.
– Ты русский?! – Она вытаращила свои вишнево-черешневые глазищи. – Ну надо же… Но ты просто потрясающе говоришь по-французски! Как будто это твой родной язык!
Теперь вытаращились мои глаза. Обыкновенные, кстати, серые.
– Извини, конечно, но я по-французски знаю четыре слова: «пардон», «мерси», «дежа вю», «бонжур». Ах да, еще «мадам» и «мсье».
– Зря скромничаешь, – усмехнулась Коринка. – Мало встретишь иностранцев, которые так безупречно говорят на нашем языке.
– На каком на вашем? – озадачился я.