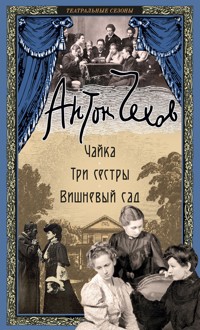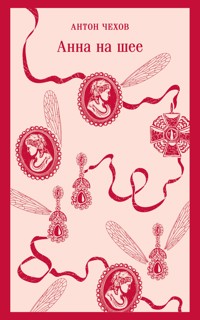Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Русская литература. Большие книги
- Sprache: Russisch
Замечательный стилист, тонкий психолог, мастер подтекста, Антон Павлович Чехов оказал огромное влияние на развитие мировой литературы. Его всегда интересовали самые обычные люди в повседневных делах и заботах, он рассказывал об их жизни, мечтах, надеждах на будущее без пророчества и морализаторства, предоставляя своим читателям право самостоятельно делать выводы. Рассказы и пьесы, написанные в последней четверти XIX века, по-прежнему вызывают интерес во всем мире, а прозаики и драматурги признают, что именно Чехов открыл перед ними невиданные возможности искусства слова.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1553
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Составление Аллы Степановой
Комментарии Андрея Степанова
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Чехов А.
Человек в футляре : Избранное / Антон Чехов. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Русская литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-30713-1
12+
Замечательный стилист, тонкий психолог, мастер подтекста, Антон Павлович Чехов оказал огромное влияние на развитие мировой литературы. Его всегда интересовали самые обычные люди в повседневных делах и заботах, он рассказывал об их жизни, мечтах, надеждах на будущее без пророчества и морализаторства, предоставляя своим читателям право самостоятельно делать выводы. Рассказы и пьесы, написанные в последней четверти XIX века, по-прежнему вызывают интерес во всем мире, а прозаики и драматурги признают, что именно Чехов открыл перед ними невиданные возможности искусства слова.
«Читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь… Вот определение таланта» (Л. Н. Толстой).
«Я от души советую вам почаще заглядывать в книги Чехова… чтобы, забываясь, пережить эти сказочные сны так, как они были задуманы» (В. В. Набоков).
«Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова» (С. Довлатов).
© А. Д. Степанов, комментарии, 2019© Состав, оформление.ООО «Издательство АЗБУКА», 2019Издательство Азбука®
Письмо к ученому соседу
Село Блины-Съедены
Дорогой Соседушка.
Максим... (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов [1], химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс [2] отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами [3]. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства [4]? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп.
Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.
Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи. И насщот этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им Бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит пожже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.
Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник [5] из дворян, ваш сосед
Василий Семи-Булатов
Радость
Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?
— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
— Что с тобой? На тебе лица нет!
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор [6] Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О господи!
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
— Да что такое случилось? Говори толком!
— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!
— Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом:
— Читайте!
Отец надел очки.
— Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:
«29 декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
— Видите, видите? Дальше!
...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...
— Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
...который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь»...
— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!
Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
В цирульне
Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены.
Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом! Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, всё есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара [7] на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоит больше пятиалтынного [8].
Над дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и в цирульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью.
Это Эраст Иваныч Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории [9] в сторожах, теперь же живет около Красного пруда [10] и занимается слесарством.
— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.
Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится.
— Даль-то какая! — говорит он кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот [11].
— Как поживаете-с?
— Плохо, брат. Горячка была [12].
— Что вы? Горячка!
— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Соборовался. Теперь волос лезет. Доктор постричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да ведь это что ж? Та же прогулка.
— Я с удовольствием. Пожалуйте-с!
Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягодов садится и глядит на себя в зеркало, и видимо доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами.
— Я вас начисто, догола! — говорит он.
— Натурально. На татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет.
— Тетенька как поживают-с?
— Ничего, живет себе. Намедни к майорше принимать ходила. Рубль дали.
— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!
— Держу... Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь.
— Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживают Анна Эрастовна?
— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, в среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходил?
Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно:
— Кого просватали?
— Анну.
— Это как же-с? За кого?
— За Шейкина, Прокофия Петрова. В Златоустенском переулке [13] его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально, все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем.
— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает плечами. — Как же это возможно? Это... это никак невозможно! Ведь Анна Эрастовна... ведь я... ведь я чувства к ней питал, я намерение имел. Как же так?
— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.
На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос.
— Я намерение имел... — говорит он. — Это невозможно, Эраст Иваныч! Я... я влюблен и предложение сердца делал... И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, все равно как родителя... стригу вас всегда задаром... Всегда вы от меня одолжение имели, и, когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?
— Как не помнить! Помню. Только какой же ты жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, ремесло пустяшное...
— А Шейкин богатый?
— Шейкин в артельщиках [14]. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат... Толкуй не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту... Свет не клином сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?
Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочек и начинает плакать.
— Ну чего! — утешает его Эраст Иваныч. — Брось! Эка ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!
Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся.
— Не могу! — говорит он. — Не могу сейчас, силы моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас люди недобрые без всякой жалости. Уходите, Эраст Иваныч! Не могу я вас видеть.
— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.
— Ладно.
— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.
У Эраста Иваныча половина головы выстрижена догола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку.
На другой день рано утром опять приходит Эраст Иваныч.
— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно Макар Кузьмич.
— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.
— Пожалуйте деньги вперед. Задаром не стригу-с.
Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.
Размазня
На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.
— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...
— По сорока...
— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...
— Два месяца и пять дней...
— Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычесть девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...
Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..
— Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть... останется... гм... сорок один рубль... Верно?
Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..
— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная, тоже по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...
— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.
— Но у меня записано!
— Ну, пусть... хорошо.
— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать...
Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!
— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...
— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!
И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.
— Merci, — прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.
— За что же merci? — спросил я.
— За деньги...
— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?
— В других местах мне и вовсе не давали...
— Не давали? И немудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они, в конверте, для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?
Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»
Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!
Смерть чиновника
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор [15], Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола» [16]. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...
— Ничего, ничего...
— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...
— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
— Вчера в «Аркадии» [17], ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...
— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...
— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.
Злой мальчик
Иван Иваныч Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны [18], молнией бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.
— Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна... Очень многое... Когда я увидел вас в первый раз... У вас клюет... Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь... Это, должно быть, большая клюет... Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать... пусть лучше клюнет... Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не сто́ю, я не смею даже помыслить об этом, — могу ли я рассчитывать на... Тащите!
Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.
— Боже мой, окунь! Ай, ах... Скорей! Сорвался!
Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... бултых в воду!
В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам... Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения... Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.
— А-а-а... вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо же! Я скажу мамаше.
— Надеюсь, что вы, как честный человек... — забормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко... Полагаю, что вы, как честный и благородный человек...
— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу.
Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.
На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.
— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал, и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?!
Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы.
Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:
— Сказать? А?
Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.
И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда наконец Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:
— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!
И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.
Дочь Альбиона
К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства [19] Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.
— Господа дома? — спросил предводитель.
— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.
Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.
— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!
— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?
— Как видишь... А ты всё еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?
— Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.
— А ты наплюй. Пойдем водку пить!
— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный [20] служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...
— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при даме... и ее же...
— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей всё равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.
Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.
— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов. — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!
— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?
— Она не женщина, а девица... О женихах небось мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на всё смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!
Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это молча, важно и медленно.
— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюет...
Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.
— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть... Черт возьми...
На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.
— Экая жалость! В воду лезть надо.
— Да ты брось!
— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!
Грябов сбросил шляпу и галстук.
— Мисс... эээ... — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при... [21] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?
Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.
— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!
Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.
— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?
— Плюнь! Пойдем водки выпьем!
— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...
Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.
— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.
— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!
Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.
— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?
— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!
— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!
Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:
— Это, брат, ей не Англия!
Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.
Толстый и тонкий
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем [22]. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах [23]... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом [24] за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом [25] за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею [26]. Жалованье плохое... ну да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником [27] по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею [28].
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
Жалобная книга
Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке [29] на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:
«Милостивый государь! Проба пера?!»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора [30] Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».
«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса [31] Курской гимназии Алексей Зудьев».
«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции [32] и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».
«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».
«Лопай, что дают»...
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу [33]».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».
«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».
Экзамен на чин
— Учитель географии Галкин на меня злобу имеет, и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамента, — говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик X-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. — Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дожидайтесь, — говорю, — очереди, милостивый государь». Он вспыхнул, и с той поры восстает на меня, аки Саул [34]. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»
Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней X-го уездного училища [35] вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:
— Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!
Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусинковых брюках [36] и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.
Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке [37] и с наперсным крестом [38]. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ [39] Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.
Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся [40] третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...
— Вы где служите? — обратился к нему инспектор.
— Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.
— Так-с... Напишите диктант.
Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.
Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще»; но ведь все это не грубые ошибки.
— Диктант удовлетворителен, — сказал инспектор.
— Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, — осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова [41], отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии [42]. И планиметрию учил и стереометрию... все как есть...
— Стереометрии по программе не полагается.
— Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! — вздохнул Фендриков.
— Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов.
Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано — ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:
— Э... скажите мне, какое правление в Турции?
— Известно какое... Турецкое...
— Гм!.. турецкое... Это понятие растяжимое. Taм правление конституционное [43]. А какие вы знаете притоки Ганга?
— Я географию Смирнова учил [44] и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии текет... река эта текет в океан.
— Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс [45]? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?
— Тракт 18, место 121.
На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.
— Как перед истинным Богом, ваше высокородие, — забормотал он. — Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое... Век буду Бога молить...
— Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?
— И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду Бога молить... С самого Покрова [46] учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно Бога молить.
На ресницах у Фендрикова повисли слезы.
— Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высокородие.
— Ничего не приготовили?
— Все приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!
— Уж и шапку с кокардой себе заказал... — сказал протоиерей Змиежалов и усмехнулся.
— Хорошо, ступайте!.. — сказал инспектор.
Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.
— Экая жалость! — бормотал oн. — Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!
— Да что такое? — спросил Пивомедов.
— Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!
Хирургия
Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке [47] и в истрепанных триковых брюках [48]. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.
В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором [49], потом вынимает из красного платочка просфору [50] и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?
— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях» [51]. Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом [52]... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих [53]... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...
— М-да... Садитесь... Раскройте рот!
Вонмигласов садится и раскрывает рот.
Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.
— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы [54] да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...
— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!
— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...
— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом Богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой [55], третий ключом [56]... Кому как.
Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.
— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...
— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил...
— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы). Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...
— Отцы наши... Мать Пресвятая... Ввв...
— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...
— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?
— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...
Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...
— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!
— Сам ты дура!
— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!
— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!
— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе [57] читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!
Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.
— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!
Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.
— Парршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!
— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!
Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...
Хамелеон
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель [58] Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А...а!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» — да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?
— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...
— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?
— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!
— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!
— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит [59]. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...
— Не рассуждать!
— Нет, это не генеральская... — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше легавые...
— Ты это верно знаешь?
— Верно, ваше благородие...
— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...
— А может быть, и генеральская... — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.
— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?
— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.
— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...
— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты господи! А я и не знал! Погостить приехали?
— В гости...
— Ишь ты господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцик этакий...
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.
— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
Свадьба с генералом
Отставной контр-адмирал [60] Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».
— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!
Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».