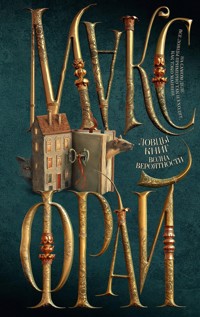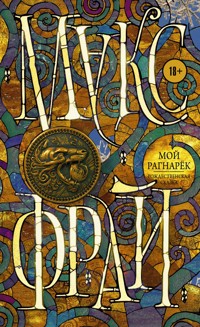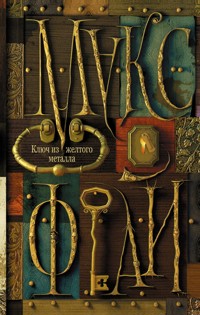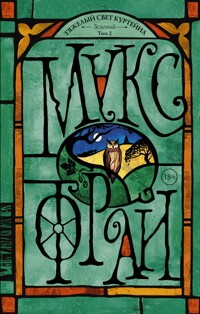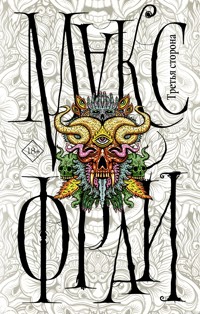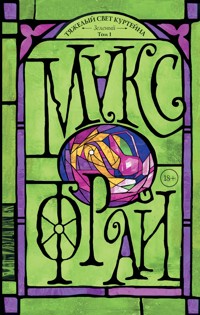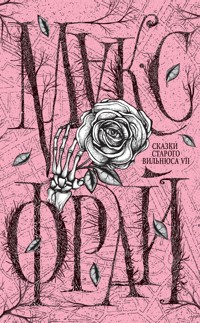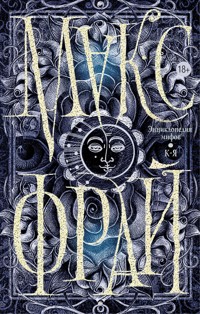
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Миры Макса Фрая
- Sprache: Russisch
Эта книга была придумана 1 ноября 1995 года, в тот самый день, когда автор «Лабиринтов Ехо» создал новый документ в текстовом редакторе и написал: «Никогда не знаешь, где тебе повезет» – фразу, с которой начинается длинная сага о приключениях сэра Макса. Ну, то есть на самом деле не «придумана», а просто возникла перед внутренним взором автора - вся, целиком. А потом снова исчезла практически без следа, как это часто случается с внезапными озарениями. Но время от времени автору удавалось что-то вспомнить и записать. Эти записи неоднократно гибли под развалинами уничтоженных черновиков, но с завидным упорством возвращались к жизни, преследуя автора во сне и наяву, а чаще всего – на заболоченных перекрестках между дремотой и бодрствованием. В конце концов книга победила авторскую неспособность ее написать. И теперь она есть. Эта книга содержит не слишком внятный, зато предельно честный ответ на вопрос «Кто такой Макс Фрай?». И множество новых вопросов, ответы на которые автор и сам хотел бы получить.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Макс Фрай Энциклопедия мифов. К-Я
Книга публикуется в авторской редакции
© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
К
1. Круг
…фигура, образуемая правильной кривой линией, без начала и конца…
Некоторые вещи вспомнить почти невозможно. Но обычно оказывается, что только они и имеют значение.
Поэтому.
Я.
Вспоминаю.
Бесцеремонное, в сущности, вторжение. Их было двое. Мужчина и женщина, очень молодые. Их лица я так толком и не разглядел. Только два силуэта, просторные свитера, яркие шарфы, длинные белокурые волосы женщины и прядь, упавшую на лоб ее спутника, темную и тяжелую, как мокрые водоросли. Ноги, обутые в спортивные ботинки, ступали почти бесшумно, но деревянная лестница тихонько поскрипывала под упругими подошвами. Мне почему-то был знаком ритм их шагов – открытие казалось скорее тревожным, чем радостным, хотя ни радости, ни тревоги я тогда еще не умел испытывать. Лишь расставлять по местам наиболее подходящие определения – это всегда пожалуйста.
Тогда же я обнаружил, что звуки шагов в темноте могут рассказать об идущем куда больше, чем разноцветные картонки, разложенные в определенном порядке смуглой рукой ярмарочной предсказательницы. Впрочем, я оказался молчаливым оракулом: мои откровения годились лишь для удовлетворения собственного любопытства; искусство издавать звуки казалось мне слишком хитроумной наукой, за изучение коей и браться-то не стоит, все равно ничего не выйдет.
Мужчина был рожден в год Огня, женщина – в год Дерева, и сама судьба предназначила ей стать хворостом в его костре, поэтому его пламя пылало на самом дне сердца, а ее легкий огонь плясал на поверхности кожи, обжигая, но не согревая. Глаза же их, как у всех, кто находится под покровительством Нептуна (сумма чисел рождения кратна девятке), казались изменчивыми и глубокими, как морская вода. Эта зыбкая влага не давала их огню разгореться в полную силу, поэтому они походили на людей, собравшихся жить вечно.
Они имели странную власть над событиями, но не умели повернуть ее себе на пользу, ибо само понятие пользы не укладывалось в их головах. Поэтому они играли с миром, как младенцы с набором цветных кубиков: всякая конструкция, причудливая ли, уродливая ли, возникала лишь для того, чтобы тут же быть разрушенной неловким движением могущественной, но неумелой руки; руинам же было суждено чудесное превращение в волшебный лабиринт, впрочем, и это случалось лишь на краткое мгновение.
Кажется, я тоже был одним из их кубиков.
«Добрый вечер, Макс!» – говорили они и хохотали, как подвыпившие школьники, но смех не звенел, а потрескивал: так трещат отсыревшие поленья в камине. Я недоумевал: что забавного может быть в столь обыденной фразе? «Хорошей тебе ночи, Макс», – их голоса звучали доброжелательно, но снисходительно, словно я был симпатичной дворнягой или ручным скворцом.
Я не давал себе труда удивиться, откуда они знают мое имя, поскольку эти двое были похожи на тех счастливчиков, что легко угадывают заветное число, но вечно забывают поставить на него деньги. Перед тем как уйти, они непременно включали старомодную лампу под зеленым абажуром, которая стояла на маленьком столике возле моего кресла, и ее тусклый леденцовый свет казался мне слишком ярким, так что поневоле приходилось просыпаться.
«Круг разомкнулся», – думал я, пробуждаясь. Впрочем, нет, не думал, фраза эта, изящная, но вполне бессмысленная (что за «круг»? с какой стати он «разомкнулся»? и был ли «сомкнут» прежде?), ритмично пульсировала в висках, как пульсирует кровь в жилах живых людей. «Круг разомкнулся», – странное словосочетание постепенно наполняло меня, становилось фундаментом будущей телесности. Слова оказались достаточно густыми, чтобы заполнить пустоту, из которой я был соткан прежде; комариный зуд их звучания не давал мне погрузиться в безмятежное забытье. Я невольно начинал прислушиваться к шорохам мира, которые по капле просачивались теперь в хрустальный дворец моего совершенного одиночества, одиночества-без-себя, потому что… круг действительно разомкнулся.
Это было.
Это было так странно!
2. Кур
В шумеро-аккадской мифологии одно из названий подземного мира ‹…› вторичное название – кур-ну-ги («страна без возврата»). О положении и местонахождении Кур четкого представления нет. ‹…› В него не только спускаются и поднимаются, но и проваливаются.
…Сначала я просто наслаждался звучанием голосов: приглушенных расстоянием, пока женщины сидели на веранде; четких, когда они собирались к чаю в просторной парадной столовой; бесстыдно звонких, если они окликали друг друга в холле. Я сам не заметил, в какой момент начал внимательно прислушиваться к голосам, но это случилось, и смысл слов постепенно становился мне понятен – поразительное ощущение! До сих пор речь постоянно сменяющихся обитателей трехэтажной виллы, пленником (или хозяином?) которой я то ли стал совсем недавно, то ли был всегда, казалась мне птичьим щебетом, пронзительным, сладкозвучным и напрочь лишенным смысла. Голоса убаюкивали меня, как шум реки. Так перестаешь понимать человеческую речь за несколько мгновений перед тем, как погрузиться в глубокий сон, когда невидимый шейкер перемешивает обе реальности и ты – уже? еще? – не можешь отделить сон от яви (или все-таки одно сновидение от другого?).
– Я недавно перечитывала Сэлинджера…
Дружный смех, тихий, как шорох прошлогодних листьев в саду за распахнутым окном.
– И после этого ты будешь говорить, что тебе здесь совсем не скучно?
– Пока ничего страшного, девочки. Но вот если Лиза возьмется за Достоевского, тогда да, тогда ее пора эвакуировать!
– В Мюнхен.
– Не поможет. Лучше уж в Амстердам.
– Ага, она там как следует курнет, вспомнит студенческие годы…
– И в таком состоянии снова усядется читать Сэлинджера. Так что бесполезно. Тебе уже ничего не поможет, ты слышишь, бедняга?
– Но я люблю читать перед сном, и, собственно говоря, почему бы не перечитать Сэлинджера, если уж он есть в здешней библиотеке? Не сбивайте меня, ладно? Я хотела сказать вот что. Я его лет пять не открывала, а сейчас вдруг обратила внимание… В ранних рассказах несколько раз возникает Холден Колфилд. То есть о нем там мельком упоминают. В одном рассказе сорок четвертого года появляется его старший брат, тоже Колфилд, только Винсент, и между делом вспоминает Холдена… А потом в рассказе, который был написан в сорок пятом году, главный герой – все тот же Винсент. Так вот, к этому моменту он уже знает, что его братишка Холден пропал без вести… Да, а потом, уже в пятьдесят первом году, вдруг появляется знаменитый роман «Над пропастью во ржи», где этот самый пропавший без вести Холден Колфилд – главный герой. Вы понимаете?
– Ну и что? Лиза, деточка, так часто бывает. Многие писатели влюбляются в своих героев, иногда они не могут расстаться с ними всю жизнь, таскают из рассказа в рассказ или из романа в роман, и путаница их не смущает…
– Я знаю, что часто. Но тут не то. Во всяком случае, я не это хотела сказать. Тут совсем другое… – Она смущенно умолкает, а потом говорит так тихо, что я скорее угадываю, чем слышу ее слова: – Неужели не понятно, куда он пропал без вести, этот мальчик?
– Ах, вот ты о чем…
– Хочешь сказать, он пропал без вести – из одной книги в другую?
– Ну да. Из одной книги в другую, из одной жизни в другую… На новой картинке есть небольшие отличия, не знаю, наберется ли десять…
Женщины не смеются, но я чувствую, как они улыбаются. Лиза продолжает:
– В новой книге у него другой старший брат. Не писатель Винсент, который погибнет в сорок пятом во Франции, а некий Д. Б., он сценарист в Голливуде, и у него там все о’кей, а ведь Винсент, который появлялся в рассказах, не любил ни Голливуд, ни вообще кино как таковое, он об этом не раз говорил, я еще обратила внимание…
– Деточка, ты зря стараешься. Литературный критик из тебя все равно не получится, ты слишком искренне любишь книги. Материал, с которым работаешь, нельзя любить: в этом случае он не поддается анализу. Выскальзывает из-под скальпеля да еще и верещит, как умирающий заяц.
– А разве умирающие зайцы?..
– Да, они верещат. Очень страшно кричат, как маленькие дети. Я не знаю, как люди решаются их убивать…
– Вот уж за что следует ввести смертную казнь: за охоту на зайцев. Повсеместно. Это единственное преступление, которому нет оправдания.
– Подождите со своими зайцами, не сбивайте меня. Я не о том. При чем тут критика какая-то? Конечно, я не собираюсь что-то там всерьез исследовать. Тут другое. Когда я поняла, куда пропал без вести Холден Колфилд, я подумала: а может быть, мы тоже пропали без вести? В другую книгу… в другую жизнь. Мы сами ничего не заметили, а наши родственники и друзья где-то там, в прежней жизни, бьют тревогу, но мы никогда не узнаем об этом, потому что здесь есть телефон, и всегда можно позвонить домой, и тебе ответит знакомый голос… почти как настоящий.
– Боже мой! – звенит в напряженной тишине хорошо поставленный голос Алисы. – Ты права, детка. Я всегда подозревала, что однажды проснусь не там, где мне положено, – просто по рассеянности!
– А ведь действительно все стало… как-то не так, правда? С тех пор, как мы здесь. Слишком хорошо. И от этого тревожно, как перед грозой или как будто все время полнолуние. Разве нет? Юста, ты каждый день ездишь в Мюнхен. Как он тебе? Настоящий?
– Мюнхен всегда ненастоящий. Это не показатель. Единственный город, в котором невозможно положиться на карту, только на удачу… и еще на таксистов. Каждый мюнхенский таксист очень четко знает, в каком измерении находится место, в которое тебе требуется попасть, и это их неоспоримое достоинство… Вообще-то я не очень верю, что мы уже пропали без вести. Но, по-моему, мы вполне можем пропасть. У нас есть шанс затеряться где-нибудь в коридорах. Меня не покидает ощущение, что с этой веранды можно исчезнуть в любой момент. Поэтому здесь так тревожно… и так хорошо.
– Ну вот, спать я сегодня ночью не буду. Вы меня напугали.
– И правильно. Утром поспишь. А ночью надо смотреть на звезды. Их здесь, по-моему, раза в три больше, чем положено…
– Ага. И перед отъездом нас заставят оплатить дополнительные звезды, поштучно, по списку. Как счета за телефон.
– Хм… Могли бы заранее сообщить расценки, я бы еще подумала. Я девушка экономная…
– Ничего, сэкономишь на телефонных звонках. А звезды пусть остаются.
– Ну ладно, уговорили. Хотя… Разве дело в количестве?
– Иногда – да.
Я слушаю их болтовню, и у меня кружится голова. «Пропасть без вести», это надо же! Знали бы они, сколь опасно близки к правильному решению задачи.
О, я уверен, они ничего не знают об этом доме, ничегошеньки (по крайней мере, пока), но их чутье – это нечто! Я и сам наверняка «пропал без вести», переступив порог этого гостеприимного дома. Иногда мне кажется, что я помню, откуда именно я «пропал», а иногда я понимаю, что ни черта не помню, кроме своих бесконечных путаных снов.
Я, знаете ли, просто местный призрак. Впрочем, я не доставляю окружающим никакого беспокойства: у меня нет нелепой потребности завывать во тьме безлунной ночи или, к примеру, драматически греметь цепями. У меня и цепей-то никаких нет. Я просто сижу в кресле, обитом потертым красным плюшем. Увидеть меня, кажется, совершенно невозможно. Но в красное кресло никто никогда не садится: что-то удерживает обитателей этого дома, даже самых непрошибаемых, от попыток занять мое место.
Во всяком случае, именно так обстояли дела, пока на вилле Вальдефокс не появились эти женщины. Про себя я сразу окрестил их «иствикскими ведьмами», благо, то ли в прошлом (которого у меня, возможно, не было), то ли в одном из тягучих снов, заменяющих мне воспоминания, я с удовольствием читал одноименный роман во время поездок в метро[1].
Прозвище моим новым знакомым не слишком подходило: книжные-то «иствикские ведьмы», помнится, произвели на меня почти отталкивающее впечатление, а тут такие милые дамы. И все же несколько дней я почти беспричинно отождествлял временных обитательниц виллы с героинями Апдайка: призрак (как всякое одинокое существо) хватается за любой повод блеснуть нечаянной эрудицией[2].
Что касается самой виллы Вальдефокс, расположенной в получасе неторопливой езды от Мюнхена, официально она считается собственностью городского магистрата. Впрочем, подозреваю, что здешний смотритель, седой баварец по имени Франк, флегматичный и невозмутимый, как породистый сенбернар, в глубине души полагает виллу своей личной собственностью. Я же совершенно точно знаю, что этот трехэтажный дом с большой верандой и изящной башенкой наверху, окруженный запущенным старым садом, принадлежит мне – или я принадлежу ему, какая, к черту, разница?! Обладание всегда взаимно, и собственность – палка о двух концах, как, впрочем, и рабство…
Но наивные кругло-красно-озабоченно-лицые господа из мюнхенского магистрата даже не подозревают о наших с Франком собственнических амбициях. Франк Хоффмайстер – наемный работник, для которого возможность проживать в маленьком домике у ограды виллы является одновременно и привилегией и обязанностью, оговоренной в контракте, так что с ним все ясно. Что касается меня, вряд ли эти господа способны поверить в мое существование даже после пятнадцатой кружки пива, так что со мной тоже все ясно – в каком-то смысле…
Богатая бездетная дама, которая завещала городу свое владение где-то в середине шестидесятых годов почти истаявшего уже столетия, прятала природную мечтательность под неулыбчивой маской из собственной кожи, нежной и сухой, как крылья бабочки. Она справедливо полагала, что скука – вполне приемлемая плата за благополучие, и больше всего на свете любила засыпать и просыпаться (но не спать и не бодрствовать). Она читала книги, открывая их на середине, откуда ее близорукий левый глаз мог путешествовать в начало наперекор логике и смыслу, а дальнозоркий правый – проторенным путем, к финалу. Состарившись, она вдруг поняла, что боится не смерти, а забвения, и пожелала, чтобы под крышей ее дома собирались писатели, художники и прочие занимательные персонажи – после того, как он опустеет, разумеется.
Соотечественники всегда казались ей слишком пресными, поэтому она особо оговорила, что гости должны приезжать из разных стран мира. Возвышенное, но убогое воображение подсказывало старой даме, что по вечерам эти удивительные существа (как всякому образованному, но далекому от искусства человеку грядущие гости казались ей немного нелепыми, вдохновенными ангелами) будут встречаться на веранде и беседовать о культуре. Она также надеялась, что благодарные обитатели виллы согласятся извлекать порой из забвения имя ее мертвой хозяйки, хотя бы для того, чтобы удивленно спрашивать друг друга: «Почему, почему же ей взбрело в голову сделать нам столь щедрый подарок?!»
Примерно так и случилось, благо воля завещателя – закон. Вилла Вальдефокс дает временный приют творческим личностям, которые по тем или иным причинам удостоились внимания чиновников из отдела культуры при городском магистрате. Вилла разделена на восемь небольших, но уютных квартирок; следовательно, жильцов в доме обычно тоже восемь: стипендиатам всегда вежливо, но настойчиво рекомендуют воздержаться от поездки в сопровождении членов семьи. Таково пожелание прежней владелицы. Возможно, старая дама была очень мудрой женщиной и считала одиночество великим сокровищем, на поиски которого почти никто не отправляется по доброй воле, а может быть (увы, это больше похоже на правду), она, как многие старые девы, испытывала смутное отвращение к чужому семейному счастью…
3. Кхун Болом
…Чтобы предохранить небеса от докучливости людей, он перерезал мост из ротана, соединявший небо с землей.
Вилла Вальдефокс – своего рода «райский сад», приспособленный к нуждам одухотворенных курортников; усовершенствованный небозаменитель для тех, кого утомила сила земного притяжения. Но воспользоваться этой благодатью можно лишь ненадолго. Плата за вход – грядущее изгнание, с коим большинству стипендиатов бывает нелегко примириться.
Сюда приезжают на месяц, два, максимум – три, не больше. Потом новые жильцы сменяют прежних, и только мы с Франком (иногда я начинаю опасаться, что старик вполне способен разглядеть в темноте мои неопределенные контуры, а порой мне кажется, что он еще менее реален, чем я сам) остаемся в этом доме. По большому счету, нам обоим просто некуда больше деться: земля нас не носит, а мост, соединяющий землю и небо, разобран на хрустальные кирпичики (те, в свою очередь, истолчены в ступе, сверкающий порошок развеян по ветру, а ветер давно уже утих). Нас с Франком эта невеселая новость тоже касается, так-то.
4. Кшитигарбха
В Индии Кшитигарбха изображается сидящим, его правая рука касается земли, а левая держит лотос вместе с древом желаний.
В ту зиму господа из магистрата вдруг решили возвести экономию в добродетель, и после Рождества количество стипендиатов сократилось чуть ли не втрое. Я был им благодарен: пока не станешь призраком, не поймешь, что главный недостаток живых людей – их количество.
Не то чтобы прежние жильцы виллы мне действительно мешали, но в первые дни января я вдруг почувствовал себя – как бы это сказать поточнее? – почти живым. Сны еще не покинули меня, но их разноцветный туман все чаще рассеивался. Иногда мне казалось: еще немного и я смогу покинуть свое уютное кресло. А что, отправлюсь бродить по окрестностям, пугать осмелевших белок, сверять собственные грезы с наличной действительностью. Обманчивые воспоминания об узорчатых лакированных листьях вечнозеленых кустарников, ветхих туманностях прошлогодней травы и влажном гравии узких тропинок, оплетающих холм, преследовали меня столь же неотвязно, как и смутные надежды на грядущее путешествие по саду.
Я стал томиться. Память – неужели именно память?! – подсказывала, что это ощущение сродни жажде; мне понадобилось немало времени, чтобы понять: я не просто предполагаю возможность прогулки, а хочу, чтобы она состоялась.
«Я хочу» – до сих пор словосочетание сие было мне без надобности; дело ограничивалось общим, поверхностным, приблизительным представлением о его смысле. Теперь я на собственном опыте узнал, что такое желание: душевный зуд, телесная смута, бесславное бегство ума из «здесь-и-сейчас» в воображаемое будущее. Морок.
Сладостный, впрочем, морок.
5. Кырк Кыз
В мифологии каракалпаков Кырк Кыз – девы-воительницы ‹…›. Они живут на острове общиной…
В довершение ко всему, я вдруг обнаружил, что обитательницы виллы мне чрезвычайно нравятся. Впрочем, «нравятся» – не совсем удачное слово. Симпатия, которую я испытывал к трем женщинам, чьи звонкие голоса то и дело извлекали меня из-под тяжкой, удушливой перины грез, была сродни детской влюбленности, самой поэтической разновидности этого чувства, не обремененной ни желаниями, ни надеждами, ни планами на будущее.
Я любовался ими, томимый той же бескорыстной сладкой тоской, какую испытывали они сами, когда замирали на веранде, завороженно вглядываясь в призрачные очертания гор на горизонте, и стакан с ненужным больше коктейлем выскальзывал из пальцев. Печальная трель, рождавшаяся в момент соприкосновения тонкого стекла с каменным полом веранды, болезненно отзывалась в моем сердце и кружила голову почище, чем колокольный перезвон в воскресное утро. (Господи, сколько стаканов разбили эти зачарованные принцессы всего за две недели!)
Их было три. Эти женщины отличались друг от друга столь разительно, что избитая метафора «как день и ночь» кажется мне совершенно неуместной. К черту времена суток! Они разнились, как сталактиты, созревающие в темноте подземелий, и северное сияние, которого я никогда не видел; как краткий отчаянный крик испуганного ребенка и медленное погружение в воду горячего источника, бьющего среди иссиня-черных лавовых полей на острове Исландия; как холод рыбьей чешуи и сладкий вкус рассыпчатого свежеиспеченного кекса, как…
Стоп, заигрался.
Одним словом, женщины были разными – настолько, что иногда я сомневался, что они принадлежат к одному биологическому виду.
6. Кэшот
Наиболее часто воплощается в образе слона или огненного пламени.
Самую юную обитательницу виллы звали Лизой. Ей было лет двадцать пять, не больше. Маленькая толстушка, широкобедрая, как изображения ассирийских богинь. Но ее полнота не покоилась на приторно-прочном фундаменте, сложенном из ленивой ненависти к окружающему миру и пристрастия к пирожным, а посему казалась совершенно естественным, неоспоримым достоинством. Лиза была до краев переполнена жизнерадостной внутренней силой, избыток которой требовал вместительного сосуда, поэтому природе поневоле пришлось создать ее толстушкой. Шаровая молния, сгусток тепла, солнечный зайчик с коротко стриженой круглой головой и большими миндалевидными глазами цвета молочного шоколада. В тот день, когда она поселилась на вилле, ртутный столбик уличного термометра резко рванул вверх. До Рождества он преданно облизывал нулевую отметку, но теперь у нас установилось стабильное «плюс 10» – уж я-то отлично знал, кого должны благодарить обитатели близлежащего городка Шёнефинга за столь ранний приход весны!
Лиза с удовольствием прислушивалась к щебету птиц и изливала свою восторженную любовь на соседских собак, коров, лошадей и прочую домашнюю живность; она пришла в отчаяние, когда от домашних гусей смотрителя Франка осталась неопрятная кучка костей и перьев. «Фукс из леса пришел, обедал, тут зимой всегда много лисиц, которые ищут свой ленч», – старательно коверкая английские слова, объяснял ей старик. (Франк почему-то никогда не говорит с постояльцами по-немецки; даже с теми, кто отлично владеет его родным языком, он предпочитает изъясняться на жуткой смеси всех мыслимых и немыслимых наречий, а в качестве масла, которым он щедро смазывает свои причудливые монологи, используется до неузнаваемости изуродованный английский.) Лиза не пожалела слез, чтобы оплакать грузных серых птиц; она не стала вспоминать, что при жизни покойные обладали убогим авторитарным разумом и склочным характером. На долю каждого погибшего гуся досталось по несколько дюжин теплых слезинок. Но ее взгляд всегда равнодушно скользил по мерцающей чешуе аквариумных рыб; она брезгливо косилась на лягушек и боялась змей: существа с холодной кровью казались ей чужими и, возможно, враждебными.
Лиза была писательницей из Лиссабона, начинающей, но, очевидно, успешной. Из бесконечных разговоров, которые не стихали по вечерам на веранде, я узнал, что стипендию мюнхенского магистрата для Лизы выхлопотал ее немецкий издатель. Чего я никак не мог себе представить, так это Лизу, часами неподвижно сидящую над клавиатурой. Она и за завтраком-то никак не могла дождаться окончания трапезы: забирала свою чашку с остывающим кофе и отправлялась в сад или убегала в свою комнату на последнем этаже, чтобы через две минуты вернуться назад, сообщить какую-нибудь пустяковую новость своим чинно жующим подругам и снова исчезнуть; ступеньки деревянной лестницы, привыкшей к степенным пожилым жильцам, каковых здесь до сих пор было подавляющее большинство, сварливо скрипели под ее крепкими резвыми ножками.
Но факт остается фактом: это непоседливое, как трехлетний деревенский карапуз, существо каким-то образом умудрилось начать и благополучно завершить как минимум одну книгу (в противном случае, совершенно непонятно, что же собирался издавать седой усатый двойник Дон Кихота, владелец книжного дома «Фрайман», которого я видел один-единственный раз, когда он собственноручно доставил на виллу маленькое чудо природы по имени Лиза).
Л
7. Ламия
Так как Гера лишила ее сна, она бродит по ночам. Сжалившийся над ней Зевс даровал ей возможность вынимать свои глаза, чтобы заснуть, и лишь тогда она безвредна.
Вторую женщину звали Юстасия. Она была фотографом из Праги. Я бы не взялся определить ее возраст. Порой мне казалось, что она совсем недавно закончила школу, а иногда – что ей около сорока. В этой женщине вообще не было ничего определенного; не только ее возраст, но даже пол временами вызывал сомнения. Когда она впервые появилась в холле, я принял ее за мальчика: высокая, худая, в мужской жокейской кепке с наушниками, в новеньких голубых джинсах, потертой куртке из тонкой коричневой кожи и тяжелых ботинках, с большим рюкзаком за спиной, она была похожа на белобрысого немецкого подростка – очень типичного! Я даже решил поначалу, что этот мальчик живет в поселке и подрабатывает, доставляя багаж гостей от железнодорожной станции, расположенной в пятнадцати минутах ходьбы от виллы, у подножья холма. Что ж, выходит, призраки тоже способны приходить к неверным заключениям…
Уже через час Юстасия вышла к чаю в жемчужно-серой шелковой блузке и черной юбке до пят, тщательно причесанная, с легким, почти незаметным макияжем и манерами светской львицы.
Очаровывать здесь было решительно некого; впрочем, я здорово сомневался, что она вообще способна кокетничать: Юстасия была амазонкой, Минервой, валькирией, но уж никак не одной из обольстительных дочерей Венеры. А прихорашивалась она исключительно для собственного удовольствия и еще «дабы не погрязнуть в свинстве» – по ее же выражению.
Юстасия считала до десяти, пропуская число «четыре», потому что еще в раннем детстве четверка внезапно показалась ей опасной – до такой степени, что она начинала отчаянно реветь, когда ей доставались сразу четыре конфеты. А повзрослев, Юстасия узнала, что в японском языке один и тот же иероглиф соответствует числу «четыре» и слову «смерть». «Черт, так я все-таки угадала!» – с мрачным торжеством Кассандры отметила она. С этого момента вся ее жизнь была подчинена одной-единственной цели: ускользать от смерти, пока это возможно, и даже некоторое время после того, как к восхитительному слову «возможно» прибавится коротенькая, полная отчаяния приставка «не».
К сверкающему объективу своего фотоаппарата Юстасия относилась с суеверной почтительностью дикаря: когда ей исполнилось двадцать девять лет, она заметила, что люди, чьи портреты ей удались, на этом свете подолгу не задерживаются. С тех пор она снимала только в моргах и на бойнях. Это принесло ей скандальную славу, неплохие деньги и некое подобие душевного покоя, – а большее ей все равно не светило.
Она не чуралась лжи, охотно прощала ее другим и снисходительно позволяла себе, справедливо полагая, что ложь делает жизнь зыбкой, как самодельные мостки над текущей водой, и увлекательной, как прогулка по этим мосткам, а правда иногда становится булавкой, на которой трепещет неосторожная бабочка.
Как все люди, вынужденные разглядывать окружающий мир из своего зарешеченного окна, вместо того чтобы прогуливаться под чужими окнами, Юстасия обладала даром смешить других, но сама смеялась редко. Ее смех вибрировал в диапазоне от густого бархата до пронзительного визгливого звона, и сумрачное тяжеловатое лицо в эти мгновения преображалось до неузнаваемости. «Есть вещи, которые я люблю, есть вещи, которые я ненавижу, и иногда они меняются местами», – как-то сказала она, и тогда я понял, что эта женщина весит меньше, чем мои сны…
8. Лейкпья
…Когда Лейкпья улетает, знахари стараются ее поймать, предлагая ей дары.
Алиса, искусствовед из Лондона, была самой старшей в этой компании. Ее кудри уже серебрились сединой, но у нее хватало достоинства и здравого смысла не прятать глубокие морщины под толстым слоем грима: Алиса демонстративно презирала декоративную косметику. Она умела наслаждаться звучанием слова «безнадежно» и одевалась с непринужденной небрежностью молодой девушки. Ее короткие юбки, похожие одна на другую, как красные кленовые листья, открывали изумленному миру потрясающей красоты ноги.
Алиса жила в ладу со своим именем. Я легко мог представить ее в качестве участницы «безумного чаепития» или «королевского крикета»: вечная блуждающая улыбка свидетельствовала о том, что Алиса вполне способна – не намеренно, а исключительно по рассеянности! – оказаться в Зазеркалье, на мгновение приняв гладкую поверхность зеркала за дверь, ведущую в столовую.
Она была погружена в себя – не в свои мысли, мечты или воспоминания, а именно в себя, и существовал только один способ выманить ее из этого убежища, схожего не с каменным панцирем черепахи, а с хрупкой и неброской раковиной улитки: разбудить ее любопытство, дружелюбное и требовательное, как у ребенка. Мир должен оставаться забавным и разнообразным, если хочет, чтобы Алиса поддерживала с ним дипломатические отношения, – вот так-то.
Ее походка была легкой, как у привидения, она любила забираться в кресло с ногами, сбрасывая туфли, о которых вскоре забывала, и уходила в свою комнату босиком. Так что маленькая Лиза, в первый же день взявшая под опеку всех своих новых подружек, то и дело вприпрыжку мчалась через холл, размахивая черными лодочками Алисы, и громогласно сообщала этому неземному существу, что бродить по дому в одних чулках в середине января не следует.
Алиса знала, что пустые обещания пахнут пылью, как тряпье в шкафу умирающего старика, и умела безошибочно распознавать этот тлетворный аромат. Она любила неодушевленные предметы больше, чем ненадежные подвижные порождения органической материи. Радовалась мелким подаркам: нефритовой пуговице, глиняному кувшинчику, крошечной стеклянной фигурке зебры, но оставалась равнодушной к букетам живых цветов. Шумно изумлялась, что белые ягоды на жестких оголенных ветвях кустарника почти столь же прекрасны, как холодные опаловые бусины. Украдкой гладила старинные каменные перила террасы и равнодушно отворачивалась, когда завороженные ее безразличием белки спускались на нижние ветви деревьев, настороженно поблескивая влажными искорками глаз.
Ее очарование было неотразимо и тревожило разум, как клубы дыма от костра, разведенного в конце долгих зимних сумерек на заброшенном пустыре.
9. Лиса
Широко распространены истории о превращении лисы в человека. ‹…› В китайской и японской традициях рассказы о лисе обнаруживают совпадения с европейскими историями о суккубах, инкубах, роковых невестах и т. п.
Никаких иных жильцов на вилле не было. Но в хрониках тех смутных январских дней фигурирует еще одно действующее лицо.
Франк говорил правду: «фукс» действительно приходил из леса. Вернее, приходила. Лиса была именно лисой, а не лисом: под густым мехом цвета красной охры билось женское сердце, и все прочие лисьи потроха находились в полном соответствии с требованиями женской природы.
Другое дело, что к исчезновению наших гусей рыжая лазутчица не имела решительно никакого отношения. Не в поисках пищи слонялась она по саду. Эта лиса вообще не слишком интересовалась пропитанием. Поесть она могла и наяву.
Да, именно.
Одни люди спят и видят сны; с другими же сны случаются. Становятся происшествиями, настолько достоверными, что, при желании, всегда можно отыскать свидетелей собственных ночных похождений. С нашей гостьей именно так и обстояло: когда ей снился сон, что она превратилась в лису, ее рыжий хвост мелькал среди деревьев.
Итак, пища лисе не требовалась. Куда больше ее занимала моя персона. По ночам рыженькая подкрадывалась к веранде, толкала лапкой застекленную дверь – вотще. Дверь всегда оказывалась запертой. За этим следил Франк: старик ежевечерне совершал обход дома, погромыхивая связкой медных и оловянных ключей. На первый взгляд, его возня походила на ритуал, предназначенный для развлечения заскучавших жильцов, однако Франк свое дело знал. Ни единой лазейки не оставлял он незваным ночным гостям.
Вот и лисичка моя сердито поскуливала на пороге. Я откуда-то знал, что она пришла именно ко мне, но впустить ее не мог: манипуляции с дверными замками были мне в ту пору не под силу, я и кресло-то свое покинуть не умел, даже о возможности такой не догадывался.
Лисичка уходила, разочарованно тявкнув напоследок; я же прикрывал подслеповатые глаза прозрачными веками и размышлял о таинственной цели ее визита. Упивался надеждой, что, дескать, однажды бдительный старик забудет запереть стеклянную дверь, и чудесный зверек проскользнет на веранду, юркнет в холл, забьется под мое кресло, а то и на колени вспрыгнет, превратится в прекрасную незнакомку, как это у них, лис да барсуков, заведено, и тогда я наконец узнаю, что за дело ей до меня, невесомого и почти несуществующего…
Пока я мечтал, лисичка требовательно царапала коготками дверь флигеля, где обитал Франк. Не добившись успеха, вспрыгивала на подоконник и умильно взирала на старика медово-желтыми очами. Всерьез полагала, будто ее лукавое очарование подействует на нашего строгого ключника и он наконец впустит ее в дом. Франк же лишь посмеивался в седые усы, да вертел связку ключей на смуглом морщинистом пальце – дразнился.
– Что ж ты пешком пришла? – спрашивал насмешливо. – Прилетай, тогда и поговорим.
Это был удар ниже пояса. Она и сама предпочла бы видеть сны о том, как превращается в птицу. Но такие видения пока обходили стороной ее изголовье.
10. Лопамудра
…не найдя достойной его женщины, он создает девочку необычайной красоты и ума по имени Лопамудра (от lopa, «потеря», и mudra, «знак красоты»), заимствуя у каждого живого существа лучшее, что в нем есть.
Убедившись, что проникнуть в дом ей не по силам, лиса устраивалась в густом кустарнике, выбирая местечко поближе к веранде. Сворачивалась клубочком. Слушала болтовню женщин. Покусывала кончик собственного хвоста от досады, что не может присоединиться к их беседе. Незнакомки казались ей почти сестричками, все трое. Лиса (женщина, которой снилось, что она превратилась в лису) то и дело узнавала в них себя. Словно была мозаикой, составленной из фрагментов их настроений, поступков, реплик, жестов и поворотов головы. Лисе хотелось прильнуть к их ногам, потереться, приластиться, чтобы скрепить телесным прикосновением смутное, неосязаемое душевное родство. Но в этих снах о доме с башенкой на вершине холма ее желания не имели никакого значения…
Пробуждаясь, она всякий раз разочарованно вздыхает: опять ничего не получилось. Но губы тут же складываются в мечтательную улыбку: не сегодня, значит потом, чуть позже. Когда-нибудь. Предначертанное всегда исполняется, поэтому нужно лишь подождать. Закрыть глаза и сосчитать до ста, как в детстве, когда хотелось ворваться в комнату, где родители наряжали новогоднюю елку: перечисление порядковых номеров от единицы до сотни было чем-то вроде входного билета и немного скрашивало ожидание. Совсем чуть-чуть.
11. Лу Бань
…когда Лу Баню минуло сорок лет, он удалился в горы Лишань и изучал секреты магии.
– А мне у Сэлинджера больше всех нравился другой рассказ, – доносится до меня тихий голос Алисы. – Там парочка уединилась в постели, и тут мужчине звонит муж любовницы, долго и сбивчиво жалуется на жену, которая уже давно его не любит, вот и сейчас, дескать, куда-то исчезла после вечеринки. Тот его утешает, говорит: «Не беспокойся, выпей, ложись спать, она наверняка уехала с друзьями пропустить по стаканчику и скоро объявится». Рогатый муж кое-как успокаивается и прощается, любовники принимаются смущенно обсуждать ситуацию, а через несколько минут телефон звонит снова. Это опять муж женщины, он с облегчением сообщает, что она вернулась. И все. Представляете?! Я потом еще долго надеялась: а вдруг какая-нибудь добрая душа уже «вернулась» домой вместо меня, и, значит, мне… – она осеклась и умолкла.
– И, значит, тебе возвращаться необязательно, – в тишине голос Юстасии звучит, как приговор.
– Ну да, – задумчиво соглашается Алиса. – Лучшее, что может сделать женщина за сорок – исчезнуть, оставив вместо себя мало-мальски пристойного двойника… Только ничего не получалось. Я всегда приходила домой, и никого похожего на меня там не обнаруживалось.
Они еще какое-то время щебечут на веранде, их голоса убаюкивают меня, и я снова погружаюсь в зыбкую разноцветную реальность обманчивых воспоминаний о жизни какого-то смешного мальчика по имени Макс. Пока я сплю, подразумевается, что я – это он и есть…
12. Лха
В тибетской мифологии божества, обитающие в небе. ‹…› Лха бытия возник в результате взаимодействия двух цветов – желтого мужского и голубого женского.
На сей раз пробуждение сопровождалось весьма интенсивными ощущениями – не сказал бы, что они показались мне приятными. Зато я сразу понял, на что это похоже.
Однажды очень давно (или этого вовсе не было?), когда я учился в десятом, кажется, классе средней школы (надо же, какие интересные подробности!), я всерьез разругался с родителями и временно поселился у своей старшей сестры. Ее пятилетние близнецы, мои, стало быть, племянники, обожали по утрам забираться ко мне в кровать и щекотать меня, пока я не проснусь. Этакий беспощадный «биологический будильник». Так вот, мои теперешние ощущения здорово смахивали на те, давно забытые. Только ни постели, ни одеялу с подушкой не нашлось места в моей странной жизни: я снова сидел в красном кресле, к которому так привык, что считал его почти неотъемлемой частью своего зыбкого тела.
Разумеется, никаких племянников поблизости не обнаружилось, и вообще никого не было рядом – ни в просторном холле виллы Вальдефокс, ни в общей столовой, ни на веранде, ни в темном коридоре, ведущем на кухню. Ничего удивительного: стояла глухая ночь, самое тихое время, когда неугомонные полуночники уже отправляются спать, а «жаворонки», привыкшие вставать задолго до позднего зимнего рассвета, досматривают свои сновидения, второпях, как последние страницы каталога дешевого универмага, которому суждена медленная и мучительная гибель в помойном ведре.
Щекотка тем не менее была самой настоящей. Я-то, грешным делом, уже забыл (или никогда не знал?), сколь интенсивные ощущения приходится испытывать живым людям, поэтому поначалу совершенно очумел – нечто в таком роде могло бы случиться разве что с мумией египетского фараона, если бы на беднягу вдруг обрушился приступ зубной боли. Шок, впрочем, прошел довольно быстро, но к тому моменту во мне уже произошли некие таинственные необратимые изменения.
Начать с того, что я вдруг испытал непреодолимое желание потянуться, размять затекшие конечности и чуть не заорал от удовольствия, когда сладко захрустели все мои суставы. Секунду спустя я понял, что не просто как следует потянулся, а выпрямился во весь рост, встал на ноги, так что овеществившаяся наконец задница тут же утратила возможность соприкасаться с красной обивкой кресла. Это было восхитительно – как любая перемена участи; в то же время я испугался так, что в глазах потемнело. Страх сам по себе тоже был новым ощущением: свежим, волнующим и, что уж скрывать, по-своему приятным, хвала адреналину!
Стоило мне покинуть кресло, и волна удивительных перемен захлестнула – то ли меня, то ли темный холл виллы, а вместе с ним и весь остальной мир. Я быстро выяснил, что темнота теперь обладает свойством скрывать от меня очертания предметов – прежде, пока я сидел в кресле, у меня не возникало подобных проблем, я отчетливо видел каждую паутинку в самом дальнем углу под потолком. А когда я зажмурился, меня окружила вовсе уж непроницаемая темнота – и так, оказывается, бывает! Я сжал руки в кулаки, потом разжал, изумляясь тому, какая дивная симфония разнообразных физических ощущений сопровождает сие незамысловатое действо.
Но проклятая щекотка – то, что я поначалу счел щекоткой – не давала мне сосредоточиться на упоительных экспериментах. Теперь этот своеобразный зуд больше походил на страстное желание сделать что-то весьма конкретное… но вот что именно?
По истечении нескольких мучительных мгновений я вдруг понял, что должен покинуть холл и подняться наверх по лестнице. Я еще не знал, куда именно мне следует попасть, и уж тем более – зачем; но был совершенно уверен, что пойму это по дороге. В любом случае я не мог оставаться на месте. Щекотка уже извлекла меня из кресла и теперь гнала вверх по лестнице, пролет за пролетом. На бегу я вдруг подумал, что нечто похожее, наверное, испытывают сказочные джинны, когда очередной повелитель начинает неистово тереть медный бок старой лампы, и громко рассмеялся – не потому, что мое открытие действительно было таким уж смешным, а просто от переизбытка сил, которые надо было как-то расходовать.
Я миновал три этажа, на которых располагались жилые помещения. Над последним этажом были надстроены своего рода антресоли, заставленные книжными полками. Я взобрался туда по узенькой деревянной лестнице, такой шаткой и скрипучей, словно чиновники мюнхенского магистрата устроили здесь своего рода ловушку для любопытствующих гостей и теперь с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь неосторожная полузнаменитость свернет себе шею и будет погребена под обломками рухнувшего сооружения. Но я несколькими длинными прыжками преодолел шаткие ступеньки и с восторгом ученого, совершившего эпохальное открытие, замер перед низенькой белой дверцей. Тело расслабилось в предвкушении последнего рывка к неизвестной пока, но, безусловно, единственно важной в тот момент цели. Я твердо знал, что за этой дверью меня ждет… какая разница, что именно?! Что-то. Ждет. Меня. Надо же!
Дверь не была заперта на замок – впрочем, не думаю, что меня бы это остановило. Переступив порог, я оказался в полной темноте, левая рука инстинктивно начала шарить по стене и сразу же наткнулась на выключатель. Где-то очень высоко вспыхнула тусклая лампочка, и я увидел, что стою перед очередной лестницей. На сей раз лестница оказалась узкой, закрученной причудливой спиралью, с толстыми корабельными канатами вместо перил. Преодолев сорок две изогнутые ступеньки, я оказался в маленькой комнате, освещенной бледным пламенем одной-единственной свечи.
Когда я вошел, все окна в комнате с грохотом распахнулись, стекла жалобно задребезжали, и порыв ветра чуть не сбил меня с ног, но я устоял. Свеча тут же погасла, я услышал, как катятся по деревянному полу какие-то мелкие предметы, а потом раздалось одно-единственное звонкое «Ой!», произнесенное женским голосом – хорошо знакомым мне голосом, к слову сказать. Обитательницы виллы Вальдефокс были здесь, вся троица, но пискнула только Алиса.
– Это просто сквозняк, – наконец сказала Юстасия. Ее голос звучал не слишком уверенно и не столь спокойно, как ей наверняка хотелось бы. Она взяла свечу, чиркнула зажигалкой, и теплый оранжевый свет снова озарил помещение.
– А это тоже сквозняк? – нервно рассмеялась Лиза, тыча в меня пухленьким указательным пальчиком.
– Это не сквозняк, а посторонний мужчина, – тоном школьной учительницы объяснила Алиса.
– Смотритель? – неуверенно предположила Лиза.
– Нет, Франк другой. Он же старенький совсем, – возразила Юстасия. – Неужели ты забыла, как он выглядит? – И требовательно спросила меня: – Вы кто? Только не вздумайте сказать, что вы местный маньяк-убийца. Мы тут и сами… те еще маньячки! – и она неожиданно расхохоталась, закрыв лицо руками.
– Возможно, вы будете разочарованы, но я действительно не маньяк, – вежливо сказал я, удивляясь тому, как странно, оказывается, звучит мой голос. – И даже не посторонний мужчина. Кажется, я здешний призрак. Хотя я уже сам ни в чем не уверен…
Ветер тем временем утих, но не прекратился вовсе, а притаился в углах, словно решил некоторое время посидеть спокойно, посмотреть, как сложатся у нас дела, а уж потом продолжать свою веселую, но разрушительную игру с хрупкими оконными стеклами.
– Вы не можете быть призраком. – Алиса старалась быть рассудительной. – Призраки бесплотны, а вы…
– А я – что? А, ну да… – я недоверчиво осмотрел свое тело (прежде мне было не до того) и с удовольствием убедился, что оно весьма похоже на настоящее. Впрочем, осмотр был пустой формальностью: разительная перемена моих ощущений являлась наилучшим доказательством вернувшейся телесности.
– Как вы все-таки попали на виллу? И зачем?
– Понятия не имею, – честно сказал я. – Сколько себя помню, я всегда сидел в красном кресле в холле…
– Никто там не сидел, – нерешительно возразила Лиза. – Во всяком случае, с тех пор как я приехала, я ни разу не видела, чтобы кто-то…
– Перестань, детка, – вмешалась Алиса. – И вы все тоже перестаньте молоть ерунду. Девочки, вспомните, о чем мы сегодня говорили! Почему невозможно заставить себя сесть в это проклятое кресло и все такое… И чем мы занимались, когда…
Я вдруг понял, чем именно они тут занимались, зачем им понадобилось среди ночи забираться под самую крышу, в башенку – единственное по-настоящему необитаемое помещение в доме. И почему они сидели при свече, и что за доска, наспех исчерченная буквами, лежит на полу…
– Спорю на что угодно: вы затеяли спиритический сеанс! Поздравляю вас с его успешным завершением, дорогие мои медиумы. Очевидно, я и есть ваша законная добыча.
– Но мы даже не успели начать. Мы только взялись за руки…
Все четыре окна захлопнулись с душераздирающим треском – оставалось удивляться, что стекла уцелели. Ночной ветер с торопливой настойчивостью слепого ощупал наши лица и свернулся клубком у меня в ногах. Он выжидал.
– О господи! – несчастным голосом сказала Лиза. – Честно говоря, я думала, что будет весело…
– А тебе что, скучно? – с характерным нервным смешком спросила Юстасия.
– Обхохочешься…
Я подумал, что надо бы немного разрядить обстановку. По всему выходило, что мое появление совершенно некстати, за кого бы меня ни принимали. Если подружки решат, будто я – просто посторонний мужчина… о’кей, тогда смотри длинный список закономерных рабочих гипотез: от маньяка-убийцы до тривиального квартирного воришки, и выбирай, какой пункт тебе по душе, бедняга! Порядочные люди крайне редко приходят в гости к прекрасным незнакомкам в четыре часа утра.
Если же дамы все-таки великодушно примут на веру теорию о моей, так сказать, мистической сущности… Люди, как правило, боятся призраков, даже взбалмошные барышни, коротающие досуг за спиритическими сеансами. Если разобраться, начинающие адепты столоверчения боятся призраков куда больше, чем среднеарифметический рядовой гражданин, порожденный химерами статистических выкладок. Смутная вера у них уже есть, а опыт, законный отец невозмутимости, еще отсутствует.
Я улыбнулся женщинам, стараясь вложить в эту улыбку все неизрасходованные запасы дружелюбия и нежности – единственное, что я мог противопоставить их настороженной взвинченности. Потом медленно подошел к одному из окон – тому, что выходило на юг, где линия горизонта взрывалась белыми брызгами далеких Альп, заснеженные вершины которых ежевечерне поливают прозрачным сиропом лунного света, и открыл его, неторопливо и осторожно: грохот и звон, которые, судя по всему, весьма по вкусу ветру, не способствуют созданию теплой доверительной атмосферы.
– Не надо открывать окно. Такой сквозняк…
– Это был не сквозняк, а ветер, – мягко возразил я. – он начнет дуть, когда захочет, окна тут ни при чем… Сегодня волшебная ночь, правда?
– Правда, – эхом повторила Алиса. Немного помолчала и спросила, испытующе заглядывая в глаза: – А ты действительно призрак?
– Ага, – подтвердил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и обыденно. – И вы сами это знаете. По крайней мере, чувствуете, что так оно и есть. А чему и доверять, если не собственным ощущениям – разве нет? В каждом из нас живет маленький мудрец, который всегда знает, что к чему, но ему почти никогда не дают высказаться… Так что все правда. По крайней мере, еще полчаса назад я действительно был призраком. Сидел в красном кресле в холле, дремал, а иногда просыпался и наблюдал за жильцами. В последнее время – за вами. Не сердитесь: не так уж много развлечений у призраков… Разумеется, я не знаю, чем вы занимались, когда отправлялись в свои комнаты, или уходили на прогулку. Только пока вы сидели в столовой, на веранде или проходили через холл… Замечу, что ваша беседа о Сэлинджере произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. Прежде я как-то не задумывался о том, куда пропал без вести первый Холден Колфилд…
– Подождите, – остановила меня Юстасия. – Вы читали Сэлинджера? Призраки читают книги? Вот это новость!
– Все не так просто. Большую часть времени я дремал, сидя в этом самом кресле, и мне снились сны. Разные сны. В некоторых снах я был настоящим живым человеком и жил довольно обычной жизнью: ел, гулял, зарабатывал деньги, веселился с друзьями, влюблялся, ходил в кино… И разумеется, читал книги. Очень много книг. Мне, знаете ли, снилось, что я – заядлый читатель… Если честно, я не уверен, что это были просто сны. Возможно – воспоминания. Как бы то ни было, моя память хранит информацию о том, что я читал Сэлинджера. А откуда взялись эти воспоминания, тут уж мне не разобраться… – Я с наслаждением вдохнул ароматный ночной воздух и улыбнулся: – Вы представить себе не можете, какое это удовольствие: быть живым человеком! Столько интересных ощущений… Взять хотя бы этот запах – господи, я уже забыл, для каких изощренных наслаждений создан человеческий нос!
– Что ж, тебе, в отличие от нас, есть, с чем сравнивать, – примирительно сказала Алиса. Мне с самого начала показалось, что уж кто-кто, а она относится к моим словам с полным доверием.
«Она старше всех и дольше всех жила в ожидании чуда, – подумал я. – Когда тебе пятьдесят, а никаких чудес в твоей жизни еще не было и вроде бы не предвидится, ожидание становится требовательным и неистовым, и разум готов в любую минуту уйти, обиженно хлопнув дверью… Так что она заранее была согласна поверить во что угодно, в том числе и в призрака, явившегося в разгар спиритического сеанса, – почему нет? Что ж, иногда доверчивость может оказаться мудростью – если очень повезет…»
– Что это? – вдруг спросила Лиза. Она сделала шаг в сторону окна и остановилась, не решаясь приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки. – Там кто-то поет?
– Где? – переполошилась Алиса. Юстасия замерла, прислушиваясь.
Я тоже напряг слух: до сих пор я был так увлечен разговором, что на другие вещи моего внимания попросту не хватало. Где-то очень далеко – на другом берегу озера Шёнзее, или в лесу, за полями для гольфа, или на небе – звучали негромкие высокие, но не женские и не детские, скорее уж бесполые, голоса. Они выводили какую-то очень простую, но чарующую и смутно знакомую мелодию – я не мог толком разобрать ее рисунок, слишком уж издалека она доносилась.
– Где-то я слышала эту песню. Но… Нет, не помню!
– Некоторые вещи кажутся знакомыми – не потому, что действительно встречались нам прежде, а потому, что… не знаю, как сформулировать… Наверное, они просто совпадают с ритмом, в котором стучит твое сердце, – сиплым, прерывающимся голосом сказала Юстасия. А потом заплакала – тихо и с каким-то странным наслаждением, не прогоняя с губ улыбку. Так плачут только очень счастливые люди – счастливые настолько, что традиционные способы изъявления чувств им уже не подходят.
– Так должны петь ангелы. – Алиса тоненько хихикнула, очевидно собственные слова показались ей слишком нелепыми, чтобы оставаться серьезной. – Маленькие белые пупсики с золотыми крылышками на верхушке рождественской елки…
И тогда снова подул ветер, но на сей раз он не стал бить стекла и грохотать оконными рамами. Он был нежен и предупредителен: убрал в сторону упавшую на глаза серебристую прядь Алисы, высушил мокрые ресницы Юстасии, ласково обернул яркий шарфик вокруг шеи Лизы. А потом добрался до меня и – я мог поклясться чем угодно! – затаился в моем рукаве до поры до времени…
13. Лэй-Цзу
Лэй-Цзу изображали с третьим глазом на лбу, из которого лился поток света.
– А с какой стати вам взбрело в голову вызывать духов? – спросил я, когда ветер утих. – Просто так? Или вы догадались, что на вилле… – я запнулся, поскольку не знал, как определить собственное присутствие в этом доме, и за неимением лучшей формулировки добавил: – Вы поняли, что здесь что-то водится?
– Нет. Наверное, все-таки нет. – Алиса хмурила брови, пытаясь сформулировать ответ. – Правда, меня одолевали странные предчувствия всякий раз, когда я проходила мимо твоего кресла, но они надо мной смеялись, – укоризненный взгляд на подружек.
– Кресло, однако, мы предпочитали обходить стороной, – покаялась Лиза. И смущенно спросила: – А можно тебя потрогать? – Она быстро оттаяла и теперь светилась от любопытства.
– Трогай! – рассмеялся я, протягивая ей руки. – Сколько угодно!
Она действительно прикоснулась к моему запястью и с видимым разочарованием сообщила остальным:
– Настоящий.
– Ага, – подтвердил я. – Уже настоящий. Не знаю, как вам это удалось, но… Так почему все-таки вы решили вызывать духов?
– Сложно сказать. Ну, по большому счету, мы просто развлекались…
– Довольно странное развлечение, – заметил я. – Не самое подходящее занятие для умных деловых женщин с высшим образованием. Вот если бы вы были юными фермерскими дочками или, скажем, пожилыми индианками…
– Индейками! – вдруг некстати развеселилась Юстасия, которая до сих пор поглядывала на меня исподлобья, с явным недоверием, словно прикидывала, сколько серебряных ложек и кошельков может поместиться в моих карманах.
Я невольно последовал за ее настороженным взглядом: до сих пор я так и не дал себе труда понять, во что одет. Ничего особенного на мне не оказалось: ни тебе длинного сверкающего балахона до пят, ни тебе залатанной средневековой рясы со следами засохшей крови, ни даже каких-нибудь завалящих вериг. Всего-то обмундирования: тупоносые замшевые ботинки, умеренно пижонская жилетка из толстой свиной кожи, синие джинсы не первой молодости и еще более древний свитер ручной вязки. Вероятно, он был рожден белым, но с тех пор многое переменилось.
– Я сама хочу понять, с какой стати нас угораздило… – теперь Юстасия добросовестно пыталась ответить на мой вопрос. – В последнее время у нас – у всех! – было очень странное настроение. Если ты действительно был призраком и слушал нашу болтовню, ты и сам мог заметить…
– Когда вы говорили, что с этой веранды можно пропасть в любой момент? И что именно поэтому в доме так тревожно и в то же время хорошо, как никогда еще не было, да?
– Да, и это тоже… Как раз сегодня вечером мы уже разошлись по своим комнатам, но никто не мог заснуть. Я зашла к Алисе, через пять минут к нам постучалась Лиза. Мы решили было вернуться на веранду и выпить еще по коктейлю… А когда мы собрались вместе, стало ясно, что очередной коктейль под звездным небом – слишком банально. Хотелось чего-то необычного. И поскольку ни у кого из нас не нашлось мази, замешанной на белладонне, чтобы немедленно отправиться на Лысую Гору…
– В конце концов мы поднялись сюда, в башенку, – подхватила Алиса, – благо это единственное мало-мальски зловещее место в доме! А поднявшись, вдруг решили попробовать вызвать духов. Дух лорда Байрона или, к примеру, короля Людовика Баварского, раз уж нас занесло в его излюбленные места… Все равно кого, лишь бы вызвать. И спросить у них, что с нами происходит и что нам следует делать дальше. Видишь ли, мы все трое, не сговариваясь, вдруг поняли – вернее, почувствовали! – что вернуться домой и продолжать жить как ни в чем не бывало… Это будет просто ужасно! Все равно что продать бессмертную душу и тут же пропить деньги… Да знаю я, знаю, что говорю глупости. Не знаю только почему. Мне трудно объяснить…
– Самое дурацкое в этой истории, что никто из нас понятия не имел, как именно следует вызывать духов, – буркнула Юстасия. – Только Алиса занималась этим, когда-то очень давно, еще в школе…
– То есть лет триста назад, – усмехнулась Алиса.
– А я слушала рассказы своей старшей сестры. Когда она училась в колледже, они там часто устраивали спиритические сеансы, – вмешалась Лиза. Немного помолчала и добавила: – Только я всегда была уверена, что она врет!
– Наверняка она привирала, – заверила ее Юстасия. – Знаю я, как это бывает: сама такая…
– Посмотрите, – вдруг воскликнула Алиса. Костяшки ее пальцев бились о стекло, как ночные бабочки, заплутавшие в лабиринте человеческого жилища, а голос изготовился сорваться на визг. – Посмотрите в окно! Там… Там совсем другая ночь. Там теперь все иначе!
Наша беззаботная болтовня умерла мгновенно, без мучений – просто оборвалась, как лопнувшая струна. Я прижался лбом к холодному стеклу. Женщины окружили меня, они стояли так близко, что я слышал взволнованный перестук их сердец. Темнота за окном действительно изменилась. Она больше не была уютной темнотой сада, ночной покой которого очерчен размытым кругом голубого света далеких огней. Теперь нас окружал лес или огромный запущенный парк, и его тьма была рыжевато-зеленой, как пучок только что извлеченных из воды морских водорослей. Не осталось ни ограды, ни фонарей у подножия холма, ни леденцовых точек светящихся окон в городке за озером. Лишь диковинная зеленоватая луна кое-как освещала незнакомый пейзаж, приглядевшись к которому, я понял еще кое-что: совсем недавно мы находились высоко над землей, в башенке, над крышей большого старинного дома, а сейчас густая трава (откуда взялась такая свежая трава в январе?) росла на расстоянии всего-то полутора метров от подоконника.
– Действительно, совсем другая ночь, – подтвердила Юстасия. Ее сердце почти остановилось, голос угасал, как ветер в июле, а глаза, напротив, разгорались пугающим пламенем, таким же зеленым, как свет незнакомой луны, и еще более холодным.
– Эта ночь родилась из нашего бормотания, мы приворожили ее, и теперь она будет всегда, – вдруг торопливо зашептала Алиса. – Если бы не было нас, не было бы и ее. Женщины делятся на тех, кто может родить человека; тех, кто может родить чудовище; и тех, кто не может породить ничего, кроме ночи. Первые обычно исполняют свое предназначение и уходят туда, откуда пришли, спокойные и опустошенные; вторые редко решаются принять такую судьбу и тонут в омуте собственных снов, а в существование третьих не верит никто, даже они сами. Но это не имеет никакого значения: ночь все равно рождается, когда приходит ее время…
Никто не удивился ее словам. Их приняли как должное, не придавая, впрочем, особого значения: не до того было. Ветер, до поры до времени притаившийся в моем рукаве, выбрался наружу, и оконные стекла с восхищенным звоном, прозвучавшим как вздох облегчения, наполнили темноту сияющими брызгами осколков. Никто не поранился, лишь моя щека дернулась от одного-единственного внезапного ожога, я прижал к ней ладонь и невольно улыбнулся, обнаружив, что по пальцам стекает самая настоящая кровь, теплая, ярко-алая, солоноватая таинственная влага. Алиса первой вскочила на подоконник, глаза ее были прикрыты почти прозрачными веками, тонкие руки изгибались на ветру, как ивовые ветви, и в какое-то мгновение мне показалось, что она собирается танцевать, но она просто спрыгнула вниз, и густая трава бережно приняла ее невесомое тело.
– Идемте, – нетерпеливо сказала она нам, – чего вы ждете? – и торопливо зашагала в темноту, не дожидаясь своих подружек, даже не оборачиваясь. Только сейчас я заметил, что у этой женщины забавная подпрыгивающая походка, грациозная и нелепая, как у болотной птицы.
– Что происходит? – спросила меня Лиза после того, как алая юбка Алисы и светлые волосы Юстасии превратились в два смутных пятна, поспешно сливающихся с мраком новой ночи, – так тусклые разноцветные кляксы, последние следы недавнего света, медленно растворяются в темноте под закрытыми веками.
Храброе сердце Лизы требовало, чтобы хозяйка немедленно отправилась вслед за подругами, но ее круглые карие глаза блестели от слез, а рот мучительно приоткрылся, как у ребенка, задыхающегося под тяжким бременем ночного кошмара.
– Не бойся, это окно выходит на юг. Поэтому все будет хорошо.
Я и сам не знал, откуда взял сие нелепое утверждение, но тогда оно почему-то казалось мне единственным стоящим аргументом. Я помог ей взобраться на подоконник: для маленькой Лизы он был расположен слишком уж высоко над полом. А услышав, как шуршит под ее крепкими ножками густая трава, я, не раздумывая, последовал за женщинами, поскольку оставаться на вилле больше не имело никакого смысла.
14. Лю Хай
Лю Хай притворялся безумным ‹…›, пел и плясал.
Франк Хоффмайстер обошел пустой дом, старательно шаркая ногами: по его глубокому убеждению, именно такая походка приличествовала старику. Вообще-то ломать комедию уже не было нужды, но Франк предпочитал не выходить из роли: осторожность превыше всего. Время от времени он останавливался на пороге одной из опустевших комнат и с равнодушным любопытством разглядывал брошенные хозяйками вещи: повисшие на спинках стульев яркие блузки Лизы, несколько пар обуви, дисциплинированно выстроившиеся у двери Юстасии, неаккуратные стопки книг на полу спальни Алисы и дорожные чеки, разбросанные по полированной поверхности ее письменного стола. Удовлетворенно кивал, осторожно запирал дверь и неторопливо брел дальше, ступенька за ступенькой, все выше и выше, пока не добрался до низенькой белой дверцы, за которой не было ничего, кроме узкой винтовой лестницы с толстыми корабельными канатами вместо перил. Его руке не пришлось шарить по стене в поисках выключателя: Франк предусмотрительно захватил с собой длинную стеариновую свечу – белую с причудливым выпуклым узором, похожим на декоративные грозди синего винограда. Возни со спичками не предвиделось: свеча вспыхнула совершенно самостоятельно, как только нога в растоптанном домашнем башмаке нависла над первой ступенькой.
Через минуту Хоффмайстер уже был в башенке, к неудовольствию многочисленных паучков, которые только-только начали успокаиваться после недавнего вторжения шумных чужаков. Впрочем, с присутствием Франка маленькие трудолюбивые ткачи тут же смирились. В их кругу у старика была в высшей степени безупречная репутация: он никогда не рвал паутину и уж тем более не мог нечаянно ее поджечь: само понятие «нечаянно», подразумевающее некие случайные, неосознанные действия, было ему неведомо.
– Ишь ты, кружным путем пошли, через парк! – снисходительно усмехнулся старик, выглянув в одно из четырех окон – то самое, которое выходило на юг.