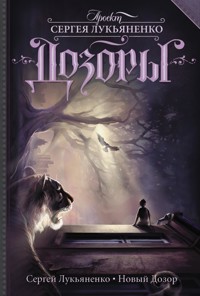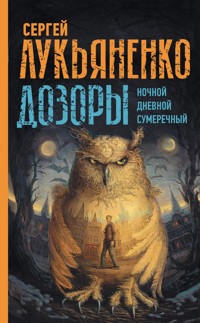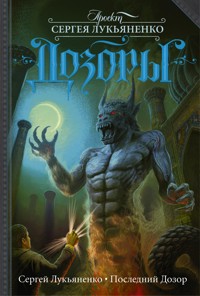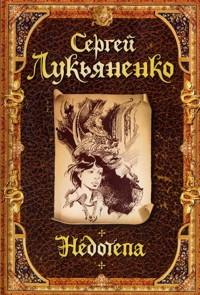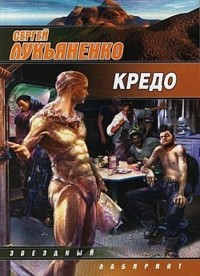Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Жанры
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Книги Сергея Лукьяненко
- Sprache: Russisch
Испытание — проверка моральных, духовных и физических качеств на соответствие идеалу. Авторы сборника "Испытательный срок" — и признанные мастера, и совсем молодые писатели-фантасты — подвергают героев своих текстов самым фантастическим испытаниям, как в настоящем, так в прошлом и будущем. Таким образом, предпринимается попытка найти ответ на вопрос: способен ли человек в нынешних непростых условиях выдержать испытательный срок на нашей планете.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Испытательный срок. Лучшая фантастика – 2025
© А.Т. Синицын, составление, 2024
© Коллектив авторов, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
Святослав Логинов Муромцы
– Малой, квасу подай! Печь жаркая, спасу нет. Изнылся весь, до чего пить охота, а тебя где-то нечистая таскает, не дозовешься.
– На кипень бегал за водой, а то и квас затворять не на чем будет. У нас так: часом с квасом, а порой и с водой. А кадушка с квасом, вона, на лавке стоит. Мог бы и сам дотянуться.
– Я те покажу – сам! Мне с печи слезать не можно, я должен силу богатырскую копить.
Илюшка вздохнул и сказал согласно:
– Давай, копи. Только кто тебя завтра кормить будет? Мне на пахоту пора. Овес ко времени не посеешь – без киселя останешься.
– Ильяна сготовит и подаст. А ты, смотри, Сивку в работу не запрягай. Испортишь мне коня богатырского, я с тебя голову сниму.
– А на чем орать прикажешь? На сохатом?..
– Да хоть на медведях. Включи сметку мужицкую, а меня оставь в покое. – Ильяш повернулся на бок, укрылся для пущего тепла тулупом и захрапел.
* * *
На пахоту Илюшка взял запретного Сивку. Коняшка добрый, работы не боится, а от овсеца не прочь. Ранняя пахота по непросохшей земле – дело непростое, но именно так сеют овес – хоть в воду, но в пору. Когда ноги вязнут, а плужок норовит свернуться набок, по сторонам не поглядишь. Недаром пашню под овес некоторые предпочитают орать не плугом, а сошкой. Внимание привлек крик. Илюшка отер локтем пот со лба и прислушался, а заодно и присмотрелся. К нему, сидя охлюпкой на молодой лошадке, приближалась Ильяна.
– Идут! Идут! – кричала она.
Кто может идти в нашу глухомань? За последние шесть с лишним тысяч лет, то есть с самого сотворения мира, сюда не забредал ни единый коробейник.
– Кто они и что им надо? – спросил Илюшка.
– Бутсерманы идут, повоевать нас хотят!
– Они что, умом повредились? Весь свет знает, что на нас нападать не след. Деревня наша богатырская, кого угодно побить можем.
– Была богатырская, а стала заболотная.
– Скажешь тоже, – возразил Илюшка. – По всем царствам слух идет, как наш Илья у них витийствовал.
– Так это когда было.
– Вот с тех пор и боятся. А что болота у нас топкие, так это чтобы вражьи лазутчики к нам не шастали.
– Но как проползет хоть один гаденыш, он своим ханам и бекам донесет, что у нас от всего богатырства только имена остались. В какой семье мальчишечка ни родится, его тотчас Ильей называют.
– Девочек, порой, тоже, – подначил Илюшка.
– И девочек тоже, – согласилась Ильяна. – А толку никакого. Илюшек полно лукошко, только богатырей не видно. Разве что Илюнька у нас богатырь. Ему мамка жёванку сунет, так он ее мутузит, ажно страшно смотреть.
– Илюнька – это сила, тут против слова не скажешь, только когда он в возраст войдет? Если сказки не врут, то настоящий Илья Муромец тридцать лет на печи сиднем сидел. А в наше время Ильяш сколько с печки не слезает? – лет десять, чуть больше. Но силы могучей в нем не заметно.
– Зато гонору у него, что у петуха в курятнике. Требует, чтобы его просто Ильей называли, как старого Муромца. А попробуй сказать: Ильяш – так он разорется, может и кочерыжкой запустить.
– Откуда у него кочерыжка?
– Я же и даю. Я капусту в щи шинкую, а кочерыгу Ильяше отдаю, пусть погрызет. Ему нравится.
– Хоть что-то Ильяш делает в охотку. А ты заметила, враги на нас идут, а мы стоим и лясы точим.
– Когда еще они к нам доберутся… Их войско сейчас через Нежинскую топь гать стелет. Дня три проваландаются, а то и всю неделю.
– Что же, пусть трудятся, а то старая гать вся расселась, там только свой пройдет, да и то не каждый день, а лишь по будням. А я тем временем овес досею, а опосля мы с прочими Илюхами бутсерманов встречать примемся, чтобы впредь им неповадно было. Ну а ты куда скачешь?
– Я на деревне уже всех предупредила. Бабы и старухи хозяйство ухичивают: что прикопают, что в лес свезут. Девки и молодки стадо отгонят на дальние кулиги, куда дед Ильян телят не гонял. Будут там беречь от насильников не то животину, не то свои животики.
Илюшка усмехнулся понимающе.
– А я, – закончила Ильяна, – как телят на новом месте обустрою, к вам вернусь, бутсерманов в разум приводить.
– Это тебе зачем? Воевать не девичье дело.
– Имя обязывает, – объяснила Ильяна.
На том и порешили.
* * *
Воинство бутсерманов двигалось поперек Нежинской топи. Рядовые реферы шли своим ходом, ведя коней в поводу. Верхом ехал только Хавбек хан. Обученный конь осторожно переступал по непрочному настилу.
Топь сменилась гнилым мокрым лесом. Чахлые ольшины, высокая колючая трава, никуда не ведущие тропинки, протоптанные дикими кабанами, все в этом лесу говорило, что людям здесь не место. Ко всему привычные реферы шагали, смахивая с лиц налипавшую паутину. Кони, как и прежде, шли в поводу; верхом в таком буреломье не быстрей, а только опасней, того и гляди останешься без глаз.
Кроме самого бека, на коня взгромоздился лишь один воин, который резко выделялся среди низкорослых реферов. Он прибыл из далеких закатных земель, желая, по его словам, сразиться со сказочным муромским силачом, а вернее, сразить его в поединке. Звался иноземный рыцарь Варвар Форд, или, попросту, Вардворд. Долговязая фигура его была сплошь закована в стальные доспехи, а двуручный меч и боевое копье, сгибаясь, тащил измученный оруженосец.
– Не понимаю, как здесь может кто-то жить? – кривил губы Форд. – Тут некого завоевывать, некого побеждать. Такие места могут населять одни свиньи. Пару раз можно сходить на охоту – и все.
Из зарослей ракиты выскользнул лазутчик. Варвар Форд не мог понять, каким образом ханские лазутчики умудрялись пробираться сквозь густотень, где без топора и шагу не сделаешь. Обычные реферы в лазутчики не шли, они не любили мелколесье, предпочитая степи. Разведчиков поставлял лесной народ, название которого Вардворд не мог ни запомнить, ни выговорить. Что-то вроде гольд-кипперов. Впрочем, хватит с них и просто гольдов. А так народец полезный, если не давать ему слишком много воли.
Гольд воздел к небу руки, показывая, что впереди что-то есть.
Казалось бы, спешенные реферы продолжают двигаться, как шли до этого, но внимательный взгляд замечал, что воины подобрались и готовы броситься в бой. Один Варвар Форд продолжал ехать как ни в чем не бывало. Фигура его маячила над кустами и была видна издалека. Конечно, следовало бы спешиться и не привлекать внимание возможного противника, но кто после этого помог бы Форду влезть на коня? Довольно того, что его усаживали верхом, когда кончилась гать.
Ракитник заметно поредел. Здесь, на опушке, он был чуть не нацело вырезан для плетения корзин. Молоденькие березки, пытавшиеся выбежать на сухое, были сведены на веники. Стараниями человека лес кончился, дальше начинался огороженный выгон, покосы, а за ними – пашня, где еще так недавно труждался Илюшка.
На пригорке безо всякого порядка были разбросаны избы, все добротные, под тесовыми крышами. Далее вновь тянулись распаханные поля, обширный луг, ждущий косарей, и за ним – снова лес, но уже не гнилое неудобье, как внизу, а настоящая дубрава, так что, глядя на нее, отчаянно захотелось бросить щит, копье и предаться благородному искусству охоты.
Совсем далеко виднелась голая вершина холма. Неизвестно, находилось ли что на ней, но глазам то было недоступно. Во всяком случае, ничего похожего на крепость, хотя бы огражденную земляным валом, там не было.
«На холме замок поставлю каменный, – размышлял Вардворд, – донжон на четыре разряда, чтобы местность обозревать. Титул получу: маркграф Муромский. Кнехтов найму, пообещаю им дворянские усадьбы; земля тут, по всему судя, отличная, а местное мужичье пускай на меня работает. Вот только что делать с косоглазыми? Сегодня они воюют за меня, а потом начнут мешать. От таких союзников придется избавляться».
Вардворд встопорщил усы, скрытые под забралом. Что еще делать, когда не бутсерманы служат будущему маркграфу, а он поступил на службу Хавбеку? Покуда приходится ждать и терпеть.
По рядам неслышно прокатился приказ: «Дома не жечь!»
Оно и понятно, гнус зверски изгрыз бусерманские тела, и очень хотелось хотя бы ближайшую ночь провести под крышей, куда мошка не пробирается.
Единым движением пешие воины взлетели в седло, и конная лава устремилась к беззащитной деревне.
* * *
– Как можно туже натягивай, да смотри, чтобы не треснуло, а то я тебе так тресну, надолго запомнишь.
– У меня не треснет. Это полозья для саней, я каждую сам выпаривал и скобелем проходил. Такие лаги не трескаются.
– Ага. Дуги гнет, не парит, сломает – не тужит.
Полозья для недоделанных саней были намертво закреплены между стволами двух неохватных дубов. Плотно свитая конопляная веревка с палец толщиной служила тетивой небывалому луку. Натянуть это сооружение руками не было никакой возможности. Не управился и послушный Сивка. Тогда ему поручили вращать колесо, снятое с канатного двора. Илейка, даром что малой, водил коня под уздцы. Окончательную доводку натяга предполагалось делать вручную.
– В просак не суйся! – покрикивала на коновода Ильяна. – Не ровен час, сыграет тетива, будешь до самой деревни лететь, до мамкиного дома.
В мирное время Ильяну на канатный двор посылали, бечевки крутить. Уж она знает, что приключается, если человек в просак попадет.
Из чащи выбрался дядя Ильяк, деревенский кузнец. Сейчас кузня стояла потушенная, и кузнец плотничал. Скинул с плеча охапку оструганных заготовок для стрел, каждую с добрую оглоблю. Подошел к готовому стреломету, пощелкал пальцем по туго натянутой бечевке. Веревка не задрожала, никакого отклика не было, словно по кирпичной стене щелкал.
– Дельно, – сказал Ильяк.
– Дядя Ильяк, – спросил Илюха, – как у нас со снарядом для лука? Хватит на хороший бой?
– Деревяшек настругано довольно. Девчата в лесу на стрелы оперение клеят. Лучшее перо – сорочье, но и воронье неплохо. Теперь птахи не скоро от войны оправятся. А вот наконечников стальных успел наковать шиш да маленько.
– Ничего, такой жердиной даже без копьеца можно человека ухайдохать.
Ильяк вышел на самую опушку и, укрывшись за крайним деревом, из-под руки оглядел деревню и окрестные поля.
– Что ж они в кустах хоронятся?
– Где? – спросил Илюха, бывший у лучников за старшего.
– Вона, идол железный торчит, слепой не проморгает. Остальные прячутся, но если присмотреться, то и они обозначатся.
– Теперь вижу. Ладно, пусть стоят на здоровьичко. Может, у них от гнуса заговор особый имеется.
– А что, дотуда твой самострел достанет?
– Достать-то достанет, но прицела нормального не будет. Пусть ближе подойдут. Ильяна, постой тут малость, пригляди за гостями.
Долго приглядывать не пришлось. Косматые всадники выплеснулись из-под защиты кустов и понеслись к деревне. Железный рыцарь, опустив копье, потрусил за ними следом.
– Заронят огонь, – простонал Ильяк, – никого живым не выпущу.
Обошлось без огня. Всадники, спешившись, разбежались по избам, но вскоре появились вновь, ничем не обогатившись. Лишь двое, ухватив под мышки, волокли пленника.
– Это же Ильяш! – ахнула Ильяна. – Забыли парня!
– Я его упреждал! – крикнул Илюшка.
– Тихо! – зашипел Илюха. – Разоретесь, враги услышат. Накладывайте стрелу, пока они болванчиками стоят!
Сивку отпрягли, Илюшка, Ильян и Илейка в шесть рук принялись вращать колесо, до невозможности натягивая тетиву. Ильяна с малой кияночкой в руке полезла под самый арбалет, подбивать клин, чуть заметно приподнимающий стрелу. Ильяна, конечно, девушка, но глазки у нее вострые, никто лучше Ильянки прицелиться не умеет.
– Стреляй! – прозвучал приказ.
Илюха взмахнул кияной, с одного удара выбив запор в основании стрелы. Басово думкнула тетива, стрела словно исчезла со станка. Муромцы, крепко усвоившие требование тишины, беззвучным шепотом закричали: «Ура!»
* * *
– Кто таков? – вопросил Хавбек хан.
Толмач, приведенный беком, переложил вопрос на гавкающий собачий язык муромских жителей.
– Я Ильей зовусь. Муромец я.
– Это и есть знаменитый силач? – Вордвард оглушительно захохотал. – Да он на ногах не стоит!
Вордвард шагнул вперед и резко ткнул железным пальцем в обвисшее брюхо Ильяша. Тот всхрюкнул и повалился набок.
– И что нам с этим прославленным батыром делать? – протянул Хавбек.
– Я думаю, его следует повесить, – посоветовал Вордвард.
– Нет! – вскинулся Ильяш, порываясь встать.
– Обоснуй, – неясно кому повелел хан.
– Я Илья Муромец, потомок знаменитого богатыря, – заторопился Ильяш и даже приподняться сумел, встав на колени. – Мой прадед тридцать лет с печи не слезал, силушку копил, а ваши обормоты меня с лежанки сдернули, хотя я всего десять лет отбыл. Вели им меня на место вернуть, и тогда я через двадцать лет вам всем покажу, каково на богатыря наезжать!
Хавбек смеялся, тряся тугим брюхом, которое ничуть не уступало таковому же у Ильяша.
– Ты забавник, – молвил владыка, отсмеявшись. – Тебя можно было бы взять в шуты, если бы тебя ноги держали. А так с тобой возможно поступить двояко. Посему повелеваем: если то, что нам поведал пленник, правда, то он подлежит немедленной смерти. Если же это ложь, в чем мы не сомневаемся, то за обман величества обманщика следует казнить. Теперь послушаем, почему негодяя должно именно повесить, а не, скажем, обезглавить или утопить в болоте.
– Он толст и очень слаб, – объявил Форд Варвар. – У него тонкая шея, она не выдержит веса жирной туши. Когда его повесят, она вытянется, словно у гусака. Полагаю, это будет до невозможности смешно.
– А на чем вешать? В этой дикой деревне даже виселицы нет.
– На воротах.
– Я вижу, ты знаток. Займись. Получится, будешь моим палачом.
Будущий маркграф Муромский презрительно усмехнулся, благо что под опущенным забралом усмешку невозможно заметить, и наклонился, желая схватить Ильяша за шиворот, но с отвращением отшатнулся.
– Да он обделался! Воняет до невозможности!
– Вешай, вешай! – усмехнулся Хавбек.
Варвар Форд выпрямился во весь рост, повелительно крикнул:
– Веревку на ворота через перекладину!
Словно в ответ раздался глухой удар. Возникшая из ниоткуда великанская стрела, которую можно было бы принять за копье, если бы не густое оперение, пробила латы, не способные защитить владельца. Отточенный наконечник на целую пядь вышел со спины. Вордвард покачнулся и грянулся на землю всеми сочленениями.
– Кто стрелял? Откуда? – голос бека сорвался.
– Вернее всего, били с дальнего холма, – подсказал толмач. – Это Карачарова гора – логово Ильи Муромца.
– Кто может стрелять на такое расстояние, да еще прицельно?! К тому же это не стрела, а что-то несусветное. Она по руке разве что Джабраилу!
– На такое расстояние способен стрелять тот, кто может метать стрелы такой величины, – строго произнес толмач.
Старик в рабском колпаке, он стоял на самом виду, ничуть не боясь таинственного стрелка. Что может угрожать рабу? Иное дело – хан Хавбек. Прятаться здесь было некуда, телохранители стояли в растерянности, не понимая, на кого бросаться, и не догадываясь, что следует прикрыть господина своим телом. Зато ханский конь стоял спокойно. За ним и укрылся великий завоеватель.
– Стрелять с горы вражий богатырь может, но проломиться сквозь лес ему не так просто, – произнес придворный мудрец, сопровождавший Хавбека в походе. – Мы вполне можем уйти из-под обстрела.
– Повелитель, прикажи, мы прорвемся сквозь чащу и принесем тебе голову врага! – командир ближней сотни взлетел на коня, сабля прочертила над головой огненный след.
В следующее мгновение герой кувыркнулся на землю, просаженный новой стрелой.
– Отходим, – быстро приказал Хавбек хан.
Реферы бежали, как привыкли завлекать ложным бегством противника, готовые в любую минуту развернуться и обрушить на врага тучу стрел. Но никто за ними не гнался, лишь трое отставших, которым поручили повесить Ильяша, попали под выстрел. На этот раз стрела оказалась без стального наконечника и не пропорола человека насквозь, но удар был так силен, что рефер упал, захлебнувшись кровью, хлынувшею горлом. Двое других бросили бесчувственного Ильяша и припустили следом за товарищами. Кони их скакали далеко впереди.
* * *
Муромчане не сразу вышли из укрытия. Только когда Ильюнь с вершины дуба свистнул по-соловьиному, что, мол, набежники по взаправде ушли, стрелки оставили боевую позицию.
Ильяк первым делом подошел к поверженным врагам, сорвал железные наконечники со стрел, затем без всякого почтения к убитым, упершись в тела ногой, выдернул древко.
– Добренно, – ворчал он. – Серьезно ничто не сломалось, прочее можно поправить.
Ильяна подбежала к лежащему ниц Ильяшу и всплеснула руками:
– Батюшки-светы! Да он, никак, помер со страху. Теперь только и остается портки его чистить.
Илюха оглядел поле несостоявшейся битвы, покривил губы над телом брата и скомандовал голосом, не терпящем возражений:
– Парни, у кого луки охотничьи есть, айда к старой гати, проводим дорогих гостей до самой околицы.
Луки нашлись, почитай, у всех.
* * *
Новая, неустоявшаяся гать ходила ходуном под ногами спешащего войска. Гольды и реферы, ближние телохранители, придворные мудрецы и поэты, которых хан неведомо зачем таскал за собой, бежали так, будто войско было разбито в жесточайшем сражении.
Хавбек хан торопился в самой середине своего смешавшегося войска. Породистого скакуна, на котором он въезжал сюда, бек потерял, путаясь в мокром лесу. В голове мудрого повелителя оставалась единственная вечно повторяемая не мысль, а сказка, какие вечерами кыпчакские матери рассказывают своим малышам:
«Есть на далеком севере за непролазными болотами Муромская земля. Населяют ее карлики-земледельцы, не знающие оружия и войны, и великаны, которых зовут муромцами. Великаны ленивы и просто так не выходят из топких болот. Но когда чужаки вторгаются на Муромщину и начинают побивать землепашцев, один из великанов встает и начинает творить расправу. Лук в его руках, каким только молнии метать. Вместо меча или палицы в его деснице вырванный с корнем дуб. Спасения от бешеного гиганта нет».
Странно, в самой глупой и несбыточной сказке непременно найдется зерно истины. К несчастью, зерно обнаруживается всегда слишком поздно.
Хавбек потряс головой, возвращая мысли к насущным делам. Что случилось? Враг идет по пятам, почему же они остановились?
– Дороги нет, – меланхолично заметил стоящий впереди гольд.
Хавбек оттолкнул дикаря, так что тот, не удержавшись, ухнул с настила. Следующие воины каким-то образом пропустили хана, и даже мимо коней Хавбек ухитрялся протискиваться, ухватившись за луку седла. Наконец он увидел, что случилось на его пути. Гать, которую только что уложили в болото, исчезла. Несколько дней назад реферы укладывали здесь свежесрубленные стволы, скрепляли их поперечинами и шли по ним дальше. Бревна ложились на плывун, хлипкое сооружение раскачивалось и грозило разойтись под ногами, но все же почти три сотни всадников сумели перейти на ту сторону топи. Как добираться назад, да еще с добычей, Хавбека не слишком заботило. Главное, не впасть в раж, не порубить всех поселян, а уж там пленники настелют новую дорогу, понадежнее прежней.
Однако случилось неожиданное: глупая сказочка обернулась страшной правдой, и войску, так и не вступившему в битву, приходится отступать по раздолбанной дороге.
Оно бы и ничего, но теперь даже такой, негодной дороги не стало. Плывун, содранный и измятый, уже не скрывал густой болотной жижи, а ведь прежде гольд-кипперы, нацепив огромные плетенные из лозы мокроступы, переползали по плывуну на тот берег. Постройка уничтожила плывун, раскрыв липкую бездну, прятавшуюся под ним. А теперь бревна, уложенные на моховой ковер, пропали. Ничего чудесного в пропаже не было. Можно было наблюдать, как несколько совсем не великанского вида людей оттаскивают очередной ствол, зацепив его арканом, едва ли не тем самым, на котором не успели повесить пленника.
Спрашивается, как эти люди проникли на ту сторону? Получается, что у них есть еще один путь, которым пренебрегли воины Хавбека.
Первым в ряду его людей стоял рефер, одетый в доспех из распаренных кабаньих клыков. На голове – стальная мисюра, в руке круглый обшитый кожей щит, густо утыканный вражескими стрелами.
– Что смотришь? – крикнул Хавбек. – Воин должен не укрываться, а нападать. Стреляй!
– Бесполезно, – ответил воин. – Отсюда может бить всего один человек, который стоит самым первым, а у них прорва стрелков в сухих камышах скрывается. Попробуй раскрыться – мигом убьют. А пока они не стреляют, припас берегут.
– Стреляй, кому говорят! – завопил хан. – Ты что же, так и будешь любоваться, как они разрушают дорогу?
Рефер опустил щит и вскинул лук. Выстрелить он не успел, десяток тонких охотничьих стрел вонзились в лицо, а боевой срезень ударил в горло, разом прекратив мучения. Ни одна стрела не прошла мимо, недаром говорят, что лесной охотник, выследив куницу, бьет ее из лука в глаз.
Расталкивая реферов, Хавбек поспешил назад. Уйти с поганого болота, где сгинет без следа любое войско, найти обходные пути, которыми пробрались муромчане. И вообще, не до края же земного круга тянутся топи. Нужно скорей вырваться из ловушки и больше никогда, никогда!..
– Дорогу! Дорогу! – крик прервал размышления полководца. Навстречу Хавбеку двигалась группа реферов, тащивших на плечах перемазанный илом древесный ствол. Никто и не подумал остановиться и встать перед владыкой на колени.
– Дорогу! – Впереди шагал командир второй сотни. Он расчищал путь для несущих бревно. И он же единственный узнал бека.
– Что здесь происходит?
– Гать, где мы недавно проходили, разобрана. В зарослях – вражеские лучники. Назад пути нет. Мы снимаем там настил и будем переносить его вперед, где ближе конец топи.
– Там тоже лучники!
– Это война!
Не обращая больше внимания на Хавбека, сотник двинулся вперед.
– По камышам – навесом! – командовал он. – Выкурить мерзавцев!
Нечистая сила, что же происходит? Навесом стреляют во время штурма городков и крепостей, чтобы поразить тех, кто прячется за частоколом или земляными валами. А тут – сухой прошлогодний камыш – и вдруг – стрельба навесом. Надо же такое придумать!
– Дорогу! Дорогу!
Ну вот, еще одну слегу тащат, перемазанные, как твари преисподние, лезут прямо на него, безо всякого почтения.
Хавбек пихнул первого носильщика, но в ответ последовал такой толчок, что хан не удержался на скользкой лесине и съехал в ждущую болотную густотень.
– А! Помогите!
Реферы с грузом прошлепали мимо, словно не им кричал господин. Так бегут по тропке муравьи: в одну сторону нагруженные соломинками, в другую – порожние. И никому нет дела до гибнущего владыки.
Ладони соскользнули с мокрого бревна, за которое не удалось зацепиться.
– Эй, кто там? Спасите!..
Грязная вода лезет в рот. На бревенчатом настиле полно народу, но у каждого свои заботы, никому нет дела, что гибнет повелитель. Повелитель – это тот, кто ведет войско к победе, а когда он бежит, не приняв боя, никто пальцем не пошевелит, чтобы выручить неудачника. Скорее уж сами реферы удавят бывшего повелителя. Повесят на воротах, чтобы полюбоваться, как вытянется его шея.
Темная вода сомкнулась, несколько пузырей всплыло на поверхность.
* * *
Боевой лук вооруженного всадника куда сильнее охотничьего лука, с каким ходят на белку, малую птицу и тому подобную живность. К тому же серьезных стрелков среди реферов куда больше, чем муромцев.
Реферы стояли на самом виду, то и дело кто-то из них падал в трясину и уже не появлялся на свет, но боевые стрелы, выпущенные наугад, летели и порой находили невидимую цель. Взмахнув руками, поймал грудью стрелу и упал навзничь Ильюн, тонко вскрикнула Ильяна, которой вражеский выстрел просадил плечо.
Илюшка ухватил раненую в охапку, потащил прочь от обстрела.
– Дура! Говорил тебе: не дело девке воевать…
– Ничо! Я троих набежников с тропы сшибла. А рана на живом заживет.
– Отходим! – протяжно крикнул кузнец Ильяк. – Кончайте геройствовать, лишних голов ни у кого нет.
– Так ведь уйдут недруги! – негодовал кто-то. – Вон их еще сколько на тропе топчется. Неужто позволим им уйти?
– Пусть бегут! – рявкнул Ильяк. – Пусть по всем землям разносят старую новость, что не оскудела наша земля богатырями и на всякого супостата найдется у нас свой Илья Муромец.
Елена Щетинина Сырость, валежник, песок и – пряности
20 июня 15 г. от Возвышения (нов. стиль) / 1914 г. (ст. стиль), вечер
ОЛЬГА
В гримерке Императорского театра было, как обычно, сыро. На мутных стеклах, выходящих на Новый Невский, застыли потеки испарины. Черная плесень за ночь вкрадчиво отвоевала себе еще вершок инкрустированных перламутром дубовых панелей. Штукатурка в углу начала отслаиваться и висела сизыми крыльями мотылька, мягко колыхаясь на сквозняке.
«А как давно исчезли мотыльки?» – вяло подумала Ольга. Она зажала шпильки губами и укладывала волосы в высокую, на вид причудливую, но на деле очень простую прическу. Как, впрочем, и всё в театре – на вид причудливо, а на деле картон, тряпки, папье-маше и бронзовая краска. И черная плесень – выжидающе наблюдающая за всеми.
Ольга силилась вспомнить – когда же, когда исчезли мотыльки? – но ей никак это не удавалось. Мысль вяло скользила по закоулкам памяти, пытаясь выцепить их – большекрылых, с мягким брюшком, испускающих белесо-серую пыльцу, – но никак не могла уловить. Мотыльки исчезли в прошлом, оставив лишь легкий отпечаток в ее памяти – неверный и зыбкий настолько, что было проще поверить, что их никогда не существовало. Во всяком случае – при ней.
Мысль уперлась в тупик. Нужно было вернуться к реальности.
К записке, что лежала на туалетном столике. Записке, возникшей на нем сегодня, между восемью и десятью часами вечера, пока Ольга пела Эльмиру в «Дочери речного царя» Завадского.
Она бы выкинула ее, как выкидывала десятки, сотни подобных от назойливых поклонников, каким-то образом нашедших подход к костюмерше или работнику сцены, доставивших тайком эти записки прямо к ней в гримерку. Но то была гербовая бумага.
Бумага с вензелем Матери-Императрицы.
«Сегодня вам назначена встреча с Распутиным. Будьте послушны и делайте все, что он укажет. Помните – от этого зависит судьба Империи».
Ольга скривилась. Судьба Империи, как же! Она прекрасно понимала, о чем идет речь, – о половой силе Распутина ходили легенды, и, честно говоря, на ее месте мечтала бы оказаться пара десяток хористок. Может быть, и разом.
Но ей это было неинтересно. Распутин не мог дать ей ни голоса диапазоном больше, ни черт лица точенее и тоньше, ни возраста на десять лет меньше. Все, что ей было бы нужно, все, чем она хотела быть, все, чего она бы не могла получить иным путем, он не мог ей дать.
Вот только, вероятно, мог отобрать все остальное.
Ольга поднесла письмо к глазам и еще раз внимательно вчиталась. От бумаги пахло прелой землей, словно она пролежала в каком-то глубоком и темном подвале, но не было ни плесневых пятен, ни сырых разводов. Странно, зачем отдельно указывать на необходимость выполнения требований Распутина? А, ну да, ну да… Она вздохнула и поправила прическу. Извращения. Разумеется.
Ольга видела Распутина не раз – он присутствовал на каждом представлении, где были Мать-Императрица и вице-императорская семья. У него была отдельная ложа – крайняя слева, всегда прикрытая тяжелой портьерой, даже во время спектаклей. Лишь иногда, бросив беглый взгляд, Ольга могла различить бледное, какое-то белесое лицо и черную бороду. Потом, во время аплодисментов, Распутин придвигался к свету, казалось, даже розовел – и громко хлопал огромными мужицкими ладонями, при этом быстро и цепко шаря взглядом по залу.
Странно, но ни разу этот взгляд не останавливался на Ольге. Почему же записка адресована именно ей?
Или же… Она быстро опустила листок на столик. Может быть, это ошибка? Чужая записка? Кто-то перепутал? Или специально подкинул ей? Глупая шутка? Или подстава, жестокий розыгрыш от конкурента по сцене? Тогда кто? Софья Ильина? Или…
– Госпожа Рокотова. – Дверь приоткрылась. – Экипаж ждет.
Не ошибка. Не шутка. Не розыгрыш.
* * *
Через полчаса юркий, шустрый камердинер встретил ее, пряча глаза, и быстро повел по каким-то темным, запутанным коридорам. Сырость затуманила золотую лепнину, тяжелые портьеры набрякли и тяжело просели, паркет разбух от воды и вздыбился. Камердинер скользил по нему аккуратно и гладко, словно огромная улитка. – Ольга даже опустила глаза посмотреть, не тянется ли за ним склизкий след.
У огромных резных дверей дальней залы камердинер резко остановился, дернулся в поклоне, как переломанная пополам марионетка, – и быстро исчез.
Ольга вздохнула. Ей не хотелось делать того, чего от нее ожидали, – но еще более не хотелось возвращаться в мрак и морок старого театра. В липкое постоянство и однообразие репетиций, прогонов, представлений, в пот бального класса, в оцепеневший тлен костюмерной – и даже в зрительный зал, окутанный удушливыми ароматами духов, звоном колец и вееров во время аплодисментов, в его жадный шепот и назойливое ерзанье – ей тоже не хотелось возвращаться.
Пусть хоть так – но что-то другое.
«Что-то будет», – стукнуло у нее в голове.
«Палец у меня зудит, / Что-то злое к нам спешит», – старая привычка во всем искать цитату из классики услужливо подкинула цитату из кюхельбекеровского перевода «Макбета».
Ольга вздохнула, взялась за теплую, вытертую сотнями чужих ладоней и почему-то покрытую свежими царапинами ручку – и потянула на себя тяжелую дверь.
* * *
Зала была окутана терпким, густым паром. В неподвижном воздухе стояли ароматы можжевельника, липы, полыни – и еще десятка трав, смешиваясь, неуловимо перетекая друг в друга, заполоняя нос и рот, щекоча горло и глаза. Ольга закашлялась – ей не хватало кислорода, голова начинала идти кругом с непривычки – и сделала несколько шагов вперед.
Мимо, как рыбки, скользнули две девицы – а может, то и действительно были рыбки? – серебристые, гибкие, обнаженные. Они что-то пробулькали, захихикав, – то ли Ольге, то ли про Ольгу, – и растворились в клубах пара.
Ольга замерла.
В зале повисла тишина.
Клац. Клац. Клац.
Тихое постукивание-поклацывание просочилось сквозь клубы банного пара. Словно призывало ее.
Ольга сделала шаг вперед. Потом еще. И еще.
Пар стал истончаться, расступаться, отступать. Откуда-то потянуло сквозняком – наверное, девицы выскользнули из залы, – и белые клубы сначала подернулись сизым, а потом затрепетали, медленно растворяясь.
В центре залы стояла белая ванна. Рядом – небольшой столик с тарелкой каких-то – не разглядеть – фруктов.
Черная борода. Черные, напомаженные, разделенные ниточкой пробора длинные и даже в этой импровизированной бане неряшливые волосы. Белое тело. Странно белое, рыхлое и безволосое. Глаза закрыты, голова запрокинута.
Длинный желтый ноготь – почти что коготь – или не почти что? – мерно постукивал по белому бортику ванны.
Ольга молчала, не двигаясь дальше. Она не совсем понимала, что ей нужно делать – и чего от нее ждут. Никто никогда не рассказывал ей, как проходили аудиенции Распутина. Ее взгляд скользнул по блюду, в котором, как ей показалось издалека, лежали какие-то диковинные фрукты. Это оказались морковь, репа и хрен. Покрытые землей и песком, они выглядели чужеродно в этом золотом и мраморном зале, превращенном в гигантскую баню. В ботве моркови ошпаренно извивался алый червяк.
Клацанье прекратилось.
Ноготь замер, не коснувшись ванны.
Распутин понял, что она пришла.
Голова поднялась. Глаза открылись. В Ольгу вперился черный пронзительный взгляд.
– Мне было… письмо, – хрипло сказала она. Голос предательски сел и со стороны мог показаться неуверенным. Она прокашлялась и повторила более четко: – Мне было…
Распутин медленно встал в ванне во весь свой немалый рост. Вода бежала по его белой плоти, клочья пены сползали вниз, к уду, откуда-то из ванны поднялся тяжелый земляной дух. Распутин покачнулся – и еще медленнее, словно его что-то держало за ноги, словно он пустил корни, которые не давали ему двигаться, – перенес на пол сначала одну ногу, потом другую.
Ольга молчала. Ничего она не сказала и когда великий старец оказался прямо перед ней.
От Распутина пахло дымом, сырой землей, прелой репой. В нечесаных волосах и всклокоченной бороде торчали веточки и зеленые травинки. Она смотрела ему прямо в лицо, а он – куда-то сквозь нее, словно скользя взглядом не по ее лицу, шее, груди, а по рту, деснам, горлу, пищеводу, желудку.
– Годно, – прогудел он.
А потом резко, не медля ни секунды, словно кусок железной руды, притянутый магнитом, он впился в губы Ольги.
Шершавый и сухой язык раздвинул их, потом толкнулся в зубы, еще и еще, еще и еще, настойчиво и упорно. Ольга задохнулась от неожиданности, сцепила челюсти, напряглась – отвращение стянулось внутри в тугой комок, – но язык Распутина продолжал толкаться в ее зубы: зло, яростно, остервенело. Он напрягался и деревенел, и казалось, еще чуть – и проломит Ольгины резцы, выбьет клыки и ворвется внутрь, невыразимо длинный, дойдет до желудка и пробьет ее насквозь.
И Ольга сдалась. Она расслабила челюсти, разомкнула зубы – и язык Распутина задергался, полез глубже, все такой же сухой и твердый, словно старая ветка, – и казалось, даже коснулся, царапнув, ее горла.
И затем что-то скользнуло с этого языка в Ольгу. Что-то маленькое, неуловимое, юркое – на мгновение ей даже почудилось, что живое, – скользнуло в нее, оставив во рту привкус можжевельника и мяты. Она вздрогнула, напряглась – но могучие ладони обхватили ее предплечья, цепкие пальцы впились в кожу и плоть стальной хваткой – и она не могла даже пошевелиться.
А потом Распутин так же резко, как и все делал до этого, отступил.
– Годно, – снова прогудел он – и опустился в ванну.
Затем запрокинул голову и закрыл глаза.
Аудиенция закончилась.
* * *
– Он… со всеми так? – спросила Ольга в спину камердинеру, когда они снова пробирались – теми же? – темными и сырыми коридорами дворца.
Камердинер не ответил, даже не мотнул головой или не дернул рукой – никак не выказал того, что вообще расслышал вопрос Ольги.
На пороге она повернулась к нему.
– Он со всеми так? – повторила она с нажимом.
Камердинер поднял голову. В складках полупрозрачных век на нее тупо взглянули сизые, с точечкой белесого зрачка, глаза. Из уголков сочилась черная слизь. Камердинер приоткрыл тонкие, жесткие рыбьи губы – в темном провале рта вместо языка извивался жирный розовый червь.
– Помните – от этого зависит судьба Империи, – пришли слова то ли из гниющего нутра камердинера, то ли из пульсирующего и сжимающегося кольцами тельца червя.
«ЗИГФРИД»
В подворотне, обычно сырой и гнилостной, было сухо и пахло раскаленным песком.
– Почему не вы сами? – шепнул Зигфрид, настороженно оглядываясь по сторонам.
Тень у стены колыхнулась, обдала его жаром и проскрежетала:
– Нас легко вычислить. Вода кипит. Исходит дымом, а не паром. Не приблизиться.
– А кто-то из… ваших людей?
Улыбка вспыхнула в полутьме подворотни и быстро погасла.
– Вы – наш человек. Не так ли?
Зигфрид скривился. Не то чтобы он был человеком этих, скорее он просто был против тех.
– Допустим.
– Вы против тех, – вкрадчиво прошелестела тень.
Зигфрид вздрогнул. Неужели эти действительно умеют читать мысли?
– Да. – Он нервно пошевелил оставшимися пальцами левой руки в кармане плаща. Никогда не собирай бомбу, если не имеешь хотя бы минимального химического образования. Ему повезло, что он услышал шипение и увидел тонкий дымок – и поэтому отшвырнул ее от себя, не дожидаясь, когда экипаж санкт-петербургского генерал-губернатора приблизится. Бомба разорвалась в вершке от ладони – оторвав Зигфриду указательный и средний пальцы, сбив с ног мелкого воришку, в ту секунду лезущего под мантилью какой-то дамочки, погнав в их сторону истошно засвистевших городовых. Тогда Зигфрид ушел дальними закоулками, долго плутая в дырах санкт-петербургских домов, неделю не появляясь на явочной квартире – а когда пришел, увидел лишь заколоченную дверь. Он остался один от их и так небольшой компании заговорщиков. И теперь должен был сделать все сам. Во имя лучшего для Империи – даже если нынешняя Империя не будет существовать.
– Но другие не выходили на вас, – так же вкрадчиво добавила тень.
Зигфрид покачал головой – с сожалением ли?
– Откуда вы знаете? – в тон тени вдруг добавил он. – Вдруг я двойной агент? А то и тройной?
– Вы не пахнете этими и другими, – жарко дохнула тень.
– Хотите сказать, что я буду пахнуть вами? – Он почему-то тянул этот бессмысленный разговор, пинг-понг ничего не значащими словами… чтобы что? чтобы дать возможность тени, от которой пахло раскаленным песком, обожженной глиной, обугленными костями, отказаться от него? Сделать шаг назад, потому что он сам не мог уже сделать этот шаг?
Тень зашелестела – Зигфрид так и не понял, был ли это ответ «да» или просто издевательский смех, а потом замерла.
Мимо проехала двуколка. Зигфрид вжался спиной в камни стены – те были непривычно горячи, словно стенки тандыра. Чувствуют ли этот жар обитатели домов? Догадываются ли, что за разговор происходит в аршине от них? Понимают ли, что сейчас решается судьба государства? Зигфрид понимал – и ему было безумно страшно. И еще страшнее – признаться в этом страхе тому, кто стоял перед ним. Или тому, что стояло.
– Вы пахнете мясом, – сказала тень. Зигфриду вдруг показалось, что мелькнул длинный острый язычок и быстро облизнул тонкие губы – но разве у этих есть языки? И губы? Только тряпки и тьма под ними.
– А еще вы много курите, – добавила тень. – Плохой табак. Крепкий и сорный. Скручиваете сами, неправильно. Бумага горит.
– И что? – не понял Зигфрид.
– Наш запах затеряется.
– Ваш? Я не понимаю… я думал, что вы просто мне дадите…
– Возьмите. – В руки ему сунули шкатулку. Небольшая, три на три вершка и два в высоту, – но ее раскаленный металл ошпарил ладони, и Зигфрид охнул, едва не выронив дар. Дар ли?
– Не советуем, – сказала тень. – Будьте с ней аккуратны.
– Я могу ее открывать? – уточнил он. Пальцы жгло, словно в шкатулке пылал небольшой костер.
– Попробуйте, – слова прошелестели, удаляясь.
* * *
20/21 июня 15 г. от Возвышения (нов. стиль) / 1914 г. (ст. стиль), ночь
ОЛЬГА
Ночью Ольге снился лес.
Черный, густой, искореженный – он окружал ее со всех сторон. Где-то там, в его глубине – она почему-то точно это знала, – была деревня. Когда-то была деревня. Но лес пришел в нее. Он пророс через ее печи и клети, амбары и подполы, опутал кустарником ее плетни, завалинки и колодцы. Избы до сих пор там, полувросшие в землю, как гигантские черепа, оставшиеся без тел.
Из леса на Ольгу кто-то смотрел.
Длинное гибкое черное тело застыло в неподвижности среди кряжистых стволов. Ветвистые рога переплетались с расщеперенными, как скрюченные пальцы, ветвями.
Тот, кто смотрел на Ольгу, знал, кто она. А вон она не знала – кто он.
Когда она подумала об этом, то вдруг ощутила во рту привкус сырой земли.
«ЗИГФРИД»
В шкатулке, стоявшей под кроватью, что-то копошилось.
Зигфрид прислушался. На мгновение в голове мелькнула мысль: отказаться. Отказаться, пойти на попятную, уничтожить ее… Но перед глазами возникла сизая тень в подворотне, и загривок опалило горячее дыхание: нельзя. Эти знают. Эти помнят. Эти отомстят.
Да и потом, когда эта минутная слабость схлынет, он же первым начнет корить себя за то, что поддался ей! За то, что не сделал то единственное, что оправдывало бы его существование. То, ради чего его жизнь имела бы смысл. Не уничтожил тех, кто уничтожает страну.
Из-под кровати потянуло паленым. Шкатулка прожгла сырой паркет.
* * *
21 июня 15 г. от Возвышения (нов. стиль) / 1914 г. (ст. стиль), утро
ОЛЬГА
Что-то произошло там, в банной зале Распутина, – Ольга уже четко понимала: то был не просто извращенный поцелуй, трансформировавшийся в ее уставшем сознании во что-то странное. Это и было странное. Но что именно – Ольга не могла постичь.
Она перебирала в памяти все то, что слышала о Распутине.
Странный мужик, пришедший из сибирских лесов. Черной тенью проникший в императорский дворец. Ставший близким другом вице-императорской семьи – и кто знает, может быть, и наперсником Матери-Императрицы? О последней говорили шепотом и с недоверием – разве могут быть у Матери-Императрицы любимчики? Разве не одинаковы ее чувства ко всем ее подданным? О том, какие это чувства, не было единства мнений. Кто-то утверждал, что Мать-Императрица любит всех подданных, как своих малых неразумных детей. Кто-то – что она равнодушна к ним, но болеет душой за силу и крепость Российской империи. Кто-то считал, что Мать-Императрица проста и наивна, а вся беда в государстве – от ее нерадивых слуг, чиновников и генералов, и если избавиться от них, если окружить Мать-Императрицу другими, честными людьми, то и в стране все пойдет по-другому: эти заговорщики собирались по подвалам, мансардам и явочным квартирам, организовывали тайные общества, придумывали себе псевдонимы, совершали теракты – но все равно были слабы и разрозненны. Иногда кто-то провозглашал – как правило, в центре площади или оживленной улицы, – что ему было видение, что его глаза открылись: это Мать-Императрица зло во плоти, но его речь быстро вбивалась ему же в глотку ударом увесистого кулака городового, и больше безумца никто никогда не видел.
Ольга попыталась понять, что же она думает о Матери-Императрице, – и поняла, что ничего. Та просто есть – как данность и неизбежность, и думать о ней не надо, как не думаем мы о воздухе, воде и небе. Это было сказано в ее голове вкрадчивым шепотом, спорить с которым у Ольги не оказалось ни сил, ни желания.
А когда она снова подумала о Распутине, на зубах у нее заскрипела земля.
«ЗИГФРИД»
Зигфрид курил у заднего вход в Императорский театр – курил жадно, нервно, пряча папироску в ладонях. Сухой дым драл глотку, едко щекотал ноздри, а сама папиросная бумага казалась липкой и прогорклой.
– Алексей Зимин? – спросили за спиной.
Зигфрид резко обернулся, отшвырнув сигарету и напрягая ладонь, готовясь ребром рубануть по шее шпика или городового, а потом бежать – туда, через забор, а потом по крыше, и дальше, к нагромождению ящиков. Старая привычка, вбитая годами жизни подпольщиком-бомбистом: сразу изучай место, куда пришел. Ищи пути отступления. Думай, как бежать.
Но перед ним стоял какой-то мелкий хлыщ – очкастый, с зализанными на лысину редкими светлыми волосами. Расшитый позолотой мундир был ему великоват – и подплечники топорщились, выдавали сутулость хлыща.
– Алексей Зимин? – раздраженно повторил тот.
– Я Зигфрид, – хрипло сказал Зигфрид.
Очкастый презрительно скривился.
– Простите, я не очень запоминаю ваши молодежные клички. Тем более что пригласительный выписывается на имя и фамилию. Держите. И чтобы в последний раз. У нас хорошая публика, чтобы всякая шваль туда ходила.
В покрытые волдырями ожогов ладони Зигфрида лег плотный прямоугольник расписанного вензелями картона.
– Девок не щупать, – сказал очкастый.
– Что? – не понял Зигфрид.
– Парней тоже. У каждого и каждой есть покровитель. Проблем не оберетесь.
– Да я… я не…
– Не пол не харкать, в бархат не сморкаться, – очкастый смотрел на Зигфрида, наклонив голову набок, как злобноватая птичка.
Зигфрид скрипнул зубами и молча кивнул. О том, что ему нужно прийти сюда и получить что-то, он узнал из очередной рассыпавшейся пеплом записки. Что сказали – или написали – очкастому, он не знал. Но кажется, тот считал, что это просто еще одна проходка для какого-то нищего театрала. Проходка, оплаченная кем-то сверху. Идиот. Если Зигфрид верно понял, к чему ведет эта стратегия, очкастому не стоит сегодня быть в театре.
– Чтобы никаких проблем. А то вышвырну. И денег вашему… папочке не верну. Господи, кто только позарился… – Очкастый развернулся и ушел демонстративно вальяжной походкой.
Зигфрид, трясясь от злости, начал внимательно рассматривать билет. Тонким, витиеватым почерком было выведено: «Алексею Зимину, первому…» Кому – третьему, он так и не смог разобрать.
Зигфрид дернул головой, потер ладонью лоб, сложил билет вдвое, засунул его в карман и снова закурил.
Отступать уже некуда – почти некуда. Он согласился. Он пришел на встречу с тенью, от которой исходил жар. Он мог этого не делать – не ответить на простую записку, которую кто-то подбросил ему в щель под дверью. Едва он прочел ее, как она вспыхнула и рассеялась пеплом в его руках, оставив в памяти лишь время, место и последнюю фразу: «Знайте – от этого зависит судьба Империи». Буквы напоминали арабскую вязь и извивались в его воспоминаниях.
ОЛЬГА
Земля. Песок. Трава. Валежник. Темное и тугое сворачивалось в ней и вокруг нее. И вокруг Империи. И в Империи.
* * *
21 июня 15 г. от Возвышения (нов. стиль) / 1914 г. (ст. стиль), вечер
«ЗИГФРИД»
Шкатулка каленым железом жгла плечо, даже будучи обернута в плотную ткань. Зигфрид старался держать лицо, но, кажется, не очень удачно, потому что лакей на входе в партер, проверяя пригласительный, спросил:
– Больно? – и кивнул на руку Зигфрида в лангетке, висящую на перевязи.
В этот момент Зигфрид позволил себе скривиться по-настоящему.
– Очень, – искренне просипел он.
– Кость сместилась, – кивнул лакей. – У меня неделю как-то болело.
Он вернул Зигфриду билет и жестом попросил следующего гостя. Зигфрида вдруг словно холодной водой окатило: это не просто лакей. Тот бы не вел себя так запанибрата, тот бы молчал, кивал и пропускал. Может быть, даже и не заглядывая в билеты вообще.
Он сделал несколько шагов на негнущихся, ватных ногах и оглянулся. Фрак на спине лакея дыбился вдоль позвоночника, а тщательно напомаженные волосы и накрахмаленный воротничок не могли скрыть серые тени жабр.
Зигфрид задохнулся от ужаса – он стоял в шаге от одного из тех. Неверное слово, неловкий жест – и все могло бы пойти прахом. Достаточно вызвать подозрение, чтобы его проверили, ощупали, обыскали – и обнаружили бы шкатулку, завернутую в платок, пристроенную на сгибе согнутой, якобы сломанной, висевшей на перевязи руки. Лишь приподнять фрак, накинутый на плечи Зигфрида, – и они обнаружат, что он засланец.
Бомбист.
Тот, кто собирается сегодня устроить в оперном театре террористический акт.
ОЛЬГА
Ольгу тошнило. Она стояла, опершись руками о туалетный столик, и раскачивалась из стороны в сторону. К горлу подкатывала желчь. О том, чтобы сегодня петь, и речи быть не могло. Казалось, что стоит лишь разомкнуть губы – как из нее хлынет кислая слюна.
– Осталось пять минут, на сцену, – приоткрылась дверь.
Ольга помотала головой.
– Госпожа Рокотова! – прошипели со злобой. – Не вздумайте нас позорить!
– Я не могу, – просипела она сквозь стиснутые зубы. – Меня мутит. Я не могу. Пусть выйдет Софья.
– Софьи нет! Она сказалась больной – и ее нет!
– Я тоже больна! – Слова выталкивались вместе с пеной. – Пошлите за Софьей.
– Не вздумайте! – Цепкие пальцы схватили ее локоть, шипение брызнуло слюной над ухом. – Там Мать-Императрица! Там вице-императорская семья! Не вздумайте! От этого зависит…
– …судьба Империи, – прохрипела она.
«ЗИГФРИД»
Опера никак не начиналась. Зрители уже начали взволнованно переговариваться и покашливать. Зигфрид снова почувствовал, как по всему телу выступает испарина. Что происходит? Он выдал себя? Ему организуют ловушку? Все пропало?
Ужас проскользил по позвоночнику и толкнулся в мочевой пузырь.
– Извините! – Зигфрид вскочил со своего места в третьем ряду, наклонившись к соседу. – Простите. Я… я сейчас.
Сосед, тучный, потный, растекающийся по креслу, поморщился и подобрал ноги. Да, по этикету он должен был встать – но, кажется, его туша застряла между подлокотниками. А может быть, он не желал проявлять уважение к Зигфриду.
Но тому было плевать на такие мелочи. Подгоняемый пульсацией мочевого пузыря, он поспешно пробирался к выходу. Рука в лангетке торчала, как оружие, а шкатулка, казалось, пылает осколком адского пламени. Но ад пуст, все здесь – или как там было у Шекспира?
– Я… я на минутку, – сказал он одному из тех, прикидывавшихся лакеем.
Тот приоткрыл мутный глаз, моргнул, растянул тонкие губы в ухмылке.
– Налево, потом направо, третья дверь.
– Спасибо…
* * *
Разумеется, он заблудился. Налево, потом направо – чего же проще? Но то ли он повернул слишком рано, то ли, наоборот, слишком поздно – но там, где он оказался, не было третьей двери. А лишь одна. Одна-единственная.
Конечно, он открыл ее. И даже сделал несколько поспешных шагов, опасаясь, что забудет путь обратно. А потом, заметив краем глаза что-то странное, поднял голову.
Бесконечный коридор уходил вдаль. Его конца не было видно, он терялся где-то в темноте в… десятке саженей? А может быть, в версте? Тьма в его конце клубилась и пульсировала, чавкала и причмокивала – но Зигфрид не смотрел на нее.
Его взгляд был прикован к потолку.
Яйца. Тысячи, сотни тысяч влажных, белесых яиц, висящих над потолком на ниточках слизи, длинными шеренгами уходили во тьму. И тьма… опекала их?
Под тонкой полупрозрачной мягкой пленочкой скорлупы потягивались и переворачивались скрюченные твари: Зигфрид видел их перепончатые лапы, расщеперенные плавники, рыбьи хвосты и крабьи клешни. Они ждали момента рождения – когда смогут выйти и…
Виски пронзила пульсирующая боль. Пол ушел из-под ног, и Зигфрид рухнул на колени, сворачиваясь в комочек – как позволяла сложная конструкция из руки и лангетки.
В голове колотилось, билось и толкалось – словно что-то пыталось прорваться к нему из-за тонкой, но очень прочной ткани.
Зигфрид закрыл глаза – и позволил ткани лопнуть.
* * *
Ему пять лет. Он гуляет с бонной по набережной Невы. У него в руке зажат леденец – петушок на палочке. Бонна смеется и показывает рукой на чаек, которые реют высоко в небе. Он тоже смеется – чаек так много, и они так забавно мельтешат. А потом чайки начинают кричать. Они кричат все громче и громче, их резкие вопли словно ввинчиваются в голову через уши – и он закрывает уши руками, уронив леденец на мостовую. Чайки собираются в стаю, сжимаясь в огромный птичий ком, – и прохожие останавливаются, чтобы посмотреть, что же происходит с птицами. Кто-то смеется, какая-то женщина зовет городового – зачем, не для того же, чтобы арестовать чаек? – кто-то – какие-то гимназисты – передразнивают птиц, пытаясь перекричать их своими визгливыми воплями.
В плотном, надрывно орущем черно-белом коме уже не разобрать отдельных птиц, словно это какое-то причудливое, странное существо, которое…
…мысль обрывается, когда из воды в воздух взметается что-то серое, длинное, тонкое – и одним махом разбивает ком чаек, будто хрупкую вазу. Крик прерывается. Наступает тишина. Тельца птиц с тихим плеском падают в свинцовые волны Невы.
Серое, длинное, тонкое так же быстро утягивается назад, вслед за трупами птиц.
* * *
Они пришли в Санкт-Петербург из тяжелых, пропитанных тоской и тленом вод Невы. Они вползли в Зимний дворец, оставляя на паркете слизь и чешую. Они сели на трон и расположились в зале приемов.
Наваждение, гипноз сползали с Зигфрида как старая кожа. Он вспомнил слишком много. Так много, что воспоминания, как те чайки, сбились в плотный ком. Слишком плотный, чтобы рассудок Зигфрида мог его постичь.
ОЛЬГА
Ольга не могла оторвать взгляда от ложи Распутина. Оттуда, из полутьмы за портьерой, ее сверлили черные глаза на мертвенно-бледном лице. Казалось, что невидимые крючья подцепили ее веки и тянут туда, в зал, не давая моргнуть, не позволяя отвернуться.
Он пела часть дуэта и должна была – обязана! – смотреть на партнера, но не могла.
Распутин знал, что с ней происходило. А она нет. Происходило – с ней, а знал – он. Потому что это он что-то впустил в нее тем вечером. Что-то, что жгло ее, мучило, терзало. То была не обычная аудиенция, а нечто иное – какой-то точный и изощренный расчет с его стороны. Что-то, о чем он погудел тогда «Годно». Она пригодилась ему для чего-то – но чего?
И еще одно, что билось в ее виски жутким вопросом – после того, как свершится то, для чего она сгодилась, – останется ли она в живых?
«ЗИГФРИД»
Зигфрид вошел в зал твердым шагом. Он словно очнулся ото сна – и то, что раньше казалось зыбким, странным, теперь приобрело четкость и ясность. Лакеем прикидывался не Древний и даже не их законный отпрыск – а порочное порождение, плод связи Древнего и человека: слизистая кожа, на которой висел парадный фрак, когтистые перепончатые пальцы, выгнутые назад, покрытые чешуей ноги.
Ублюдок заметил взгляд Зигфрида и осклабился:
– Нашли уборную?
– Разумеется, – был ему ответ.
* * *
Морок продолжал сползать с него, обнажая кости и мышцы воспоминаний.
* * *
Паника. Хаос. Истеричные телеграммы в другие страны – из которых в свою очередь шли свои телеграммы, не менее истеричные. Разломанный на части гигантскими клешнями на глазах у сотен стоящих на берегу пароход с беженцами – куда они собирались бежать? где предполагали найти убежище?
Священники всех конфессий пытались увещевать незваных гостей – но как могли наместники бога на земле противостоять тем, кто сами – плотью и кровью, властью и намерениями – являлись богами?
А потом что-то произошло. Пришло смирение. Упокоение. Мысль о том, что это и есть естественный порядок вещей. Что так и до́лжно быть. Да, неидеально, даже не утопично – но разве жизнь вообще идеальна и утопична?
Под пятой гипноза Древних была раздавлена воля людей к лучшей жизни.
* * *
А потом появились другие Боги. Из песков Азии восстали Древние Пустынь – эти, – а из сибирской тайги вышли Древние Лесов – другие. Но они проснулись слишком поздно: передел Российской империи закончился, так и не начавшись. Древние Глубин засели в ее сердце, милостиво кинув остальные объедки – иссушенные жаром пустыни и тонущие в ядовитых болотах чащи. Не нужные Матери-Императрице территории – слишком жаркие, слишком заразные, слишком чужие и чуждые. И младшие Древние – наверное, так их теперь стали называть, – приняли это, проглотили оскорбление и сделали вид, что довольствовались этим малым.
Сделали вид.
Но на деле – теперь Зигфрид понимал это, понимал так ясно и четко! – все это время искали способ, чтобы нанести удар в самое сердце тех.
И кажется, он и стал этим оружием.
* * *
Зигфрид окинул взглядом партер, пробежался по ложам – люди чередовались с ублюдками Древних Глубин и иногда – с самими Древними. Фраки и чешуя, духи и слизь, плавники, клешни, жабры…
А потом Зигфрид увидел Мать-Императрицу. Ее студенистое тело, пульсируя, раскинулось вдоль перестроенной под нее ложи. Несколько щупалец свисали в партер, касаясь макушек зрителей. Вода стекала с нее, пропитывая сыростью бархат и старое, благородное дерево. Мать-Императрица что-то жрала – что-то, что дергалось, извивалось и даже, кажется, просило отпустить.
А еще там, рядом с ней, была вице-императорская семья.
Они были еще живы. Возможно, даже все эти годы они понимали, что происходит, – и, как и все, будучи под гипнозом, смирялись со своей участью. Понимали ли они, осознавали ли, что все они – и вице-император, и вице-императрица, и их дети – насажены, как перчаточные куклы, на длинные, гибкие серые щупальца твари, которая именовала себя – или так ее стали именовать преданные подданные – Матерью-Императрицей? Одно из щупалец дернулось и сократилось – вице-император наклонился и помахал подданным. Изо рта у него потекла ниточка сукровицы. Глаза закатились в агонии.
* * *
Зигфрид медленно, шатаясь, сгибаясь под грузом воспоминаний и открывшейся ему правды, отстегнул повязку лангетки. Даже шкатулка, казалось, уже не так жгла – настоящий огонь пылал где-то в его нутре, выжигая страх и опасения, переплавляя их в отчаяние и решимость.
Фрак начал сползать с плеча, открывая тайник, но это уже было неважно. Счет шел на минуты, никто бы из слуг Древних не успел добежать до него, прежде чем… Прежде чем что? Настала пора узнать.
И тогда Зигфрид – Алексей Зимин – щелкнул замками шкатулки.
ОЛЬГА
Это было ми второй октавы, когда Ольга вдруг поперхнулась. Оркестр остановился. Она попыталась начать с этой же фразы – но поперхнулась опять. Затем – с фразы раньше – оркестр попытался подстроиться под нее, и ему это удалось, но она снова поперхнулась.
Слова застряли в горле, словно сухие крошки. Она стала царапать пальцами кожу, чтобы вытолкнуть их, чтобы сделать хоть что-то, лишь бы вернуть голос: сейчас она была бы готова даже разорвать себе горло – но этого не потребовалось. Рот вдруг наполнился теплым и густым, отдающим металлическим привкусом.
И она выхаркнула пригоршню крови прямо на скобленые доски старой сцены. В алых потеках она увидела сухие листья.