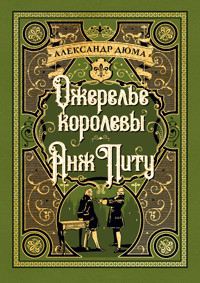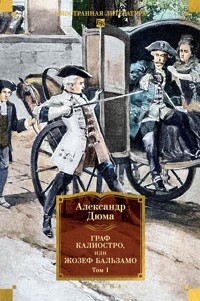2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Glagoslav Distribution (M)
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Цикл интригующих повестей прославленного А. Дюма о знаменитых преступниках и самых громких преступлениях, от эпохи Возрождения до ХІХ века. Среди преступников - маршалы, герцоги, короли, вошедшие в историю со своими кровавыми злодеяниями и жестокими расправами. Увлекательные рассказы о хладнокровных и циничных преступлениях и о тех, кто их совершил, забыв о чести и морали. Cikl intrigujushhih povestej proslavlennogo A. Djuma o znamenityh prestupnikah i samyh gromkih prestuplenijah, ot jepohi Vozrozhdenija do HІH veka. Sredi prestupnikov - marshaly, gercogi, koroli, voshedshie v istoriju so svoimi krovavymi zlodejanijami i zhestokimi raspravami. Uvlekatel'nye rasskazy o hladnokrovnyh i cinichnyh prestuplenijah i o teh, kto ih sovershil, zabyv o chesti i morali.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
История знаменитых преступлений
АлександрДюма
Цикл интригующих повестей прославленного А. Дюма о знаменитых преступниках и самых громких преступлениях, от эпохи Возрождения до ХІХ века. Среди преступников — маршалы, герцоги, короли, вошедшие в историю со своими кровавыми злодеяниями и жестокими расправами. Увлекательные рассказы о хладнокровных и циничных преступлениях и о тех, кто их совершил, забыв о чести и морали.
Александр Дюма
История знаменитых преступлений
Сборник
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2018
© Shutterstock. com / CreativeHQ, Sibrikov Valery, Stocksnapper, LiliGraphie, обложка, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2018
ISBN 978-617-12-4891-5 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Цикл цікавих повістей від уславленого класика А. Дюма про знаменитих злочинців і найгучніші злочини, від епохи Відродження до ХІХ століття. Серед злочинців — маршали, герцоги, королі, що увійшли в історію зі своїм кривавим свавіллям і жорстокими розправами. Захопливі розповіді про холоднокровні та цинічні злочини і про тих, хто їх скоїв, забувши про честь і мораль.
Дюма А.
Д96 История знаменитых преступлений : сборник / Александр Дюма ; пер. с фр. Н. Чистюхиной ; сост. Е. Рыбакова ; предисл. А. Климова. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. — 288 с. — (Серия «Великие сыщики и великие мошенники», ISBN 978-617-12-2533-6)
ISBN 978-617-12-4720-8
Цикл интригующих повестей прославленного А. Дюма о знаменитых преступниках и самых громких преступлениях, от эпохи Возрождения до ХІХ века. Среди преступников — маршалы, герцоги, короли, вошедшие в историю со своими кровавыми злодеяниями и жестокими расправами. Увлекательные рассказы о хладнокровных и циничных преступлениях и о тех, кто их совершил, забыв о чести и морали.
УДК 821.133.1
Перевод с французского Наталии Чистюхиной
Предисловие Андрея Климова
Дизайнер обложки Сергей Ткачев
Бремя страстей
Александра Дюма (1802—1870) недаром называют королем историко-приключенческого романа — и в наши дни он остается одним из самых читаемых авторов в мире. О чем бы ни писал прославленный француз — о мушкетерах, о короле Генрихе Наваррском, о Французской революции или о Средневековье — книги его с первых же страниц захватывают и увлекают читателя. Персонажи их ярки и многолики, действие развивается стремительно и причудливо, а стремление к свободе и утверждению человеческого достоинства неизменно торжествует над низменными побуждениями и происками врагов правды и добра.
В юности Дюма не получил практически никакого образования, и тем не менее уже в 20 лет с двумя луидорами в кармане отправился «завоевывать» Париж. Юноша мечтал стать драматургом. Для этого ему пришлось заняться самообразованием: один из друзей составил для него список книг, которые следовало непременно прочитать. Дюма часто посещал театры, изучая законы сценического действия, и в конце концов вместе с приятелем сочинил водевиль «Охота и любовь», который был принят к постановке. Молодой драматург вошел в круг литераторов романтического направления.
В 1830 г. во Франции произошла Июльская революция. Король Карл X был свергнут, а на престол взошел герцог Орлеанский, принявший имя Луи-Филипп. Дюма был в рядах повстанцев, штурмовавших королевский дворец Тюильри, он также выполнил ряд важных поручений генерала Лафайета, возглавлявшего национальную гвардию. А в 1832 г. Дюма пришлось бежать в Швейцарию, так как ему угрожали арест и суд. В Швейцарии были написаны новые драмы — «Наполеон Бонапарт, или Тридцать лет истории Франции» (1831), «Нельская башня» (1832), «Кин» (1836), которые принесли писателю широкую известность на родине.
Тем временем у Дюма родился грандиозный замысел: воскресить историю Франции в обширной серии романов. Первый из них — «Шевалье д’Арманталь» — был написан в соавторстве с Огюстом Маке и печатался из номера в номер в одной из парижских газет. Но вскоре Дюма наткнулся в лавке у букиниста на поддельные мемуары капитана-лейтенанта королевских мушкетеров, дворянина из Гаскони д’Артаньяна, служившего при дворе во второй половине XVII в. Авантюрист-мушкетер превратился в легендарного героя.
Роман «Три мушкетера» (1844) стал «супербестселлером» своего времени. Тогда даже ходила шутка: если и живет на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, то он наверняка читает исключительно «Трех мушкетеров». Вскоре на читателей обрушилась настоящая «литературная лавина»: c 1845 по 1855 гг. Дюма публиковал по 7—8 томов в год. За «Тремя мушкетерами» последовали «Двадцать лет спустя» (1845) и «Виконт де Бражелон» (1848—1850), «Королева Марго» (1845), «Графиня де Монсоро» (1846) и «Сорок пять» (1847—1848), затем — серия книг, описывавших закат французской монархии. А «Граф Монте-Кристо» (1845—1846), приключенческий роман из современной жизни, принес Дюма небывалую славу и крупное состояние.
Историки литературы утверждают, что из-под пера Дюма вышло в общей сложности около шестисот томов. Цифра невероятная, иному человеку даже за всю жизнь не прочитать столько книг. Все это многообразное и неравноценное литературное наследие было создано человеком, который не получил никакого систематического образования, зато обладал невероятным творческим потенциалом, жизнелюбием, пламенным воображением и способностью «оживлять» написанное на бумаге.
Говорят, что, достигнув пика популярности, Дюма обзавелся множеством помощников. Сегодня их имена известны: среди литературных сотрудников Дюма были маркиз де Шервиль, Бенедикт Ревуаль, Огюст Маке и Ипполит Оже. Все эти люди были литераторами средней руки, а их довольно бесцветные писания приобретали живость и блеск лишь после того, как проходили через руки мэтра. И это лишь подтверждает, насколько могуч был талант прославленного француза.
В промежутках между большими романами Дюма создал ряд повестей и новелл, героями которых стали полулегендарные личности Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени. «История знаменитых преступлений» — обширный цикл, созданный писателем между 1839 и 1856 годами. В данное издание вошли три повести этого цикла. Каждая из повестей — это полновесная жестокая драма, полная страстей, интриг, тайных умыслов и хладнокровных убийств. Изощренная жестокость позднего Средневековья, борьба за власть, инцест, гнетущий разврат и месть в атмосфере итальянского Ренессанса и, наконец, история немецкого студента-романтика, чей кинжал, ставший символом борьбы за гражданские свободы, когда-то воспел Александр Пушкин…
Разумеется, современные исследователи по-иному смотрят на многие события и обстоятельства, описанные Дюма в этих повестях. Хорошо известно, что он вольно обращался с историческими фактами, а недруги постоянно обвиняли писателя в том, что он слишком «легковесен». Но не в том состояла его цель. Задача Дюма — обнажить и предъявить читателю архитектуру человеческой души и непреодолимую силу страстей и обстоятельств, толкающих героя к преступлению. И это ему удается практически всегда. Свидетельством тому — неувядающая слава Александра Дюма.
А. Климов
Иоанна Неаполитанская
1343—1382
В ночь на 16 января 1343 года мирный сон неаполитанцев был внезапно нарушен колокольным звоном всех трех сотен церквей этой благословенной столицы. Посреди всеобщей растерянности, причиненной столь внезапным пробуждением, легко было вообразить, что Неаполь с четырех концов охвачен огнем или что вражеская армия, таинственным образом высадившаяся на берег под покровом ночи, намеревается вырезать всех его жителей до единого. Однако очень скоро стало известно, что этот скорбный, повторяющийся через равные промежутки времени перезвон призывает верующих помолиться за умирающего и городу ничто не угрожает — в опасности один лишь король.
Уже не первый день в замке Кастель-Нуово царило сильное беспокойство: высочайшие сановники королевства дважды в день собирались на совет, а вельможи, наделенные привилегией посещать монаршие покои, выходили оттуда обремененные глубочайшей грустью. Смерть короля — неизбежное зло, однако, когда не осталось сомнений в том, что он умирает, неаполитанцы испытали искреннее огорчение, которое читателю будет легче понять, если мы добавим, что тот, кому вот-вот предстояло отойти в мир иной после тридцати трех лет и неполных девяти месяцев правления, был Роберт Анжуйский — самый справедливый, мудрейший и славнейший монарх из всех когда-либо занимавших трон Сицилии. С собой в могилу он уносил сожаления и похвалы всех своих подданных.
Солдаты с воодушевлением вспоминали продолжительные войны, которые он вел против Федериго и Педро Арагонских, Генриха VII и Людвига VI Баварского, и сердца их стучали в унисон при воспоминании о славных походах в Ломбардию и Тоскану; духовенство превозносило короля Роберта в благодарность за то, что он неизменно защищал Святой престол от атак гибеллинов, и за все те монастыри, больницы и церкви, которые он основал в своем королевстве; мужи науки считали его самым просвещенным королем христианского мира, и только лишь из его рук Петрарка пожелал принять лавровый венок поэта, а потом три дня отвечал на вопросы касаемо всех отраслей знаний, которыми король Роберт его удостоил; правоведы, восхищенные мудростью законов, которыми благодаря его величеству обогатилось неаполитанское законодательство, нарекли его Соломоном своего времени; аристократия радовалась всем тем мерам, что были им предприняты ради сохранения ее привилегий; простой люд прославлял его великодушие, набожность и доброту. И все они — священники и солдаты, ученые и поэты, вельможи и плебеи — с ужасом думали о том, что бразды правления теперь перейдут в руки чужестранца и юной девушки, и вспоминали слова Роберта, который, следуя за гробом своего единственного сына Карла, на пороге церкви обернулся к баронам королевства и в слезах воскликнул:
— Сегодня корона упала с моей головы! Горе мне! Горе вам!
И пока колокола звонили по умирающему королю, все умы были заняты этим пророчеством. Женщины истово молились, мужчины со всех концов города сходились к монаршему дворцу за самыми последними и достоверными новостями. Однако после недолгого ожидания, едва успев поделиться друг с другом своими печальными размышлениями, они были вынуждены разойтись — что в эти минуты происходило в лоне королевской семьи, так и осталось тайной за семью печатями. Замок погружен был в полнейшую темноту, мост, как обычно, поднят, и все стражники находились на посту.
Однако, если читателю любопытно узнать, как прошли последние минуты жизни этого короля, приходившегося племянником Людовику Святому и внуком Карлу I Анжуйскому, мы можем ввести его в покои умирающего. Подвешенная к потолку алебастровая лампа освещает просторную и угрюмую комнату со стенами, обтянутыми черным бархатом с вышитыми на нем золотыми геральдическими лилиями… У стены, которая смотрит на две двери, ведущие в другие комнаты и в данный момент закрытые, под парчовым балдахином стоит кровать из эбенового дерева с четырьмя витыми, выточенными в виде символических фигур столбиками. Король, изнуренный жестоким приступом, без чувств упал на руки неотлучно находящимся при нем исповеднику и лекарю, которые, стоя по разные стороны кровати, держат его за запястья и, обмениваясь понимающими взглядами, с тревогой подсчитывают пульс. У изножья кровати, соединив руки в молитвенном жесте и воздев очи горе с выражением скорбного смирения, замерла женщина лет пятидесяти. Это королева. В глазах ее нет слез, а впалые щеки приобрели желтоватый восковой оттенок, какой мы видим у святых, чьи останки чудом остаются нетленными. Под внешним ее спокойствием сложно угадать страдания, которые возвышают душу, истерзанную болью и укрощенную религией. На протяжении часа никто и шорохом не нарушил глубокой тишины, повисшей над ложем умирающего. Наконец король едва заметно вздрогнул, открыл глаза и попытался поднять голову. Улыбкой поблагодарив лекаря со священником, бросившихся поправлять подушки, он попросил королеву приблизиться и взволнованным голосом сказал, что хотел бы ненадолго остаться с ней наедине. Лекарь и исповедник с низким поклоном удалились, и король провожал их взглядом, пока за ними не закрылась одна из двух дверей. Тогда он провел рукой по лбу, словно желая прогнать слишком навязчивую мысль, и, собрав последние силы, произнес такие слова:
— То, что я хочу вам сказать, сеньора, не предназначено для ушей достопочтенных господ, только что покинувших эту опочивальню; их труды окончены. Один из них сделал для моего тела все, что человеческое знание ему подсказывало, но не получил иных результатов, а только продлил еще ненадолго мои мучения; другой освободил мою душу от всех грехов и пообещал прощение Всевышнего, не сумев при этом избавить меня от зловещих видений, встающих перед моим взором в этот роковой час. Дважды вы видели, как я содрогался под гнетом нечеловеческой боли. Лоб мой был весь в поту, руки и ноги одеревенели, рот словно бы зажала чья-то железная рука… Не злой ли это дух, которому Господь наш позволил испытать меня? Не угрызения ли совести, принявшие вид призрака? Как бы то ни было, две битвы, которые я выдержал, настолько подорвали мои силы, что в третьей мне не устоять. Слушайте же меня, моя Санча! Я хочу оставить вам кое-какие распоряжения, от исполнения которых, возможно, будет зависеть вечный покой моей души.
— Мой господин и повелитель, — заговорила королева голосом, исполненным нежнейшей покорности, — приказывайте, я внимательно слушаю. И если Господь, чьи глубочайшие помыслы от нас сокрыты, пожелает призвать вас в горний мир, а нас повергнуть в скорбь, ваша последняя воля будет исполнена на земле со всем возможным тщанием. Но позвольте мне, — продолжала она со всей заботой и искренней верой в могущество высших сил, — позвольте окропить святой водой эту комнату, чтобы изгнать из нее зло, а после я прочитаю отрывок из молебна, сложенного вами в честь вашего святого брата, моля его о покровительстве, когда мы так отчаянно в нем нуждаемся!
И, открыв книгу в богатом переплете, она с самым искренним благоговением прочла несколько строф молитвы, написанной Робертом на изящной латыни для брата Людовика, епископа Тулузы, — той самой, которую читали в церквях вплоть до Тридентского собора.
Убаюканный благозвучием стихов, им же сложенных, король едва не забыл о предмете разговора, которого просил с такой величавой настойчивостью. Предавшись безотчетной грусти, он глухо прошептал:
— О да, правда ваша! Помолитесь за меня, сеньора, ведь вы — святая, а я — всего лишь бедный грешник!
— Не говорите так, ваше величество, — перебила его донна Санча. — Вы — величайший из монархов, самый мудрый и самый справедливый из тех, кто когда-либо восходил на трон Неаполитанского королевства!
— Но трон этот узурпирован, — хмуро продолжал Роберт. — Как вам известно, королевство это предназначалось Карлу Мартеллу, моему старшему брату, но, раз уж при посредстве матери он стал королем Венгрии, неаполитанская корона должна была отойти к его старшему сыну Кароберу, а не ко мне, поскольку я третий сын в семье. И я позволил короновать себя вместо своего племянника, единственного законного короля, оттеснив от престола старшую ветвь династии, и в течение тридцати трех лет подавлял в себе укоры совести. Я выигрывал сражения, писал законы, закладывал церкви — все это правда; но одно-единственное слово опровергает все пышные титулы, которыми восхищенный народ окружил мое имя, и слово это звучит в моей душе громче, нежели все льстивые речи придворных, все песни поэтов и все овации толпы, — я узурпатор!
— Вы несправедливы к себе, государь. Если вы и приняли корону в ущемление прав законного наследника, то только потому, что хотели спасти людей от величайших несчастий! Более того, — продолжала королева с глубокой убежденностью в том, что доводы ее неопровержимы, — вы взошли на престол с согласия и позволения Папы Римского, который волен распоряжаться им как принадлежащим Церкви феодом.
— Долго я утешал себя этими резонами, — сказал умирающий, — и мое уважение к Святому престолу вынуждало мою совесть молчать; но, сколь бы человек ни притворялся уверенным в собственной правоте, приходит торжественный и ужасный час, когда все иллюзии развеиваются; и для меня этот час настал: скоро я предстану перед Всевышним, нашим единственным непогрешимым судией.
— Справедливость его непогрешима, но разве не бесконечно его милосердие? — отвечала королева с благочестивым воодушевлением. — Даже если бы страхи, тревожащие вашу душу, имели обоснование, разве есть на свете грех, который столь благородное раскаяние не способно искупить? И разве не загладили вы свою вину перед вашим племянником Каробером, если даже и были виноваты, призвав в свое королевство его младшего сына Андрея и выдав за него замуж Иоанну, старшую дочь вашего несчастного Карла? Не они ли унаследуют вашу корону?
— Увы! — Роберт глубоко вздохнул. — Быть может, Господь накажет меня за то, что я слишком поздно задумался о восстановлении справедливости. О моя великодушная и добрая Санча, вы задели болезненную струну моей души и, сами того не чая, подвели меня к грустному признанию, которое я хотел вам сделать. У меня ужасное предчувствие — из тех, нашептанных нам смертью, что оказываются пророческими, — у меня предчувствие, что оба сына моего племянника — Людовик, унаследовавший от отца венгерскую корону, и Андрей, которого я хочу сделать королем Неаполя, — привнесут в мою семью большие несчастья. С тех пор как Андрей переступил порог этого замка, неведомый рок преследует меня, мешая исполнению всех моих планов. Я надеялся, что, если дети, Иоанна и Андрей, вырастут вместе, между ними завяжется нежная дружба и красота нашего неба, кротость наших нравов и утонченность придворной жизни в конце концов смягчат грубоватый нрав молодого венгра. Но, несмотря на мои усилия, все это только поспособствовало охлаждению отношений между молодыми супругами. Иоанне едва исполнилось пятнадцать, но она развита не по годам. Моя внучка очень умна и сметлива, у нее возвышенные принципы и живое, пылкое воображение; то свободная и радостная, как дитя, то величавая и гордая, как королева, доверчивая и наивная, как все девушки, страстная и чувственная, как взрослая женщина, она составляет Андрею разительный контраст, а он, живя уже десять лет при нашем дворе, стал еще более нелюдимым, хмурым и неуступчивым, чем раньше. Его холодные правильные черты, эта внешняя невозмутимость, это отвращение ко всем удовольствиям, которые предпочитает супруга, воздвигли между ним и Иоанной стену безразличия и неприязни. На нежнейшие излияния чувств он отвечает сурово и кратко, пренебрежительно усмехается либо хмурится и выглядит счастливым, лишь когда, под предлогом охоты, уезжает подальше от королевского двора. И эта молодая чета, сеньора, вскорости взойдет на мой престол и с этого момента попадет под власть всех страстей, глухо рокочущих под покровом обманчивого спокойствия и ожидающих своего часа, чтобы выплеснуться наружу, — часа, когда я испущу последний вздох!
— Господи! Господи! — твердила удрученная королева. Руки ее бессильно опустились, придавая ей сходство со скорбной кладбищенской статуей, вечно оплакивающей умершего.
— Выслушайте меня, донна Санча! Знаю, сердце ваше никогда не привязано было к благам этого суетного мира и вы ждете, когда Господь призовет меня к себе, чтобы удалиться в монастырь Санта Мария делла Кроче, основанный вами в надежде окончить там свои дни. Будучи сам на пороге смерти, я настолько убежден в тщетности земного величия, что не стану и пытаться отвратить вас от этого возвышенного намерения. Прошу лишь, чтобы прежде, чем стать Христовой невестой, вы даровали мне год вдовства. Носите по мне траур и приглядывайте за Иоанной и ее мужем, дабы отвести от них все опасности, им грозящие. Уже сейчас вдова великого сенешаля и ее сын взяли над нашей внучкой слишком много власти. Помните об этом, сеньора, и среди всех корыстных интересов, интриг и соблазнов, которые вскоре окружат юную королеву, более всего опасайтесь нежности Бертрана дʼАртуа, красоты Людовика Тарентского и честолюбия Карла Дураццо.
Король умолк, ибо разговор этот стоил ему больших усилий, а потом обратил к жене умоляющий взгляд, протянул исхудалую руку и едва слышным голосом добавил:
— Умоляю вас снова и снова — останьтесь при дворе еще на год! Ваше величество, вы обещаете?
— Обещаю, мой государь.
— А теперь, — продолжал Роберт, чье лицо просветлело при этих словах, — прикажите вернуться исповеднику и лекарю и соберите все мое семейство. Времени осталось мало, и скоро у меня уже не останется сил объявить им свою последнюю волю.
Вскорости священник с лекарем, обливаясь слезами, вошли в опочивальню. Король со всей сердечностью поблагодарил их за усердие, с каким они пользовали его во время этой последней болезни, и попросил помочь ему переодеться в грубое одеяние монаха-францисканца, «чтобы Господь увидел, что умер я в бедности, смирении и покаянии, и по доброте своей скорее даровал мне прощение». Исповедник с лекарем надели на его босые ноги сандалии, какие носят монахи нищенствующего ордена, облачили его в сутану святого Франциска и подвязали веревкой. И теперь, вытянувшись на постели, с челом, обрамленным поредевшими волосами, длинной белой бородой и со скрещенными на груди руками, неаполитанский король похож был на отшельника преклонных лет, истощившего силы свои на умерщвление плоти, чья душа, поглощенная созерцанием небесных сфер, незаметно для себя переходит от своего последнего экстаза к вечному блаженству. Так он лежал некоторое время с закрытыми глазами, беззвучно читая молитву; потом приказал осветить просторную комнату, как это приличествовало торжеству момента, и подал знак доктору со священником, один из которых стоял у него в головах, а другой — у изножья кровати. В тот же миг обе двустворчатые двери распахнулись, и в опочивальню, вслед за королевой, вошли члены монаршей семьи и самые знатные бароны королевства. Они молча окружили ложе умирающего, чтобы услышать его последнюю волю.
Взгляд короля задержался на Иоанне, стоявшей первой по правую руку от него с выражением неизъяснимой нежности и скорби на лице. Девушка была необычайно, ошеломляюще красива, и дед ее, завороженный этим ослепительным видением, готов был поверить, что это ангел небесный, посланный Господом утешить его в смертный час. Идеальной мягкости профиль, большие черные глаза с поволокой, высокий чистый лоб, блестящие волосы цвета воронова крыла, деликатный рот… Одним словом, прелестные черты ее любому казались исполненными глубокой грусти и нежности и навсегда оставались запечатленными в его сердце. Высокая, стройная, со станом чуть менее хрупким и угловатым, чем это обычно бывает у юных девушек, она, тем не менее, сохранила девичью же плавную небрежность движений, которая придает фигуре сходство с покачивающимся на ветру цветочным стебельком. Однако уже сейчас под улыбчивой и наивной прелестью в наследнице Роберта угадывались железная воля и решимость в преодолении препятствий, а темные круги под прекрасными ее глазами говорили о том, что ее душа прежде времени познала разрушительное влияние страстей.
Рядом с Иоанной стояла ее младшая сестра Мария, которой шел тринадцатый год. Она была второй дочкой Карла, герцога Калабрийского, не дожившего до ее рождения, и Марии де Валуа, также умершей, когда малышка еще была в колыбели. Очень миловидная и робкая, девочка совершенно растерялась в обществе столь важных особ и потихоньку прижималась к вдове великого сенешаля, донне Филиппе, по прозванию Катанийка[1], воспитательнице обеих принцесс, почитавших ее как собственную мать. За спиной у принцесс, рядом с матерью, стоял сын покойного великого сенешаля Роберт Кабанский, молодой мужчина с горделивой статью. Одной рукой он поглаживал тонкие усики и время от времени бросал беззастенчиво дерзостные взгляды на Иоанну. Замыкали группу донна Канция, молодая камеристка[2] принцесс, и граф Терлицци, обменивавшийся с этой последней то быстрым взглядом, то едва сдерживаемой улыбкой.
Вторую группу составляли молодой принц Андрей, супруг Иоанны, и брат Роберт, его наставник, последовавший за своим воспитанником в Неаполь из Буды и ни на мгновение его не покидавший. Андрею на тот момент шел восемнадцатый год. Черты у молодого принца были очень правильные, и благородная красота этого лица, обрамленного прекрасными белокурыми волосами, поражала воображение. Однако стоило принцу оказаться в окружении итальянцев с их оживленными, обаятельными физиономиями, как весь облик его терял выразительность, глаза казались потухшими, а в лице проявлялось нечто суровое, леденящее кровь, и каждый понимал, что перед ним — человек нелюдимый и чужеземец. Что до его наставника, великий Петрарка позаботился оставить нам его портрет: красное лицо, рыжие волосы и борода, невысокого роста, сутулый; надменный при всем своем убожестве, способный на любую мерзость, он, подобно Диогену, скрывал под сутаной свои нескладные, безобразные телеса.
В третьей группе находились Катерина, вдова Филиппа, князя Тарентского и брата короля, которую при неаполитанском королевском дворе все именовали по титулу императрицы Константинопольской, унаследованному ею от деда, Балдуина II де Куртене. Человеку, способному заглянуть в потаенные глубины человеческой души, с первого взгляда стало бы ясно, что за мертвенной бледностью лица этой женщины таится неумолимая ненависть, злобная зависть и ненасытное тщеславие. Рядом с нею были три ее сына: Роберт, Филипп и самый младший, Людовик. Если бы король захотел выбрать из числа своих племянников самого красивого, щедрого и храброго, корону, бесспорно, получил бы Людовик Тарентский. В свои двадцать три в ратном мастерстве он превзошел славнейших рыцарей своего времени; прямодушный, верный своему слову, отважный, для него замыслить план означало тотчас же приступить к его исполнению. Чело его сияло тем ясным светом, каким высшие силы отмечают лишь немногих избранных: то было сияние удачи; одним взглядом своих черных бархатных глаз он подчинял дýши, так что никто не мог ему противиться, а ласковая улыбка его утешала побежденных в их несчастьях. Баловню судьбы, ему достаточно было только захотеть, и какая-то неведомая сила, какая-то добрая фея, баюкавшая его еще в колыбели, тотчас же снимала все препоны и исполняла все его желания.
В паре шагов от Людовика, в четвертой группе, хмурил брови его кузен Карл, герцог Дураццо. Мать его, Агнесса, вдова еще одного брата короля, Иоанна, герцога Дураццо и Албании, взирала на него с опасением и инстинктивно прижимала к груди двух младших сыновей: Людовика, графа Гравины, и Роберта, князя Ахейского. Карл, бледнолицый, с коротко остриженными волосами и густой бородкой, недоверчиво поглядывал то на умирающего дядюшку, то на принцессу Иоанну, то на маленькую Марию, то на своих кузенов. Он явно думал о чем-то своем и был настолько взбудоражен, что с трудом стоял на месте. Его лихорадочное возбуждение и тревога составляли яркий контраст со спокойствием Бертрана дʼАртуа, стоящего тут же с мечтательным выражением на лице. Своего отца Карла он пропустил вперед, приблизившись таким образом к королеве, которая так и осталась стоять в изножье кровати, и оказался прямо напротив Иоанны. Он не сводил с нее восхищенных глаз, как если бы в комнате кроме них двоих никого и не было.
Как только Иоанна, Андрей, князь Тарентский, герцог Дураццо, графы дʼАртуа и королева Санча заняли свои места у постели умирающего, разместившись полукругом в порядке, который мы только что описали, королевский вице-канцлер пробрался через ряды баронов, столпившихся, как того и требовал церемониал, позади особ королевской крови, поклонился королю, развернул пергамент, скрепленный королевской печатью, и торжественным голосом, в полнейшей тишине, начал читать:
«Роберт, Божьей милостью король Иерусалима и Сицилии, граф прованса, Форкалькье и Пьемонта, викарий святой Римской церкви, нарекает и объявляет своей полноправной наследницей в королевстве Сицилия, до маяка и за маяком[3], и в графствах Прованс, Форкалькье и Пьемонт, а также во всех прочих своих землях Иоанну, герцогиню Калабрийскую, старшую дочь приснопамятного сеньора Карла, герцога Калабрийского, да покоится он с миром!
Помимо этого, он нарекает и объявляет ее высочество принцессу Марию, младшую дочь покойного герцога Калабрийского Карла, своей наследницей в графстве Альба и наших владениях в долине Грати и в Джордано, со всеми замками и прилегающими к ним угодьями, и повелевает, чтобы вышеупомянутая девица получила их в полноправное ленное владение от вышеупомянутой герцогини и ее наследников с одним-единственным условием: если сеньора герцогиня назначит и выплатит своей высокородной сестре или ее правопреемникам десять тысяч унций золота отступных, вышеупомянутые графство и владения останутся собственностью герцогини и ее наследников.
Также он желает и приказывает, имея на то свои тайные причины, чтобы вышеозначенная девица Мария связала себя брачными узами с высокочтимым принцем Людовиком, нынешним королем Венгрии. Если же свадьба эта не состоится по причине существования брачного договора, якобы заключенного и подписанного между венгерским королем и дочерью короля Богемии, его величество король повелевает, чтобы высокородная девица Мария вступила в брак со старшим сыном[4] высокочтимого сеньора Иоанна, герцога Нормандского, старшего сына нынешнего короля Франции».
В этом месте Карл, герцог Дураццо, бросил многозначительный взгляд на Марию, однако никто из собравшихся этого не заметил — с таким вниманием все внимали вице-канцлеру. Что же касается юной принцессы, едва услышав свое имя, она смутилась, зарделась и больше не смела поднять глаза. Вице-канцлер стал читать дальше:
«Также он желает и приказывает, чтобы отныне и навечно графства Форкалькье и Прованс оставались частью его королевства, составляя единое неделимое владение с другими его землями, под единым названием, сколько бы ни было сыновей или дочерей и какие бы причины ни вынуждали к разделу, поскольку это объединение продиктовано высшими интересами безопасности и процветания как королевства в целом, так и вышеозначенных графств.
Также он постановляет и приказывает, чтобы в случае, если герцогиня Иоанна — не приведи Господи! — скоропостижно скончается, не оставив законных наследников, плоть от плоти своей, сиятельный сеньор Андрей, герцог Калабрийский, ее супруг, получил в свое владение княжество Салерно вместе с титулом, всеми доходами, рентами и всеми правами, и помимо этого — ренту в две тысячи унций золотом на свое содержание.
Помимо этого, согласно его королевской воле, преподобному отцу дону Филиппо ди Кабассоле, епископу Кавайонскому, вице-канцлеру королевства Сицилия, и владетельным сеньорам Филиппу де Сангинетто, сенешалю Прованса, Годфруа де Марсану, графу Сквилачче, адмиралу королевства, и Карлу дʼАртуа, графу Эрскому, а более всех прочих — королеве надлежит стать наставниками, регентами и управителями при вышеозначенном сеньоре Андрее и вышеозначенных дамах Иоанне и Марии до достижения сеньором герцогом, сеньорой герцогиней и высокородной девицей Марией двадцатипятилетия, и проч., и проч…»
Когда завещание было прочитано полностью, король привстал на ложе и обвел взглядом свое красивое и многочисленное семейство:
— Дети мои, — сказал он, — вы услышали мою последнюю волю. Я призвал вас всех к своему смертному одру с тем, чтобы вы увидели своими глазами: мирская слава и почести преходящи. Те, кого народ именует сильными мира сего, при жизни влачат тяжкое бремя обязательств, а после смерти держат за свои деяния ответ — вот и все их величие. Я правил тридцать три года, и только Всевышнему, перед кем я вот-вот предстану и кто часто внимал моим вздохам за многие лета этого долгого и утомительного правления, только ему известны помыслы, кои сейчас, перед смертью, надрывают мне душу. Скоро я упокоюсь в могиле и останусь жить только в памяти тех, кто будет за меня молиться. Но прежде, чем расстаться с вами навсегда, вы, внучки мои, которые мне как дочери, ибо я любил вас и за отца, и за деда, и вы, мои племянники, о ком я заботился по мере сил и к кому питал отеческую нежность, — обещайте мне всегда быть едины душою и намерениями, каковыми я вижу вас в своем сердце! Я пережил ваших отцов — я, самый старый из всех! — и Господь, без сомнения, распорядился так, дабы вы привыкли жить единой семьей и покоряться одному владыке. Всех вас я любил одинаково, как и подобает отцу, никого не обижал и не превозносил над другими. Своей короной я распорядился, как того требуют законы кровного родства и согласно велениям моей совести. Трон Неаполя принадлежит вам, Иоанна, и вам, Андрей! Всегда помните, что долг супругов — уважать и любить друг друга, и вы поклялись в этом перед алтарем. А вы, мои племянники, и вы, мои бароны и сановники, дайте клятву верности вашим законным государям. Андрей Венгерский, Людовик Тарентский и Карл Дураццо — помните, что вы братья, и горе тому, кто в гнусности своей уподобится Каину! Да падет кровь на голову его и да будет он проклят небом, как я его сейчас проклинаю, и да пребудет благословение Отца, и Сына, и Святого Духа на всех людях доброй воли, когда милостивый Господь призовет к себе мою душу!
Король замер, воздев руки и обратив очи к небу, и щеки его пылали. Принцы крови, бароны и сановники королевства поспешили поклясться Иоанне и ее супругу в преданности и верности. Когда же настал черед Карла, герцога Дураццо, он с презрительным видом прошел мимо Андрея, чтобы преклонить колено перед принцессой.
— Вам, моя королева, я клянусь служить верой и правдой! — проговорил он звучным голосом, целуя Иоанне руку.
Все в испуге посмотрели на умирающего. Но добрый король уже ничего не слышал. Видя, что он упал на подушки и остался недвижим, донна Санча залилась слезами и скорбно воскликнула:
— Король умер! Помолимся за душу его.
Однако уже в следующее мгновение племянники и приближенные покойного бросились вон из опочивальни, и все душевные порывы, доселе сдерживаемые присутствием короля, вырвались наружу, словно снесший плотину речной поток.
— Да здравствует Иоанна! — первыми закричали Роберт Кабанский, Людовик Тарентский и Бертран дʼАртуа, в то время как разъяренный наставник принца Андрея пробирался через толпу, взывая к членам регентского совета и повторяя на все лады:
— Господа, вы забываете последнюю волю короля! Нужно кричать не только «Да здравствует Иоанна!», но и «Да здравствует Андрей!».
И, подкрепляя увещевания практикой, он в одиночку поднял столько шума, сколько все бароны вместе взятые, громогласным голосом провозглашая:
— Да здравствует неаполитанский король!
Однако славословие это так никем и не было подхвачено. Карл Дураццо, смерив доминиканца уничижительным взглядом, приблизился к королеве, взял ее за руку и тотчас же отдернул занавесь на балконе, с которого открывался вид на площадь и на весь город. В свете факелов всюду, куда ни глянь, толпились люди. Тысячи глаз были обращены к балкону Кастель-Нуово. Толпа застыла в ожидании новостей. И тогда Карл, почтительно отступив в сторону, указал на свою прелестную кузину:
— Жители Неаполя, король умер! — провозгласил он. — Да здравствует королева!
— Да здравствует Иоанна, королева Неаполя! — ответила толпа в едином порыве, и этот громогласный возглас эхом отозвался во всех кварталах города.
События этой ночи, сменявшие друг друга с поразительной быстротой, как во сне, произвели на Иоанну столь глубокое впечатление, что, раздираемая тысячей противоречивых эмоций, она удалилась в свои покои и заперлась в опочивальне, чтобы дать выход своему горю. И пока ее родичи и царедворцы со своими амбициями и притязаниями суетились у гроба неаполитанского монарха, юная королева, отвергнув утешения, которые были ей предложены, горькими слезами оплакивала смерть своего любящего деда, потакавшего едва ли не всем ее капризам. Усопшего с почестями похоронили в церкви Санта Кьяра, посвященной Святому Причастию, им же основанной и благодаря ему украсившейся великолепными фресками Джотто и многочисленными драгоценными реликвиями, в числе которых — стоящие позади главного алтаря две колонны белого мрамора, вывезенные якобы из храма царя Соломона и сохранившиеся доныне. Здесь король Роберт Неаполитанский покоится по сей день, справа от усыпальницы своего сына Карла, герцога Калабрийского, и здесь же мы можем увидеть два его изображения: на одном он представлен в королевском одеянии, на другом — в монашеской сутане. Сразу после похорон наставник принца Андрея спешно собрал представителей венгерской знати, и на этом совете, в присутствии принца и с его согласия, было решено немедленно отправить письма матери, Елизавете Польской, и родному брату Людовику Венгерскому, в коих изложить все подробности завещания короля Роберта, а еще — пожаловаться в папскую резиденцию в Авиньоне на поведение принцев крови и неаполитанский люд, которые, презрев права ее супруга, провозгласили Иоанну единовластной королевой Неаполя, и испросить позволения понтифика короновать также и Андрея. Поднаторевший в придворных интригах брат Роберт, который вдобавок к чисто монашеской хитрости обладал также и сноровкой ученого, подвел своего подопечного к мысли, что следует воспользоваться унынием, в кое, по всей видимости, повергла Иоанну кончина деда, не дав ее фаворитам времени оплести ее своими соблазнами и советами.
Но чем острее и громкозвучней наша скорбь, тем скорее она сменяется утешением. Так случилось и с Иоанной. Рыдания, грозившие разорвать ей сердце, внезапно смолкли, и новые помыслы, уже не такие мрачные и даже приятные, стали занимать королеву. Слезы высохли, и во влажных глазах ее, словно лучик солнца после грозы, снова стала проблескивать улыбка. Эта перемена, столь желанная и с таким нетерпением ожидаемая, скоро была замечена молоденькой камеристкой Иоанны. Она проскользнула к королеве в опочивальню и, упав на колени, самым вкрадчивым тоном и в самых ласковых выражениях принесла своей прекрасной госпоже первые поздравления. Иоанна распахнула ей свои объятия и долго не отпускала, потому что донна Канция была для нее не просто прислугой, она была подругой детства, хранительницей всех ее секретов, наперсницей, которой королева поверяла свои самые потаенные мысли. Достаточно было взглянуть на эту девушку, чтобы понять, почему привязанность к ней Иоанны так велика. Улыбчивое, открытое лицо из тех, что внушают доверие и моментально покоряют душу, золотистые светлые волосы, глаза ярчайшей и чистейшей голубизны, лукаво вздернутые уголки рта, точеный подбородок — все это придавало облику донны Канции неотразимое очарование. Бесшабашная, веселая, легкомысленная, живущая только ради удовольствий, слепо следующая своим сердечным порывам, восхитительная в своем остроумии и очаровательная в своем коварстве, в возрасте шестнадцати лет она была красива, как ангел, и порочна, как демон. При дворе все ее обожали, а сама Иоанна относилась к своей камеристке с большей сердечностью, чем к собственной сестре.
— Моя милая Канция, — со вздохом прошептала королева, — как видишь, я несчастна и мне очень грустно.
— А я, моя прекрасная государыня, как видите, наоборот, очень счастлива, потому что могу, прежде всех других, смиренно поведать вашему величеству, как радуется сейчас народ Неаполя! — отвечала камеристка, взирая на нее с восхищением. — Найдутся те, кто позавидует короне, сияющей на вашем челе, и трону, одному из самых величественных в мире, и приветственным кликам целого города, который, скорее, боготворит свою королеву, а не просто ее почитает; но я, сеньора, я завидую вашим прекрасным черным волосам, сиянию ваших глаз и непередаваемой грации, перед которой не устоит ни один мужчина!
— Нет, моя Канция, тебе стоило бы меня пожалеть и как женщину, и как королеву: когда тебе пятнадцать, корона кажется тяжкой ношей. К тому же я лишена той свободы, какой пользуется нижайший из моих подданных, — свободы любить по своему выбору. Прежде чем я достигла разумного возраста, меня принесли в жертву человеку, которого я никогда не смогу полюбить!
— Госпожа, а ведь при дворе есть один молодой рыцарь, — еще более вкрадчивым голосом, чем прежде, продолжала камеристка, — способный своим почитанием, своей преданностью и любовью заставить вас забыть все обиды, нанесенные этим чужеземцем, не достойным ни быть нашим королем, ни вашим супругом.
Из груди королевы вырвался глубокий вздох.
— С каких пор ты разучилась читать у меня в душе, Канция? Неужели тебе должна я признаваться в том, что эта любовь делает меня несчастной? Глупо отрицать, в первое время это преступное чувство завладело мной; мне чудилось, будто новая жизнь пробуждается в моей душе, и я дала себя увлечь мольбам, слезам, отчаянию этого юноши, тем более что и его матушка, которую я всегда любила, как родную, была к нам так снисходительна… Я любила его. Господи, я так молода, но сколько горя довелось мне изведать! Временами я ловлю себя на ужасной мысли, что он меня больше не любит и никогда не любил. Честолюбие, корысть и бог знает какие еще гнусные мотивы побудили его изображать страсть, которой он никогда не испытывал. Я к нему охладела, и сама не знаю почему. Его присутствие стесняет меня, взгляд тревожит, от звука его голоса меня бросает в дрожь, я боюсь его и отдала бы год своей молодости за то, лишь бы никогда его не встречать и не слышать!
Эти слова, по всей видимости, растрогали королевскую наперсницу до глубины души. Чело донны Канции омрачилось грустью, она опустила глаза и какое-то время молчала, показывая больше печали, нежели удивления. Наконец она медленно подняла голову и заговорила с очевидным смущением:
— Я бы не осмелилась так строго порицать человека, которого моя государыня одним только своим благосклонным взглядом вознесла выше всех смертных. Но, если упреки в непостоянстве и неблагодарности Робертом Кабанским заслужены, если он нарушил свои клятвы, участь его незавидна, ибо он презрел счастье, о котором иные всю жизнь молят Господа и за которое готовы отдать свою бессмертную душу! И я знаю того, кто день и ночь неутешно проливает слезы, страдает и сгорает от долговременного и жестокого недуга, притом что одно-единственное слово сострадания может еще его спасти, если только это слово сорвется с губ моей благородной госпожи!
— Ничего больше не желаю слушать! — вскричала Иоанна, вскакивая с места. — Совесть и так обременяет меня упреками, новых я не хочу. Несчастье постигло меня и в любви законной, и в любви преступной. Увы! Я не стану больше бороться с жестокой судьбой, я покорно склоню перед ней голову. Я — королева, и обязана посвятить себя заботам о благополучии подданных!
— Неужели вы запретите мне, сеньора, — снова заговорила донна Канция ласковым, проникновенным голосом, — произносить при вас имя Бертрана дʼАртуа, этого злополучного юноши, красивого, как ангел, и робкого, как девица? Теперь вы — повелительница, жизнь и смерть подданных — в ваших руках, но неужто не найдется в вашей душе и капли милосердия к несчастному, не совершившему никакого прегрешения, кроме любви к вам, и призывающему все силы своей души, чтобы не умереть от счастья всякий раз, когда вы с ним встречаетесь взглядом?
— Знала бы ты, какое усилие мне приходится делать над собой, чтобы отвести от него взгляд! — воскликнула королева в сердечном порыве, с которым не смогла совладать.
Желая смягчить впечатление, которое это признание могло произвести на служанку, она поспешила добавить строгим тоном:
— Я запрещаю упоминать о нем в моем присутствии, а если он посмеет жаловаться, я прикажу передать ему от моего имени, что в тот день, когда мне откроется причина его печали, я прогоню его с глаз моих навечно!
— Что ж, госпожа, тогда уж и верную свою Канцию прогоните, ибо у нее не станет сил исполнить столь жестокий приказ! И если этот несчастный не смог пробудить в вашем сердце сострадания, вы можете сами выместить на нем свой гнев, ведь он здесь, он пришел, чтобы услышать ваш приговор и умереть у ваших ног!
При этих словах, произнесенных донной Канцией достаточно громко, чтобы быть услышанными в соседней комнате, Бертран дʼАртуа вбежал в опочивальню и упал на колени перед королевой. Молодая камеристка давно заметила, что Роберт Кабанский по собственной вине лишился благосклонности Иоанны и что его тирания стала для нее столь же невыносима, как и тирания супруга. Не укрылось от Канции и то, что госпожа часто останавливает взгляд, исполненный нежной грусти, на Бертране, меланхоличном и мечтательном юноше; и если она и решилась говорить от его имени, то лишь потому, что была уверена — королева уже его любит. Как бы то ни было, кровь прилила к лицу королевы, и ее гнев уже готов был обрушиться на обе повинные головы, когда в смежной комнате послышались шаги и голос вдовы великого сенешаля, разговаривавшей с сыном, поразил их, как удар молнии. Камеристка покачнулась и побелела как смерть; Бертран в отчаянии думал о том, что своим пребыванием в спальне королевы погубил не только себя, но и ее; и только Иоанна с этим восхитительным хладнокровием, не покидавшим ее в самые трудные моменты жизни, подтолкнула юношу к резному изголовью своего ложа и прикрыла сборчатой занавесью балдахина, после чего сделала донне Канции знак выйти к своей воспитательнице и ее сыну.
Но, прежде чем мы введем в опочивальню королевы этих двух персонажей, которых наш читатель уже встречал в свите Иоанны, у кровати умирающего, стóит рассказать, благодаря какому необычайному стечению обстоятельств и с какой невероятной быстротой семья Катанийки вознеслась из народных низов к самым высоким чинам в королевстве.