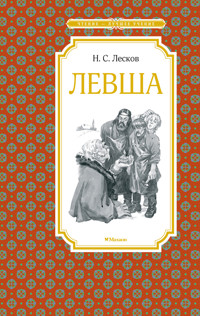
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machaon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Чтение-лучшее учение
- Sprache: Russisch
Николай Семёнович Лесков – русский писатель, публицист, литературный критик. На протяжении многих десятилетий Лесков в своих художественных произведениях и статьях, полных одновременно горечи и сарказма, не таясь рассказывал о жизни простого русского народа и смело обличал невежество чиновников. В книгу вошли два выдающихся его произведения – «Левша» и «Тупейный художник», – рекомендованные школьной программой к прочтению.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Вступительная статья Наталии Дровалёвой
Лесков Н. С.
Левша. Тупейный художник : рассказы / Николай Семёнович Лесков ; вступ. ст. Н. Дровалёвой ; худож. Н. Леонова. – М. : Махаон, Издательство АЗБУКА, 2025. – ил. – (Чтение – лучшее учение).
ISBN 978-5-389-21943-4
0+
Николай Семёнович Лесков – русский писатель, публицист, литературный критик. На протяжении многих десятилетий Лесков в своих художественных произведениях и статьях, полных одновременно горечи и сарказма, не таясь рассказывал о жизни простого русского народа и смело обличал невежество чиновников.
В книгу вошли два выдающихся его произведения – «Левша» и «Тупейный художник», – рекомендованные школьной программой к прочтению.
© Н.А. Леонова, иллюстрации, 2025
© Оформление, вступительная статья.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
«Махаон»®
«Снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру»
Николай Семёнович Лесков (1831–1895) родился в семье чиновника в селе Горохове Орловского уезда. Отец Лескова вспоминал, что, когда увидел новорождённого в первый раз, заметил необычайную серьёзность малыша, внимательно рассматривавшего лицо бабки-повитухи. «Этот мальчишка – какое-то замечательное явление в природе», – удивлялся отец и при этом высказывал опасение, что из Николеньки со временем выйдет непременно какой-нибудь «совершенно неспособный к жизни фантазёр».
Дед Николая был священником, мать – из дворян, бабушка – купчиха, а воспитывала его нянюшка – крепостная крестьянка. С детства Лесков усвоил нравы и обычаи разных сословий. Может быть, в том числе именно поэтому в будущем писателе, по воспоминаниям современников, сошлись все крайности человеческой натуры – упрямство и великодушие, доброта и резкость, крутость и простосердечие.
Детство Николеньки прошло на хуторе Панино, который купили его родители после ухода главы семьи со службы в Орле. Лесковы ютились в небольшом крестьянском домике с соломенной крышей. Здесь для ребёнка было настоящее раздолье. Ловил пескарей в прозрачной воде речки Гостомли, пас лошадей вместе с крестьянскими ребятишками, сидел у костра и слушал истории о таинственных обитателях окрестных полей. Лесков отмечал: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а вырос в народе на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ними на росистой траве… под тёплым овчинным тулупом».
В 1841 году Николая определили в гимназию, которую ему так и не удалось окончить. Проучившись там пять лет, Лесков поступил на работу канцелярским служащим в Орловскую уголовную палату суда. Дела о разорении крестьян, ссылках беглых в арестантские роты, разбиравшиеся в суде, и наказания, поражавшие своей жестокостью и неоправданностью, надолго останутся в памяти юноши, а некоторые даже лягут в основу его рассказов и статей. «Не всё дорога идёт скатертью, бывают и перебоинки», – напишет однажды Лесков в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда» (1864).
В 1848 году внезапно скончался отец Лескова, а всё семейное имущество сгорело при пожаре. После этих трагических событий юноша переехал в Киев, где поселился у своего дяди – профессора Киевского университета, который «изъял его из мертвенно-дремотного Орла в университетский Киев, поставил его в условия, благоприятствующие расширению умственного кругозора, пробуждению жажды к знанию».
Здесь Лесков продолжил служить, однако это занятие его очень тяготило: «Жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, не имеет оправдания». Вскоре Лесков поступил на работу в хозяйственно-коммерческую компанию. Благодаря делам этой компании, которые, по воспоминаниям писателя, требовали «беспрестанных разъездов» и удерживали подолгу «в самых глухих захолустьях», ему удалось объездить всю Россию и собрать «большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений» о жизни крестьян разных губерний.
Служба невольно подтолкнула Лескова к писательскому делу, о котором он никогда раньше не помышлял. С 1860 года Николай Семёнович начал печататься в петербургских и киевских газетах, где публиковал статьи о злоупотреблениях в чиновничьей среде. Его обличительные заметки были переполнены болью за судьбу простого человека. «Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья», – любил повторять Лесков.
Главным героем рассказа «Левша» (1881) становится искусный мастеровой, соединяющий в себе и достоинства, и пороки простого русского человека. Левша, чьё бескорыстие и неподкупность неразрывно связаны с осознанием своей незначительности и безропотностью, привык к постоянным побоям и наказаниям плетью. Однако при этом он не прельщается сытой и спокойной жизнью, которую сулят ему англичане, пытаясь заполучить себе талантливого мастера, а стремится на родину: «Мы в науках не зашлись, но только своему отечеству преданные… мы все к родине своей привержены». В рассказе «Тупейный художник» (1883) жестокий барин разлучает влюблённых – актрису крепостного театра и парикмахера Аркадия, отдав его в солдаты. Молодой человек не боится ни страшных пыток, ни смерти, когда речь заходит о возлюбленной. После службы в армии Аркадий возвращается домой, где в пути его неожиданно настигает злой рок… На страницах этих рассказов Лесков размышляет о том, возможно ли вообще счастье простого человека в России того времени…
Не имея совершенно никакого «снисхождения к злу», на протяжении многих десятилетий Лесков в своих художественных произведениях и статьях, полных одновременно горечи и сарказма, не таясь рассказывал о жизни простого русского народа и смело обличал невежество чиновников.
Наталия Дровалёва, кандидат филологических наук
Глава первая
Когда император Александр Пaвлoвич окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нём был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, всё государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома своё не хуже есть, – и чем-нибудь отведёт.
Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы [1], оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать своё над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, – Платов сказал себе:
– Ну уж тут шабаш. До этих пор ещё я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.
И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:
– Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, – говорит, – такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.
Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый [2] нос в лохматую бурку спустил, а пришёл в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки [3], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень [4] Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всём доме англичанам никому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее.
Глава вторая
На другой день поехал государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.
Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.
Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлён и на что смотрит; а тот идёт глаза опустивши, как будто ничего не видит, – только из усов кольца вьёт.
Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на всё это радуется, всё кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него всё ничего не значит.
Государь говорит:
– Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?
А Платов отвечает:
– Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык [5] прогнали.
Государь говорит:
– Это безрассудок.
Платов отвечает:
– Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.
А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружьё, а из другой пистолю.
– Вот, – говорят, – какая у нас производительность, – и подают ружьё.
Государь на Мортимерово ружьё посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:
– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства – её наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.
Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.
Взахался ужасно.
– Ах, ах, ах, – говорит, – как это так… как это даже можно так тонко сделать! – И к Платову по-русски оборачивается и говорит: – Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.
А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвёртку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два – замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».
Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:
– Ох-де, мы маху дали!
А государь Платову грустно говорит:
– Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.
Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов ещё больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.
Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!
«Через что это государь огорчился? – думал Платов, – совсем того не понимаю», – и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навёл.
А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.
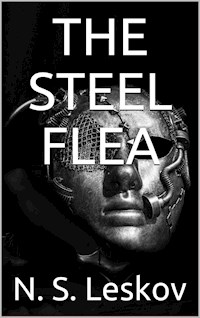













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














