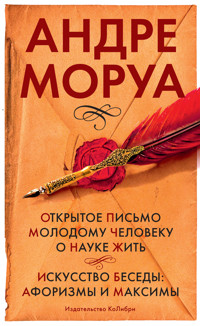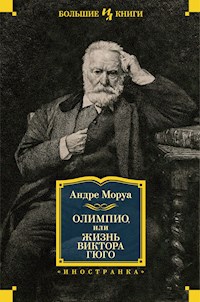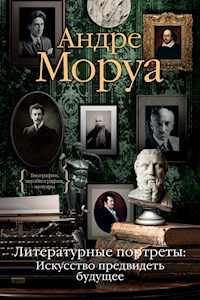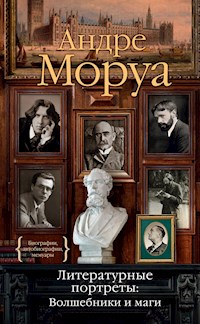
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kolibri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Персона
- Sprache: Russisch
Андре Моруа — известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно — психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа — признанный мастер романизированных биографий (Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др.). И потому обращение писателя к жанру литературного портрета — своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным. Эта книга Моруа целиком посвящена английской литературе, специфике ее развития, результатом которого стало появление таких всемирно известных писателей, как Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Бернард Шоу. Моруа, который написал эти очерки в 1920-х — первой половине 1930-х годов, волновало и влияние английских авторов на всю европейскую литературу, и судьба творческого наследия ближайших современников — Литтона Стрейчи, Кэтрин Мэнсфилд, Дэвида Герберта Лоуренса, Олдоса Хаксли и др. Многие тексты печатаются на русском языке впервые.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André MauroisÉTUDES ANGLAISESMAGICIENS ET LOGICIENSCopyright © 2006, The Estate of André Maurois, Anne-Mary Charrier, Marseille, France
Published by arrangement with Lester Literary Agency and Associates
Перевод с французского
Серийное оформление Андрея Рыбакова
Оформление обложки Ивана Лицука
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Моруа А.Литературные портреты : Волшебники и маги / Андре Моруа ; пер. с фр. Е. Богатыренко, М. Брусовани, Р. Генкиной и др. — М : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.
ISBN 978-5-389-21104-9
12+
Андре Моруа — известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно — психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа — признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета — своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным. Эта книга Моруа целиком посвящена английской литературе, специфике ее развития, результатом которого стало появление таких всемирно известных писателей, как Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Бернард Шоу. Моруа, который написал эти очерки в 1920-х — первой половине 1930-х годов, волновало и влияние английских авторов на всю европейскую литературу, и судьба творческого наследия ближайших современников — Литтона Стрейчи, Кэтрин Мэнсфилд, Дэвида Герберта Лоуренса, Олдоса Хаксли и др. Многие тексты печатаются на русском языке впервые.
© А. С. Бессонова, перевод, 2022© Е. Д. Богатыренко, перевод, 2022 © М. И. Брусовани, перевод, 2022© Р. К. Генкина, перевод, 2022 © И. В. Дмоховская, перевод, 2022© А. Н. Смирнова, перевод, 2022© Г. А. Соловьева, перевод, 2022© А. Д. Степанов, перевод стихов, 2022© М. Е. Тайманова, перевод, 2022© В. П. Чепига, перевод, 2022© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022Издательство КоЛибри®
Английские этюды
Эти «Этюды» представляют собой сборник лекций, прочитанных не по написанным текстам. Их недостатки характерны для импровизации, а также, возможно, связаны с волнением. Мне представляется, что попытка лишить их этой особенности была бы одновременно искусственной и ненужной.
Четыре лекции о Диккенсе были прочитаны в Лекционном обществе.
А. М.
Симоне
Диккенс
I. Жизнь и творчество
Говорят, что когда в 1870 году умер Диккенс и во всех английских, американских, канадских, австралийских семьях детям сообщили об этом, как если бы речь шла о потере близкого родственника, один маленький мальчик спросил: «Мистер Диккенс умер? Так что же, значит, и Пер-Ноэль умрет?»
Эти слова дают представление о том, насколько легендарной славой обладал Диккенс, и на сегодняшний день практически ничего не изменилось. Для всех англоязычных стран Диккенс остается великим народным писателем; нет никаких сомнений, что и сегодня вечером в каком-то мюзик-холле в пригороде Лондона в ходе представления, в котором участвуют акробаты, исполнители комических куплетов, танцовщики и чревовещатель, на сцену выйдет странный персонаж, Имперсонатор Диккенса, актер, умеющий изображать диккенсовских персонажей. Он просит зрителей называть имена этих персонажей, и из зала понесутся крики: «Мистер Пиквик! Сэм Уэллер! Крошка Нелл! Феджин! Миссис Гэмп! Пексниф!» Человек достает из корзины парики, одежду и, принимая поочередно облик каждого из этих бессмертных созданий, несколько минут изображает их жесты и речь. Возможно ли такое зрелище у нас? Вы можете представить себе, чтобы сидящие в зале рабочие кричали: «Вотрен! Барон Юло! Мадам Марнеф! Растиньяк!» Я — нет; конечно, вполне вероятно, что это просто свидетельствует о превосходстве Бальзака и о большей сложности его романов, но существует и еще один феномен, который следует объяснить.
Диккенс не просто остался наиболее популярным писателем одного народа, можно сказать, что он в значительной мере способствовал формированию этого народа. «Диккенсу, — как замечательно сказал г-н Казамян, — принадлежит особое место среди причин морального свойства, благодаря которым Англия избежала революции». Если в жизни английской семьи появился характерный оттенок некой нежности и сентиментальности, а жестокость некоторых зрелищ, например публичного повешения, и некоторых способов обращения с людьми, как, например, долговые тюрьмы, наоборот, исчезла из жизни британцев, если к детям бедняков в Англии стали относиться с чуть большим уважением и добротой, в этом, по меньшей мере частично, есть и заслуга Диккенса. Не многие писатели так повлияли на свои страны, потому что не многие писатели смогли так точно воплотить в себе все черты своего народа, как великие, так и низменные. Поэтому нам надлежит прежде всего попытаться понять, каким образом к двадцати годам молодой человек смог развить в себе возвышенную и одновременно приземленную чувствительность, редчайшее сочетание, без которого не может сложиться писатель, создающий великие и при этом общедоступные произведения.
Диккенс родился в 1812 году; следовательно, его первые воспоминания относятся к 1816–1817 годам, а это время было весьма знаменательным для Англии. Наступила промежуточная эпоха между сельской Англией XVIII века и индустриальной Англией XIX века. Диккенс еще успел увидеть дилижансы, останавливающиеся перед постоялыми дворами в маленьких городках, и неспешная провинциальная жизнь всегда будет для него олицетворением счастья. На протяжении всей своей юности он будет наблюдать за становлением новой Англии. В 1819 году на заводах появятся первые паровые машины; в 1830 году в путь отправится первый паровоз; с каждым годом будет увеличиваться число механических ткацких станков. Неожиданно города стали расти, и люди начали уходить из сельской местности. Работа становилась все тяжелее, и к ней принуждали даже детей. Нам трудно представить себе, на что была похожа их жизнь. Пяти-, шестилетние малыши по 12–13 часов в день вращали колеса на фабриках. Никто не протестовал, потому что в то время модной философией считалось «ничему не сопротивляться, ничему не препятствовать». Люди смертельно боялись чувств и превозносили факты. Позже Диккенс опишет человека того времени и назовет его мистером Грэдграйндом — в этом имени слышится скрежет шестеренок.
«Томас Грэдграйнд, сэр. Человек трезвого ума. Человек очевидных фактов и точных расчетов. Человек, который исходит из правила, что дважды два — четыре, и ни на йоту больше. И никогда не согласится, что может быть иначе, и не пытайтесь убеждать его. Томас Грэдграйнд, сэр, — именно Томас — Томас Грэдграйнд. Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить и измерить любой образчик человеческой природы и безошибочно определить, чему он равняется. Это всего-навсего подсчет цифр, сэр, чистая арифметика»1.
Всю свою жизнь Диккенс будет восставать против этого духа наживы, но в то же время, и в этом заключается любопытная сложность его характера, он и сам будет ослеплен могуществом внезапно открытых сил. Восемнадцатый век был периодом стабильности цивилизованного мира; дворянин жил в своей усадьбе, земледелец — в своем домике, и оба они вряд ли могли себе представить, что этот порядок вещей когда-нибудь изменится. В XIX веке каждый мещанин стремится к росту, каждый экономист провозглашает: «Обогащайтесь!», и Диккенс, пусть и против своей воли, примет этот идеал обогащения. Он на всю жизнь останется мелким мещанином, точнее — мелким английским мещанином образца 1830 года, критикующим время, в котором он живет, и в то же время насквозь пропитанным духом этого времени. Его детство было особенно драматичным именно потому, что, будучи мещанином — мещанином до мозга костей — и гордясь этим, он, вследствие бедности своей семьи, с первых лет жизни будет вырван из своего класса и отброшен к простонародью.
Он был сыном мистера Джона Диккенса, мелкого клерка в казначействе морского флота. Его отец был одновременно милейшим и опасным человеком: милейшим — потому что он был веселым, прекрасным рассказчиком, гостеприимным хозяином; опасным — потому что постоянно тратил больше, чем зарабатывал, и, проявляя странную смесь безразличия, отчаяния и легкомыслия, все глубже погружался в море долгов. Мать Диккенса была, судя по всему, женщиной недалекой, из тех, чьи шумные и бестолковые мысли разлетаются во всех направлениях, словно спугнутые шмели. Сын с ранних лет сурово осуждал ее.
В семье было восемь детей, и жизнь складывалась нелегко. Впрочем, первые воспоминания маленького Чарльза нельзя назвать неприятными. В его памяти, податливой, словно восковой валик, накрепко запечатлевались рассказы весельчака-отца. А Джон Диккенс, со своей стороны, гордился сыном. Чарльз рос красивым ребенком, с кудрявыми волосами и голубыми глазами, и к тому же был прирожденным актером. Он обладал потрясающими талантами певца и декламатора. Отец частенько приводил его в трактир, ставил там на стол и устраивал настоящий спектакль для своих друзей. Джон Диккенс умел превращать малейшее семейное событие в праздник, и к этому празднику он, посвистывая, обязательно готовил восхитительный пунш на кожуре одного лимона. Нередко отец отправлялся с сыном на долгие загородные прогулки и по дороге рассказывал легенды, которые Чарльз просто обожал. Отец показал ему Гэдсхилл, тот самый холм, на котором сэр Джон Фальстаф грабил направлявшихся в Кентербери паломников или богатеньких купцов. На холме стоял великолепный дом.
— Ах, как бы я хотел жить в таком доме! — восклицал маленький Диккенс.
— Работай, — отвечал отец, — а там — кто знает?
В девять лет мальчика поручили заботам учителя, и тот вскоре начал восторгаться успехами юного Диккенса. Впрочем, по-настоящему он учился в другом месте. На чердаке в доме Джона Диккенса лежали стопки книг, которые давно никто не читал. Чарльз забирался под крышу и поглощал «Робинзона Крузо», «Жиля Блаза», книги Филдинга, сказки «Тысячи и одной ночи», подшивки журналов и, самое главное, «Дон Кихота» — эта книга стала его любимой.
К несчастью, долги отца росли, лимонный пунш готовили все реже, продавцы становились все безжалостнее. Семье пришлось переехать из Четэма в Лондон. Нет сомнений, что Джон Диккенс ожидал от Лондона того же, чего Ривароль2 ожидал от Парижа, а именно что «Провидение там более великое, чем где-либо». Однако в Лондоне Диккенсам не повезло. В доме не хватало хлеба. Дети плакали. Миссис Диккенс, будучи достаточно образованной женщиной, решила было открыть школу. Дело дошло до того, что на двери повесили медную табличку с надписью: «Школа миссис Диккенс для девочек». Увы, ни одна девочка так и не появилась; впрочем, никаких приготовлений к приему учениц также сделано не было. Разве что маленькому Чарльзу поручили разносить объявления по домам. Единственными гостями семьи стали кредиторы, которые выносили оттуда последние предметы обстановки; в доме постоянно ссорились; в конце концов мистера Джона Диккенса арестовали и препроводили в долговую тюрьму Маршалси.
Можно представить себе, какой ужас должен был испытывать живой, умный, гордый десятилетний мальчуган, когда его отец оказался в тюрьме. Ребенка терзали испуг, тревога и стыд, невероятный стыд. Оставшись единственным мужчиной в доме, рядом с матерью, не способной ничем помочь ему, мальчик был вынужден делать все: он чистил ботинки всей семье, присматривал за братишками и сестренками, ходил за покупками, пытался продать то немногое, что еще оставалось в доме, а если выдавалась свободная минутка, отправлялся на свидание к отцу в тюрьму. Став главой семьи, он должен был попытаться заработать на жизнь, и вот в одиннадцать лет нанялся подмастерьем к дальним родственникам, неким Ламертам, занимавшимся производством гуталина. В его обязанности входило закрывать банки с гуталином промасленной бумагой, потом синими бумажными крышечками, обвязывать их бечевкой и наклеивать этикетки. Он работал в подвале, среди невежественных, вульгарных мальчишек, и получал шесть шиллингов в неделю. Спустя немного времени, когда Чарльз как следует наловчился, хозяева подумали, что он может принести пользу, устраивая представление перед прохожими. Его усадили в витрину, и маленькие мальчики и девочки со всего квартала прижимались носом к стеклу и, дожевывая свои бутерброды с вареньем, наблюдали за его работой.
Диккенс никогда не забудет унижения, испытанного им в те дни. Жизнь казалась ему более чем несправедливой. Именно в то время он начал жалеть детей, и именно тогда у него зародилась мысль, непоколебимая и при этом совершенно правильная, о том, что никто не может страдать так, как страдает ребенок. Гораздо позже, став знаменитостью, он никогда не переставал думать об этих ужасных годах, и думать о них с чувством стыда. Он никогда и ни с кем не говорил об этом; его жена так и не узнала, что происходило с ним в те годы, а мистер Форстер3, его лучший друг и биограф, тоже оставался бы в полном неведении, если бы однажды случай не заставил Диккенса исповедаться. Лишь в одном романе писатель смог освободить свою душу от тяготившего ее груза, и этот роман, «Дэвид Копперфилд», стал его лучшим произведением.
Самым любимым днем мальчика была суббота, потому что именно в субботу в его кармане появлялись шесть шиллингов; он шел домой, рассматривая витрины магазинов, прежде всего книжных, и иногда покупал черствый пирожок из тех, что кондитеры продавали за полцены. Вскоре денег, чтобы платить домовладельцу, совсем не осталось, и все семейство — мать и дети — переселилось в долговую тюрьму, потому что в этих удивительных заведениях можно было снять квартиру для проживания всей семьи. Порой дети рождались в Маршалси и воспитывались там до двадцати лет. Чарльз не пошел жить в тюрьму, он по-прежнему пытался хоть чем-то помогать родне. Ему нашли крохотную комнатку. Всю неделю он работал на гуталиновой фабрике, а воскресенья проводил в тюрьме вместе с семьей.
Что касается мистера Джона Диккенса, он никогда не прилагал усилий, чтобы преодолеть свое невезение, постоянно надеясь на какой-то счастливый случай, и действительно дождался такого случая: неожиданно свалившееся маленькое наследство помогло ему выйти из тюрьмы. Юный Чарльз собрал в кулак все свое мужество и рассказал отцу, какие страдания испытывал, тратя свои детские годы на нелепую работу среди грубых и неотесанных людей, когда ему так хотелось учиться. Отец все понял и пообещал забрать сына с гуталиновой фабрики и отправить в школу. Однако миссис Диккенс, женщина практичная, может быть, скупая и, безусловно, глупая, живо восстала против этого решения. Чего ради идти в школу? Впрочем, мистер Диккенс выдержал ее натиск и отправил сына к мистеру Джонсу, директору академии Веллингтон-хаус.
Грубый и невежественный мистер Джонс не скупясь награждал учеников жестокими ударами своей длинной трости. В школе Диккенс познакомился еще с одной стороной несчастного английского детства, о которой мы узнаём из жутких описаний подобных заведений в «Дэвиде Копперфилде», «Николасе Никльби» и «Домби». Сам он недолго терпел хлыст мистера Джонса. Семье снова перестало хватать денег, и нужно было возвращаться к работе. Чем заняться? Чарльз хотел бы стать актером, но был еще слишком юн. К этому времени он выработал красивый почерк и хорошо выучил орфографию; его устроили писарем к стряпчему. Там жизнь предстала перед ним во всем многообразии, во-первых, потому, что перед глазами подростка проходила непрестанная череда сутяг и разворачивались все новые и новые судебные дела, а во-вторых, потому, что его использовали как мальчика на побегушках и он, разнося по адресам документы, побывал чуть ли не на всех улицах Лондона. За два года он хорошо узнал всю красоту, все загадки этих улиц4.
Тем временем его отец, поняв, что от наследства вот-вот ничего не останется, решился и сам начать работать, выучил стенографию и стал репортером при палате общин. Юный Чарльз завидовал отцу; он считал, что слушать выступления великих людей куда интереснее, чем переписывать всякую ерунду. Потратив все свои сбережения — десять шиллингов и шесть пенсов, он купил старый учебник стенографии. Этот маленький мальчик обладал огромной силой воли и полагал, что все заслуживающее называться делом должно быть сделано хорошо, и в результате очень скоро он стал великолепным стенографистом. Вначале его взяли на работу в Канцлерский суд, а потом в газету «Тру сан» в качестве парламентского редактора. Вскоре за ним закрепилась слава самого ответственного репортера в Лондоне. Каждый раз, когда какому-то министру или выдающемуся политическому деятелю предстояло произнести важную речь в провинции, освещать ее поручали юному Диккенсу. Перед ним открывались новые возможности для наблюдения за людьми и вещами, за избирательными кампаниями, за сельскими праздниками, за восстаниями. Ему платили пять гиней в неделю, и этого вполне хватало на жизнь молодому человеку. Теперь им овладело новое могучее стремление — стать писателем.
* * *
Прервемся на минутку и посмотрим, с каким багажом этот молодой человек вознамерился войти в литературную жизнь. Он подошел к ней прекрасно оснащенным. Чтобы стать великим романистом, надо прежде всего обладать обширным и богатым знанием человеческой природы. Конечно, любой умный и чувствительный юноша может написать хороший роман — свою сентиментальную автобиографию; но зачастую, сделав это, он понимает, что его силы истощились. Некоторые спасаются тем, что придумывают новую тональность, новую форму для своих произведений и пишут прелестные стихотворения в прозе, называя их романами; однако настоящему роману необходимо питаться опытом; вот почему молодые романисты — это явление столь же редкое, как и престарелые лирические поэты; вот почему почти все великие романы мировой литературы написаны авторами старше сорока лет.
Впрочем, кому-то, и это исключительные случаи, удавалось уже с отроческих лет познать жизнь с самых разных сторон. В частности, работа в конторе стряпчего представляется отличным местом для формирования писательского таланта в раннем возрасте. Через это прошли юный Бальзак и юный Диккенс.
Что касается Диккенса, задумайтесь об удивительном многообразии образов, запечатленных его памятью в юные годы. Детство в маленьком городке, постоялый двор, солдаты, моряки, рассказы отца, друзья, путешественники, выходящие из дилижанса; Лондон, мир торговцев и кредиторов; невежественные мальчишки на гуталиновой фабрике, рабочие помещения, тюрьма, где по воскресеньям маленький мальчик, восприимчивый к каждому слову, видит своего отца среди неисправимых должников; ужасная школа, работа у стряпчего; лондонские улицы, где разворачиваются удивительные сцены; палата общин, суд и, наконец, восхитительное ремесло выездного репортера, который, можно сказать, охотится за интересными новостями. По правде говоря, если бы родители захотели сделать из Чарльза великого писателя и стали бы искать для него занятие, чтобы он сумел преуспеть в этой профессии, им вряд ли удалось бы найти что-то более подходящее, более интересное. И задумайтесь также над тем, что все эти бесчисленные события он увидел глазами ребенка, — это был взгляд совершенно свежий и одновременно искажающий действительность. Диккенсовский Лондон будет населен бандитами, ворами, которых может вообразить одинокий и испуганный маленький мальчик, расхаживающий по городу туманными ночами. Его мелодрамам до самого конца будет присущ несколько наивный тон трагического гиньоля, ибо Диккенс навсегда сохранит двойственный характер — став мужчиной, он будет смотреть на мир глазами ребенка.
В конечном счете все складывается вполне благоприятно. Счастлив тот писатель, у которого было яркое детство. С того момента, как он становится профессионалом, так или иначе он оказывается втянутым в среду специалистов, в мир литераторов, просто в общество; но даже если не брать это в расчет, его затягивает профессиональный долг. Новая жизнь не сильно обогащает его, — во всяком случае, эти знания никоим образом невозможно передать широкой аудитории. Поэтому человек, уже к двадцати годам располагающий материалом, с помощью которого он выстроит свое творчество, оказывается в привилегированном положении, и даже вдвойне привилегированном: если допустить, что позже, лет в сорок или пятьдесят, писатель переживет приключения, которые дадут ему материал для творчества, он не может быть уверен, что успеет претворить свои наблюдения в материал литературный. Для того чтобы мозг художника постепенно переработал реальное событие в событие литературное, требуется долгое время: страсти должны улечься, лишь тогда их можно будет описать без недомолвок. В зрелом возрасте Стендаль создал «Красное и черное» и «Обитель», выведя в них того молодого человека, которым он когда-то был, а Диккенс в тридцать восемь лет создал на основе своих детских воспоминаний «Дэвида Копперфилда». Они смогли это сделать, потому что и у того, и у другого детство было насыщенным и полным переживаний. Обретая заново силу своей юношеской любви и своей ярости, они словно находили давно спрятанные сокровища.
Подведем краткий итог и перечислим черты, сформировавшиеся в характере этого юноши. Ребенок, который страдал, который знает, что такое страдание, и который на всю жизнь сохранит по отношению к беднякам симпатию, немыслимую для тех, кто сам не испытал бедности. Итак, первая черта — жалость. Вторая черта — стремление покарать. Жестоких людей, эксплуатирующих детей, лицемеров, притворяющихся набожными, но недостаточно набожных, чтобы быть милосердными; учителей, третирующих своих учеников, тюрьмы, нищету, наглость — теперь ему предстоит одержать над ними победу, и он одержит ее. Впрочем, характер Диккенса таков, что его стремление к возмездию не может принять революционную форму. Он не хочет менять порядок вещей, он хочет лишь улучшить его, причем через доброту. Будучи прежде всего представителем среднего класса, мещанином, он по-прежнему более всего желает обладать великолепным домом в Гэдсхилле; он хочет добиться успеха, причем в мирском смысле слова. Хотя писательство приносит ему радость, и большую, мысль о том, чтобы сделаться приверженцем чистого искусства вроде Флобера, для него просто неприемлема. Он художник, потому что испытывает потребность самовыражения и при этом может выражать живые чувства, но он хочет иметь читателей, много читателей. И у него есть все, чтобы завоевать читателей, потому что он похож на них и в то же время обладает опытом, которого у них нет. Таким был молодой Чарльз Диккенс, юноша со стальным взглядом; судьбой ему было предначертано в двадцать лет стать писателем.
* * *
В двадцать два года он попробовал написать короткий рассказ и опустил его в почтовый ящик некоего журнала. Через неделю он купил новый выпуск этого журнала и с восторгом обнаружил в нем свое творение. Тогда он написал второй рассказ — судьба этого произведения оказалась не менее удачной, — а затем последовала целая серия публикаций в газете «Ивнинг кроникл» — за них платили семь гиней в неделю. Диккенс называл свои статьи «скетчами», то есть очерками, и подписывал их псевдонимом «Боз». Они были посвящены провинциальной жизни и жизни Лондона. За «Нашим приходом», «Церковным сторожем», «Школьным учителем», «Священником», «Капитаном в отставке» последовали сцены лондонской жизни, и заголовки этих историй в чем-то походили на названия картин Тёрнера5: «Улицы. Утро», «Улицы. Ночные впечатления», «Лавки», «Омнибусы», «Парламент», «Ньюгейтская тюрьма». Признание пришло к Диккенсу сразу. В этих очерках, пусть и в миниатюре, отразилось все, что вызывало его отклик, все, что радовало, и все, что он ненавидел. Лондонцев восхищало, что кто-то наконец описал странную поэтичность их города — поэтичность, отчасти созданную его туманами, его сыростью, его призрачной атмосферой, оставляющей на самых простых предметах налет тайны и безумия. Как же сильно юный Диккенс ощущал это тревожное очарование в то время, когда шел один по незнакомым улицам, возвращаясь поздно вечером с гуталиновой фабрики! И он по-прежнему лучше, чем кто бы то ни было, чувствовал причудливую домашнюю поэтичность этой страны, где мир вне дома так печален; и как раз именно потому, что на улице царят холод, дождь и туман, ощущение дома — the home, с его жарким огнем в камине и непременным чайником, приобретает особую ценность и затрагивает самые глубокие струны души.
«Но во всей красе улицы Лондона, — пишет Боз, — предстают перед вами в темный, промозглый зимний вечер, когда влаги оседает достаточно, чтобы тротуары стали скользкими, но слишком мало для того, чтобы смыть с них грязь и мусор, когда тяжелый, ленивый туман обволакивает все предметы и в окружающем мраке особенно яркими кажутся газовые фонари, особенно великолепными освещенные витрины. Всем, кто в такой вечер сидит дома, хочется устроиться как можно уютнее...»6 Отметим, кстати, это слово — «уютнее», потому что, в самом деле, существует своего рода поэзия уюта, почти недоступная для южных народов, которые находят элементы поэтического скорее в красотах окружающей природы, но становящаяся все более понятной по мере приближения к северным широтам. Может быть, в Швеции, еще более холодной и унылой стране, такие поэты, как Бельман7, воспевают ощущение дома с еще большей страстью, чем англичане. Но Англия уже достаточно обделена, чтобы понять романтику уюта, и она с готовностью прислушалась к сочной и грустной музыке Боза.
Успех очерков подтолкнул Диккенса к тому, чтобы отказаться от стенографии и начать карьеру писателя. Ему было всего двадцать четыре года, но он только что обручился с Кэтрин Хогарт, дочерью одного из его коллег по «Кроникл». С ним захотел познакомиться Карлейль8. Диккенса представили ему на каком-то обеде, и Карлейль записал в дневнике: «Красивый паренек этот Боз, со светло-голубыми умными глазами, странным образом изогнутыми бровями, крупным ртом, с живым и выразительным лицом, все черты которого (брови, глаза, рот) совершенно по-особому играют, когда он говорит». Красивый паренек, живое, почти чересчур подвижное лицо — именно так описывают Диккенса все, кто знал его двадцатилетним.
Очень модный иллюстратор-карикатурист того времени, мистер Сеймур9, встретился с издателями, господами Чепменом и Холлом, с восхищением рассказал им о Бозе и заявил, что с радостью сделал бы несколько рисунков, текст к которым мог бы написать Диккенс. В качестве отправной точки можно было бы взять, например, некий клуб «Нимрод», объединяющий любителей спорта, неловких, не способных заниматься любимыми упражнениями, что могло бы дать Сеймуру повод нарисовать смешные картинки, изображающие падения с лошади, неловких охотников, провалившихся под лед конькобежцев. Диккенсу идея понравилась; впрочем, он сказал, что не хотел бы писать текст к готовым иллюстрациям; по его мнению, было бы естественнее, если бы сначала был написан текст, а Сеймур создал иллюстрации.
Так на свет появился мистер Пиквик. Кстати, интересно отметить, насколько странно появление и этого персонажа, и всего замысла сочинения, которым гений обязан случаю. Так и некоторые великолепные герои Шекспира и Мольера были созданы лишь благодаря тому, что авторов вдохновили внешность и талант каких-то знаменитых актеров; так и Микеланджело нашел самые прекрасные позы своих скульптур в причудливых формах глыбы мрамора. Создается впечатление, будто самым выдающимся художникам необходимо столкнуться с непреодолимым сопротивлением некой внешней формы. В первом рассказе, как предложил Сеймур, речь шла о создании клуба. Читатели присутствовали на заседании, где было решено, что мистер Пиквик и его друзья — господа Тапмен, Уинкль и Снодграсс — отправятся в окрестности Лондона и расскажут о своих впечатлениях в клубе. В иллюстрациях к первому же рассказу художник обессмертил лицо и фигуру мистера Пиквика, его очки, белый жилет, обтягивающие панталоны, круглый животик и руки, мило приподнимающие фалды фрака. В этом же рассказе описывались и особенности его характера, в котором сочетались черты г-на Прюдомма и Дон Кихота; от г-на Прюдомма он взял высокопарные позы и речи, от Дон Кихота — отвагу, с которой всегда бросался на борьбу со злом и на защиту гонимых.
Так началась удивительная литературная карьера Диккенса. Поскольку его романы публиковались в форме ежемесячных выпусков, Диккенса всю жизнь будет преследовать страх перед ожидающим его наборщиком. Наверное, никогда еще писателю не приходилось работать в таких условиях. Начиная своего «Пиквика», он понятия не имел, о чем пойдет речь дальше, и еще меньше представлял себе, что случится в конце. У него не было никакого плана; он ясно представлял себе своих героев, отправлял их в мир и следовал за ними.
Первый выпуск не имел большого успеха; после второго иллюстратор мистер Сеймур, который был немного не в себе, застрелился, и, поскольку история продавалась плохо, издатели в какой-то момент подумывали отказаться от публикации. Потом подыскали нового иллюстратора, Физа10, и попробовали продолжить. Читатели стали осознавать, насколько забавны мистер Пиквик, его друзья и замечательный комик Джингл, который так ловко дурачил бедного мистера Пиквика. К шестому выпуску Диккенс внезапно сообразил, что его Дон Кихоту не хватает Санчо Пансы, и подарил мистеру Пиквику слугу Сэма Уэллера.
Успех Сэма Уэллера был немедленным и ошеломляющим. Это был самый забавный и самый правдоподобный персонаж английского романа со времен Филдинга. Еще несколько выпусков — и история стала пользоваться такой популярностью, что уже ни о чем другом люди и не говорили. Торговцы называли свои товары именем Пиквика. Если первый выпуск отпечатали в четырехстах экземплярах, то тираж пятнадцатого превысил сорок тысяч. Это был успех национального масштаба.
Книгу с удовольствием читали и серьезные образованные люди, и мелкие лавочники. Некий священнослужитель рассказал г-ну Карлейлю, что, выходя из комнаты смертельно больного, которого только что причастил, услышал, как тот произнес: «Слава богу, наконец-то, что бы там ни случилось, завтра выйдет следующий выпуск „Пиквика“». Впрочем, пользовавшаяся огромным успехом книга служила не только развлечением. Мало-помалу, почти вопреки воле Диккенса, в романе зазвучали и другие ноты, неотделимые от его образа мыслей. Вначале мистер Пиквик казался почти смешным, затем его доброта, его своеобразная сердечная чувствительность стали вызывать непреодолимую симпатию. В нем воплотилась вся нежность английской живописи, весь дух Англии XVIII века, Англии деревенской, наполненной тем детским счастьем, которое англичане находят в простых радостях, наслаждением от огней Стрэнда, от скольжения по зимнему снегу, от вкусных обедов и наивной, немного смешной любви. Можно было догадаться, что автор любит людей, и люди были благодарны ему за это. При этом в книге содержались и элементы сатиры, но эта сатира была направлена против таких отъявленных злодеев, что среднему читателю и в голову не могло прийти отождествлять себя с ними. Средний британский читатель чувствовал, как его душа смягчается, он находил в Пиквике все лучшее, что было в нем самом, и считал, что юмор, не допускающий чрезмерного сближения, дает ему право становиться сентиментальным. За несколько месяцев мистер Пиквик и Сэм Уэллер действительно превратились в английских Дон Кихота и Санчо Пансу. В юном возрасте, с первых шагов в литературе Диккенс приобрел огромную популярность, и поскольку ему довелось страдать, поскольку он был человеком нежным, любящим и одновременно раненным жизнью, он радовался ей, как никто другой.
* * *
Для самого писателя такой быстрый успех у широкой публики имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным можно отнести тот факт, что человек, сформировавшийся подобным образом, избегает опасности ожесточиться вследствие испытанного разочарования; обретая уверенность в своих силах, он пишет с очаровательной легкостью, в которой, может быть, кроется один из секретов красоты. Отрицательный же аспект заключается в том, что в дальнейшем бывает очень нелегко отказаться от изысканных удовольствий, приходящих вместе с популярностью. Чтобы нравиться читателям, требуется упрощение — тем большее, чем больше их становится. Именно с этим мы сталкиваемся в больших школьных классах, где легко скатиться к уровню самых посредственных учеников. Слишком читаемый автор может испытать искушение писать для самых посредственных читателей. Данное обстоятельство могло представлять особую опасность для любившего славу и нуждавшегося в финансовом успехе Диккенса. Однако в двадцать четыре года слава воспринимается как прелестное приключение, и никогда еще она не доставалась человеку, который в такой мере заслуживал ее.
В период, когда печатался «Пиквик», Диккенс женился. У его жены было несколько сестер, и одна из них, Мэри Хогарт, поселилась с молодоженами. Очень скоро Диккенс осознал, что любит по-настоящему не свою супругу, а эту серьезную и милую семнадцатилетнюю девушку. После свадьбы прошло совсем немного времени, и однажды вечером, когда все трое вернулись из театра, у Мэри внезапно начался непонятный и странный приступ, а спустя несколько часов она умерла. Диккенс страшно горевал; в течение нескольких недель он не находил в себе мужества приняться за работу; публикацию «Пиквика» пришлось прервать. «Могу сказать, — писал он через много лет, — что даже во время прогулки, даже во сне я не в силах избавиться от воспоминаний об этом жестоком испытании, об этом великом горе... Ах, если бы она была сегодня с нами, неизменно веселая, идеальная подруга, понимавшая все мои мысли и сопереживавшая всем моим чувствам, как никто другой в целом мире, думаю, что я не мог бы желать ничего, кроме продолжения такого безупречного счастья». Он решил, что его должны будут похоронить рядом с ней; с памятью о ней Диккенс не расставался до конца жизни. Еще позже он написал: «Я грезил о ней каждую ночь на протяжении многих недель, и эти грезы были всегда полны таким спокойным, таким утешительным счастьем, что вечером, ложась спать, я неизменно надеюсь, что увижу, как ее тень придет повидаться со мной». А в год собственной смерти он отмечал: «Она по-прежнему присутствует в моих мыслях, и память о ней стала для меня чем-то необходимым, такой же неотъемлемой частью моей жизни, как биение моего сердца». Мэри Хогарт оказала огромное влияние на творчество Диккенса. Благодаря ей в воображении писателя возник особый образ — в его книгах будет неизменно возникать очень юная, очень нежная, идеальная женщина.
В творчестве каждого писателя обязательно присутствуют некие постоянные персонажи, с которыми у него возникает сильная эмоциональная связь. В случае Диккенса мы прежде всего имеем в виду образ маленького несчастного мальчика, обреченного на тяжелую жизнь среди враждебно настроенных людей, но ухитряющегося при этом оставаться добрым, и этот маленький мальчик (то есть сам Диккенс) станет вначале Оливером Твистом, а потом Дэвидом Копперфилдом. Затем рядом с ним появляется юная, хрупкая и идеальная девушка, и Мэри Хогарт превратится в крошку Нелл из «Лавки древностей», Агнес из «Дэвида Копперфилда», крошку Доррит из одноименного романа. Так в творчестве Стендаля разными ипостасями одного и того же образа станут Фабрицио, Жюльен, Люсьен Левен, а в творчестве Толстого — Пьер Безухов и Левин. В творчестве каждого автора обязательно присутствует либо некое бесконечно ускользающее «я», либо очаровательный и непостоянный образ нежно любимого существа, а с течением лет переменчивые события жизни наделяют их особыми чертами, позволяющими отличить друг от друга эти последовательные авторские варианты одного и того же портрета.
* * *
Диккенсу и его жене пришлось заново устраивать свою жизнь. К ним переехала другая сестра миссис Диккенс, Джорджина Хогарт, и Чарльз снова принялся за работу. Успех у читателей обеспечивал ему бесчисленные «заказы». Все издатели жаждали получить от него истории, подходящие для публикаций с продолжением, и он начал писать «Оливера Твиста». Эта книга совершенно не похожа на «Пиквика». На сей раз Диккенс не рассказывает о разнообразных и довольно небрежно связанных друг с другом приключениях, он пишет последовательную историю, настоящий роман. Это история маленького мальчика, сироты, который вначале воспитывался в кошмарном работном доме, своего рода Бастилии для бедняков, учрежденной согласно новому Закону о бедных; потом сделался подмастерьем, убежал, связался с ужасными лондонскими разбойниками, но умудрился сохранить чистоту даже в этом окружении. Первые эпизоды книги представляют собой жесткую сатиру на бесчеловечные черты официальной благотворительности, присущие работному дому. Хочу прочесть вам несколько строк, ибо Оливер Твист, просящий «еще немного каши», — это один из образов, составляющих наследие Диккенса, завещанное им каждому англичанину, наделенному воображением. Диккенс объяснил, как уважаемые джентльмены, входящие в совет работного дома, придя к заключению, что несчастным слишком хорошо живется в этом доме, потому что там слишком хорошо кормят, решили сократить рацион до ничтожных порций овсяной каши.
«В течение первого полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которая после одной-двух недель каши висела мешком на их исхудавших телах. Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки, и совет был в восторге»11.
Именно в этот момент дети, чей аппетит еще труднее укротить, чем аппетит взрослых, посовещались и бросили жребий — кому из них попросить добавку после ужина. Жребий выпал Оливеру Твисту.
«Каша исчезла; мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру. Он был совсем ребенок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью:
— Простите, сэр, я хочу еще.
Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от изумления, мальчики — от страха.
— Что такое?.. — слабым голосом произнес наконец надзиратель.
— Простите, сэр, — повторил Оливер, — я хочу еще.
Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руку и завопил, призывая бидла.
Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал:
— Прошу прощения, господа, Оливер Твист попросил еще каши!
Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.
— Еще каши? — переспросил мистер Лимкинс. — Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил еще, после того как съел полагающийся ему ужин?
— Так оно и было, сэр, — ответил Бамбл.
— Этот мальчик кончит жизнь на виселице, — сказал джентльмен в белом жилете. — Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице»12.
В то время простые люди в Англии искренне ненавидели работные дома, и «Оливер Твист» сделал очень много, чтобы привлечь внимание к недостаткам этих учреждений. Роман в целом, несмотря на несколько шаржированные, немного мелодраматичные эпизоды, получился блестящим, волнующим, и благодаря второй книге слава двадцатишестилетнего Диккенса утвердилась окончательно.
Одновременно с тем, как подходила к концу публикация «Оливера Твиста», причем ни один из ежемесячно появлявшихся эпизодов не был написан заранее, Диккенс начал публиковать следующую книгу — «Николаса Никльби». Такой подход к делу свидетельствовал о немалой уверенности автора в своих силах и изобретательности; впрочем, в то время все, кто общался с Диккенсом, отмечали, что, несмотря на невысокий рост, он производил незабываемое впечатление сильного человека. По словам миссис Карлейль, «можно было подумать, что он сделан из стали», а критик Ли Хант13 отмечал: «Такую потрясающую голову редко можно встретить в светских гостиных! Его жизни и души хватило бы на пятьдесят человек». На первый взгляд Диккенса можно было принять скорее за выдающегося делового человека, за бизнесмена, а не за писателя. Его гениальность сочеталась с великодушием и потребностью творчества, но в нем по-прежнему жил английский мещанин 1838 года, убежденный в том, что успех — это добродетель, и мечтающий о блестящей и беззаботной жизни для себя и своих близких. Впрочем, такая смесь не отвращала благодаря веселому, безудержному задору, который сопутствовал всем этим чертам характера и сглаживал их.
Диккенсу в то время постоянно требовалось быть в движении. Поскольку у него над душой стоял печатник, ожидавший экземпляр новой рукописи, писатель работал по утрам, между завтраком и ланчем. После полудня он обязательно совершал длинные прогулки, пешком или верхом, чтобы встряхнуться после умственной нагрузки и заново приобщиться к реалиям английской жизни, составлявшим смысл его существования. Как только удавалось выиграть немного времени у печатников, он позволял себе день отдыха, то есть день выматывающих физических нагрузок; в таких случаях он отправлял своему другу Форстеру срочное послание: «Отличное утро для прогулки в деревне. Неужели Вы не можете, не в состоянии, не должны, не хотите испытать искушение таким чудесным днем?» Или: «Я ухожу ровно, заметьте, ровно в половине второго. Пойдемте, пойдемте, пойдемте гулять по зеленым тропинкам. Благодаря этому Вы сможете лучше работать целую неделю. Приходите, я буду ждать Вас». Или же: «Вам известно, что у меня не будет никаких возражений против утренней котлетки в сельском трактире? Где именно? Где? В Хэмпстеде? В Гринвиче? В Виндзоре? Где? Ибо что еще можно делать в такой день, как не наслаждаться сельской жизнью?»
Но больше всего он нуждался в ночных прогулках по Лондону; он сохранил такую привычку с детства, и, судя по всему, это было ему необходимо, чтобы питать вдохновение. Диккенса не волновала погода; в туман, в дождь, в снег он бродил по самым странным кварталам, улавливая по пути какие-то фразы, записывая их, подслушивая под дверью одной лавки, присматриваясь к странному убранству другой, идя по пятам за парочкой юных хулиганов. После долгой ночной прогулки, позволявшей возобновить знакомство с «его» Лондоном, утренняя работа казалась совсем не трудной.
Он нуждался только в этом — в насыщенной и простой жизни большого города. Светская жизнь была для Диккенса совершенно бесполезной. Конечно, благодаря успеху он получал тысячи приглашений; его жаждали принимать во всех гостиных; какое-то время он с удовольствием посещал салон леди Блессингтон14, но никогда не чувствовал себя там вполне уютно. Диккенс слишком хорошо помнил свое несчастное детство. Стоило ему войти в какую-то гостиную, как его невероятно зоркие глаза утрачивали способность четко фиксировать все окружающее; его зрение искажалось, и он видел в других людях лишь их неприятные черты. Он чувствовал, что должен черпать силы от своих многочисленных читателей, испытывавших те же простые чувства, что и он сам. Их поддержка делала его непобедимым.
* * *
Как правило, в жизни талантливого писателя наступает момент, когда он чувствует в себе способность создавать миры, удерживать на своих плечах вселенную. В этот момент у него рождаются замыслы, сравнимые по своим масштабам со строительством Вавилонской башни; именно в такой момент какой-нибудь Бальзак набрасывает план «Человеческой комедии» и на этом фундаменте собирается вырезать орнамент из ста «Озорных рассказов». Именно в такой момент какой-нибудь Флобер задумывает произведения вроде «Саламбо» или «Искушения святого Антония». После выхода в свет «Николаса Никльби» Диккенс ощущал себя полубогом.
Ему пришла в голову идея издания, устроенного наподобие старого «Спектейтора» Аддисона, то есть издания, где какие-то вымышленные персонажи почти постоянно сталкивались бы с реальной повседневной жизнью страны. Он выбирал бы героев, которые каждую неделю встречались бы между собой с той или иной целью и рассказывали бы друг другу истории, обсуждали увиденное, говорили о прочитанных книгах.
Каждую неделю два великана, Гог и Магог, встречались бы в Гилдхолле15 и вели бы беседы в духе «Тысячи и одной ночи», сдабривая их неиссякаемым потоком юмора. «Таким образом, я начал бы, — говорил он, — публикацию серии сатирических статей, которые были бы представлены как переводы некой дикарской хроники и в них описывалось бы устройство правосудия в стране, которая никогда не существовала. Цель этой серии статей, которую я не могу сравнить ни с чем, кроме описания путешествий Гулливера, состояла бы в том, чтобы наблюдать за представителями лондонских и провинциальных судебных властей и никогда не допускать, чтобы эти достойные персонажи оказывались предоставлены самим себе». На первый взгляд, странная миссия для писателя, но нельзя забывать, что Диккенс придавал очень большое значение социальному характеру своего творчества, что в «Оливере Твисте» он критиковал работные дома, в «Николасе Никльби» — учителей-тиранов, а самого себя он считал реформатором в той же мере, что и писателем.
Постепенно у него в голове сложился довольно точный план публикации. Центральным персонажем должен был стать старик, мистер Хамфри, живущий в странном доме и относящийся к диковинным часам как к товарищу, с которым приятно проводить долгие вечера. История должна была называться «Часы мистера Хамфри». Внутри напольных часов старик хранил старые рукописи и каждую неделю читал одну из них вслух своим друзьям и соседям.
Именно в такой форме и был выпущен первый номер издания, разошедшийся тиражом 70 000 экземпляров. Но стоило читателям обнаружить, что новая затея их любимого автора не предусматривала публикацию историй с продолжением, как они с разочарованием отвернулись от Диккенса. Продажи второго номера провалились. Диккенс очень расстроился. Внешне он производил впечатление человека из металла, но на самом деле был настоящим неврастеником и мог работать только в атмосфере благожелательности и всеобщей любви. Враждебность критиков настолько ранила его, что он отказался читать их статьи. Пришлось заново завоевывать популярность. В третьем номере он попытался ввести в рассказ старых друзей своей публики — мистера Пиквика и Сэма Уэллера. Но даже это не помогло. Зато одна из историй, под названием «Лавка древностей», которую начал рассказывать мистер Хамфри, сразу восстановила расположение читателей. Диккенс мгновенно понял, что в рассказе, задуманном как простая новелла, можно найти материал для длинного романа и, исполненный чудесной и наивной уверенности, решил окончательно отказаться от истории мистера Хамфри, изменить форму публикаций и превратить их в простой роман с продолжением, по образу и подобию своих первых книг. Вот почему первые главы романа «Лавка древностей», если он напечатан без сокращений, не имеют никакой связи с остальной книгой.
«Лавка древностей» представляла собой трогательное и трагическое повествование, главную героиню которого, маленькую девочку по имени Нелл, окружали жестокие или пугающие персонажи. Чем дольше Диккенс работал над этим романом, тем в большей степени он воплощал в образе Нелл памятные черты своей покойной свояченицы. Истинные чувства всегда заразны; никогда еще читательские симпатии не были столь сильны.
Дойдя до середины книги, Диккенс еще намеревался дать ей, как почти всем своим произведениям, счастливый конец. Однако его друг Форстер заметил, что смерть героини в юном возрасте будет гораздо менее банальным поворотом сюжета; таким образом, возраст никогда не испортит это прелестное и чистое создание. Диккенс, хотя и не без сильных опасений, последовал совету друга; согласившись с ним, он сделал все возможное, чтобы оттянуть момент, когда придется взяться за последнюю главу. «Эта смерть, — писал он Форстеру, — отбрасывает на меня ужасную тень, и я с трудом могу продолжать работу. Я еще долго не оправлюсь от нее. Никто не будет оплакивать Нелл так, как я. Это настолько ужасно для меня, что я не могу до конца выразить свое горе. Стоит мне лишь подумать о том, как именно я буду должен написать обо всем этом, и все мои старые раны начинают кровоточить. И Бог знает, что мне предстоит сделать! Когда я думаю об этой грустной истории, мне кажется, что бедная Мэри умерла только вчера».
Эти слова произвели большое впечатление на Форстера, и он ответил Диккенсу письмом, за которое тот впоследствии его поблагодарил: «Когда я, по Вашему мудрому совету, начал размышлять над подобным финалом, я решил попытаться написать текст, который могли бы читать те, кого посетила смерть, и чувствовать при этом умиротворение и утешение. Вчера вечером, после Вашего ухода, я писал до четырех часов утра и закончил эту историю. Мне очень печально думать, что я навсегда расстался со всеми этими персонажами; мне кажется, что я уже никогда больше не смогу привязаться ни к какой группе персонажей».
Книга имела огромный успех, и благодаря ей репутация Диккенса упрочилась. Ему удалось достичь самой искренней задушевности, не растеряв при этом своего природного юмора; редкое и драгоценное сочетание! Я больше не могу перечитывать относящиеся к этому периоду книги Диккенса, не думая о том, что однажды сказал мне великий английский романист Джордж Мур16. Мы говорили об Анатоле Франсе. «Да, — сказал мне Мур, — если вам угодно, это большой писатель, но только, понимаете ли, он считает, что жизнь комична... А на самом деле жизнь вовсе не комична, она восхитительна». Не думаю, что Мур был прав в отношении Франса, который прекрасно знал, что жизнь трагична, и назвал свой самый грустный рассказ «Комической историей»17. Но полагаю, по самой сути своей мысли Мур был прав. Жизнь одновременно и комична, и трагична, и именно в силу своей двойственности она восхитительна. Между тем Диккенс прекрасно понял грустное изящество человеческой жизни, ее скрытую вуалью, словно затуманенную веселость. Конечно, еще до него эти черты показали другие — например, Стерн или Голдсмит, но он, может быть в силу своего трудного детства, столкнувшего его с жизнью простого народа, оказался в большей степени способным поделиться своими чувствами с целой страной читателей.
II. Жизнь и творчество(Продолжение)
В 1842 году Диккенсу тридцать лет и он — один из самых известных людей своего времени. В Америке его читают не меньше, чем в Англии. Многие американские читатели мечтают, чтобы он посетил их страну; Диккенса привлекает идея такого путешествия, так как он считает, что в Соединенных Штатах ему предстоит выполнить некую миссию.
В то время между Англией и Америкой не существовало никакого договора об охране авторских прав. Английских писателей буквально грабили, и жаловаться было некуда. Можно предположить, что успех вселил в Диккенса чрезмерную уверенность в своих силах и он полагал, что стоит ему пересечь океан и разъяснить американцам сложившуюся ситуацию, как все проблемы будут решены.
На первых порах его ждал восторженный прием; Диккенса приветствовали на пристани; на него обрушилась такая лавина писем, что пришлось нанять секретаря, а приглашений присылали столько, что ему пришлось объявить, что он не сможет принять ни одного из них. Поклонники прорывались к нему в гостиничный номер и преследовали буквально до кровати. Вскоре все это стало его раздражать. Единственное, что радовало, — это мысль о том, что хватило нескольких книг, написанных с легкостью, удовольствием, почти играючи, чтобы вызвать такую волну восторга в огромной и чужой стране. Диккенса переполняло изумление, но не тщеславие. Отнюдь, поскольку истинный художник настолько отходит от завершенного произведения, что не принимает на свой счет поднявшуюся вокруг него шумиху. Если он когда-то и испытывал какую-то гордость, то лишь в пылу творчества. «Видя, какой эффект производят эти книги, всю эту суматоху, — писал Диккенс, — я становлюсь скромнее, проще, спокойнее, чем был бы, сидя с пером в руке и только сочиняя их. И если я хорошо знаю свое сердце, будь этих похвал в двадцать раз больше, и то они не подвигли бы меня на какое-то безумие».
Помимо всего прочего, Диккенса шокировали американские нравы. В Америке этому реформатору бросились в глаза те же злоупотребления, что и в Англии: его возмутило рабство; он счел своим долгом выразить протест; при этом он проявил больше благородства, чем компетентности, и ему строго указали на это. В то время как в консервативной Англии можно было свободно говорить о реформах, в демократической Америке свободы слова не существовало. «Я разочарован. Здесь нет той республики, которую я хотел увидеть, здесь нет республики, которую я себе представлял. Какими бы ни были недостатки нашей старой нации, она гораздо выше всего этого».
Что же касается переговоров об охране авторских прав, они не продвигались. Диккенсу отвечали, что американские издатели ни в коем случае не могут заключать договор с английским автором, потому что тогда они лишатся права перекраивать и подгонять романы под вкусы американских читателей... Через два месяца после того, как Диккенс сошел на берег в Бостоне, он писал одному из своих друзей: «Хотя мне очень нравятся некоторые ингредиенты этого огромного блюда, должен признаться, что само блюдо мне не по вкусу». По возвращении он опубликовал весьма жесткие «Американские заметки», плохо принятые американцами.
Каким облегчением после всего этого было оказаться в старой Англии и снова погрузиться в семейные хлопоты! Он начал писать новый большой роман — «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». На сей раз он несколько расширил круг своих привычных тем. Книга открывалась едкой сатирой на скверную черту характера, которую самые прозорливые англичане называли национальным пороком, — лицемерие. Действие первых глав разворачивается в доме семейства Пексниф, и с тех самых пор мистер Пексниф считается в Англии символом лицемерия. Он не похож на Тартюфа, в данном случае речь идет о лицемерии, при котором за словами симпатии и великодушия скрываются самый жестокий эгоизм и самая ужасная скупость.
«Как мы уже имели случай заметить, мистер Пексниф был человек добродетельный. Вот именно. Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пексниф; это был человек самого примерного поведения, набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет, — но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все»18.
Я хотел бы привести вам несколько реплик из беседы этого добродетельного джентльмена с его двумя дочерями, Черити и Мерси, чтобы вы могли лучше понять, что такое «тон Пекснифа»:
«— Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, — произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, — даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице...
— С ветчиной, — подсказала негромко Черити.
— Да, с ветчиной, — подхватил мистер Пексниф, — даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще. Даже еде мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая — нам грозит водянка, если пьем виски — мы пьяны! Какая это утешительная мысль!
— Не говорите, что мы пьяны, папа, — остановила его старшая мисс Пексниф.
— Когда я говорю „мы“, душа моя, — возразил ей отец, — я подразумеваю человечество вообще, род человеческий, взятый в целом, а не кого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже вот такая штука, — продолжал мистер Пексниф, приставляя палец левой руки к макушке, — хотя это только небольшая плешь случайного происхождения — напоминает нам, что мы всего-навсего, — он хотел было сказать „черви“, но, вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил: — ...бренная плоть.
И это, — воскликнул мистер Пексниф после паузы, во время которой он, по-видимому, без особого успеха искал новой темы для поучения, — и это также весьма утешительно!»
Изначально Диккенс намеревался написать на первой станице: «Место действия: ваш собственный дом. Действующие лица: вы сами». Он воздержался от этого, и правильно сделал. Все это было слишком правдиво, чтобы быть хорошо принято.
Возможно, подобная атака на столь распространенное поведение шокировала многих читателей или же слишком сложный сюжет романа их утомил. С самого начала продажи романа шли плохо; рассчитывали, что он, как и предыдущие книги, будет продаваться месячными выпусками; но если «Лавка древностей» вышла тиражом 70 000 экземпляров, то тираж этой книги составил всего 20 000. Это тем более тяготило Диккенса, что он уже привык жить на широкую ногу, детей в семье становилось все больше и он очень нуждался в деньгах. Тогда, начиная с пятого выпуска, он решил отправить своего героя, Мартина, в Америку, надеясь, что описание нового мира возбудит интерес читателей. Эта надежда не оправдалась; так же напрасно он ввел новое действующее лицо — сиделку миссис Гэмп: она говорила на странном жаргоне и строила удивительные фразы, напоминавшие речь Сэма Уэллера. Продажи слегка выросли, но недостаточно, чтобы удовлетворить автора.
Одновременно с завершением работы над «Мартином Чезлвитом» Диккенс начал писать «Рождественскую сказку».
Ничто не могло быть привлекательнее для Диккенса, чем английские рождественские традиции. Основной его идеей, можно сказать, почти единственной его идеей была необходимость большего доверия и большей любви между людьми. Он считал, что эту любовь проще выразить ближе к Рождеству. Ему нравилось веселье, без которого он не представлял себе милосердие. Рождественский обед, омела, индейка, пудинг и пунш, большая семья, собравшаяся на Рождество, — вот это было мило его сердцу. Даже мистер Пиквик становился до конца самим собой, когда на Рождество, в гостях у старого мистера Уордля, начинал играть в жмурки. Сочиняя рождественские истории (после первой истории Диккенс на протяжении пяти лет писал по одной каждый год), писатель использовал два основных сюжета. Первый доставлял ему удовольствие, так как он изображал озабоченных людей, идущих под снегом по дорогим его сердцу улицам Лондона, — носы у них покраснели, свертки не умещаются в руках, но сердца согреваются при мысли о предстоящем наслаждении. Второй сюжет должен был напомнить очень и не очень богатым о том, что Рождество — это не только праздник, когда принято есть фаршированную индейку и пудинг с изюмом, но также и день примирения, добра, который нельзя достойно отметить, если не помочь беднякам.
Именно об этом повествует «Рождественская песнь в прозе». Перед нами предстает старый скупердяй-торговец мистер Скрудж, который, от души презирая смешные праздники, в канун Рождества не позволяет своим работникам уйти домой ни на минуту раньше. Ночью его будят три призрака. Это Дух прошедшего Рождества, Дух нынешнего Рождества и Дух будущего Рождества. Духи проносят его по городу и показывают ему любовь и нежность, царящие в некоторых бедных домах, показывают, к чему приводит жестокость, и в конце концов Скрудж, проникнувшись духом Рождества, становится добрым и великодушным. Книга получилась прелестно-сентиментальной — может быть, на чей-то строгий вкус, даже слишком сентиментальной, — однако невероятно чистосердечной. Автор признавался, что, работая над ней, плакал и смеялся и что, думая о ней, ночами, когда все порядочные люди уже давно спят, бродил по лондонским улицам и прошел пятнадцать или двадцать миль под дождем и снегом. На следующий год появились написанные в том же духе «Колокола»; к третьему Рождеству вышла в свет повесть «Сверчок за очагом».
«Рождественская песнь в прозе» очень понравилась читателям, однако коммерческий успех ее был ниже, чем ожидал Диккенс; после относительного провала «Мартина Чезлвита» это стало для писателя большим разочарованием. Он понял, что теперь не сможет вести в Лондоне тот расточительный образ жизни, к которому привык, и решил на какое-то время уехать и пожить в Европе, вначале в Италии, а затем во Франции — стране, где его никто не знал, где он не был бы обязан принимать гостей и где жизнь в целом была значительно дешевле. Он отправился в Италию с женой, детьми и, естественно, с одной из своячениц.
* * *
Из этой длительной заграничной поездки Диккенс привез много книг, но, что самое любопытное, во всех этих книгах он писал об Англии и о том, что волновало его с юности. Создается впечатление, что стоило этому великолепному наблюдателю выйти за пределы привычной английской атмосферы, как у него пропадало зрение. Иногда в его письмах попадаются прелестные описания французской или итальянской жизни19, но когда он пытался вставить в свои книги описание иностранной действительности (например, описание Марселя в начале «Крошки Доррит»), то неизменно делал это от лица какого-нибудь француза или итальянца, чьи образы уже укоренились в английской литературе. Все чаще и чаще у Диккенса обнаруживается неспособность использовать в романах темы, не выношенные и не обдуманные годами, и все чаще и чаще он находит истинное вдохновение, лишь обращаясь к темам своего детства. Кроме того, он открыл в себе еще одну особенность — он не мог работать за городом. Сочинение романа для него было неразрывно связано с бесконечными ночными прогулками по улицам большого города. Написав несколько глав, он внезапно ощущал необходимость узнать мнение своих английских друзей и тогда срывался, ехал ненадолго в Лондон, читал им написанное, оценивал произведенное впечатление и, воодушевленный, возвращался обратно. Стремление получить одобрение превратилось теперь в потребность ощутить непосредственную реакцию на чтение вслух — потребность порой опасную, потому что она подталкивает к желанию произвести эффект, причем эффект драматический.
В Париже он снимал маленький домик маркиза Кастеллана на улице Курсель, 48. Как положено всем порядочным англичанам, он посетил парижский морг, Лувр, Версаль, побывал там, где раньше стояла Бастилия, осмотрел тюрьму Сен-Лазар. Он наблюдал за проездом короля Луи-Филиппа, и его очень позабавил префект полиции, ехавший впереди верхом: тот постоянно поворачивал голову то направо, то налево, как кукла из голландских часов, словно бы подозревая в недобрых намерениях все почки на деревьях вдоль Елисейских Полей. Лучшим воспоминанием для Диккенса стала встреча с Виктором Гюго в некоем благородном доме на Пляс Руаяль; действительно, не было еще на свете двух людей, которые могли бы понять друг друга лучше, чем создатели «Отверженных» и «Оливера Твиста».
На протяжении всего пребывания в Париже он работал над новой книгой — «Домби и сын». В «Чезлвите» Диккенс писал о лицемерии; на сей раз он избрал своей мишенью гордыню. Домби — крупный делец, живущий только ради своей фирмы, ее процветание наполняет его непомерной гордостью. Он страстно интересуется своим сыном Полем, но не потому, что любит его, а потому, что он видит в нем преемника. Домби презирает свою прелестную дочь и не обращает на нее внимания. Смерть маленького Поля уничтожит его гордыню, вынудит к смирению и в конце концов, после многочисленных событий, приведет его к дочери. Книга имела успех, и Диккенс снова обрел огромное число верных и удовлетворенных поклонников, в которых так нуждался.
Теперь его книги знали во всех слоях общества. Когда печатался «Домби», Диккенсу пришлось поехать в Лондон, чтобы навестить заболевшего сына. Пожилая экономка в школе, узнав, кем является отец маленького больного, испытала настоящее потрясение. «О боже, сударыня, — воскликнула она, — неужели юный джентльмен там, наверху, — это сын того человека, который сочинил „Домби“?» А на вопрос, что именно так ее удивило, она ответила: «...никогда бы не подумала, что „Домби“ мог собрать один человек». — «Однако, — возразили ей, — вы же не умеете читать!» Так оно и было, но эта женщина жила в меблированных комнатах, владелец которых каждый первый понедельник месяца приглашал своих жильцов на чай и читал им вслух ежемесячный выпуск «Домби». «О боже, сударыня, — добавила экономка, — я думала, чтобы собрать „Домби“, нужно по меньшей мере три или четыре человека!»
Успех «Домби» позволил Диккенсу вернуться в Лондон. Писателя сразу же захватили разнообразные занятия, не имевшие ничего общего с его книгами. Мы знаем, что его всегда привлекал театр. (Он обладал невероятным талантом имитатора; часто, чтобы позабавить своих детей или друзей, он пародировал актеров или известных персонажей.) Участие в благотворительном спектакле дало ему возможность продемонстрировать свои способности. Вместе с друзьями он поставил пьесу Бена Джонсона20 «Каждый по-своему». Диккенс выступил в качестве режиссера, директора, машиниста сцены, плотника, уборщика и исполнил главную роль, причем во всех этих качествах показал себя наилучшим образом. Впрочем, он целиком отдавался делу. Он оставался верен своему девизу: «Все заслуживающее называться делом должно быть сделано хорошо». Спектакль получился настолько удачным, что многие благотворительные организации просили повторить его в их пользу. Труппе пришлось отправиться в поездку по провинции, и вся эта суета плохо отразилась на здоровье Диккенса. У него началась сильнейшая мигрень, он стал хуже видеть. Однако этот увлекающийся человек не остановился, а решил издавать ежедневную газету — «Дейли ньюс». Казалось, он испытывал необходимость нагружать себя все новой и новой работой. Объявление о начале выхода газеты гласило, что Диккенс хочет оставаться свободным от какого бы то ни было влияния, не желает принадлежать ни к какой партии, а газета будет бороться со злом, способствовать благополучию бедных и счастью общества.
Истинно диккенсовская политика! Однако теперь он настолько владел умами читателей, что в какой-то момент даже задумался об издании еженедельника, который назывался бы коротко и ясно — «Чарльз Диккенс». Подобная идея, родись она у кого-то другого, показалась бы смешной; в его случае она представлялась совершенно естественной. Читатели хотели только Чарльза Диккенса, и никого больше; для них он был не просто автором романов, а целым институтом, апостолом, другом. На Рождество простые люди со всех концов Англии слали ему овощи, птицу, цветы. Он стал прекрасным живым символом всего лучшего в англичанах — их активности и их доброжелательности.
Спустя три месяца Диккенсу пришлось признать, что он не создан быть издателем газеты, и он оставил ее, но продолжал сотрудничать с «Дейли ньюс». Взамен он основал еженедельник «Домашнее чтение», и этим еженедельником, в отличие от газеты, руководил очень успешно, потому что там публиковались только произведения художественной литературы, а их Диккенс мог оценить по достоинству.
Однако на первом месте для него оставалось собственное творчество, и он уже начал задумываться о новой книге. Его друг Форстер посоветовал написать что-то от первого лица. Совет понравился Диккенсу, он много думал на эту тему и решил на сей раз использовать для сюжета романа события собственной жизни. Мы помним, с каким трепетным страхом Диккенс относился к своим детским воспоминаниям; он не только не делился ими ни с кем, но, казалось, загнал их в самые дальние уголки памяти. Теперь он решил, что, передав свои чувства, сможет получить свободу, и отважился сделать героем нового романа Чарльза Диккенса. Писатель долго подбирал имя своему герою — Коппервуд, Тротфильд, Копперфилд... Когда наконец было выбрано имя Дэвид Копперфилд, Форстер заметил, что инициалы героя — это переставленные местами инициалы самого Диккенса. Писателя поразило это совпадение, и он счел, что так было предопределено свыше.
Стоило Диккенсу преодолеть свою застенчивость, как он с головой погрузился в работу. Всем известно, что в «Дэвиде Копперфилде» рассказывается история жизни маленького мальчика. Отец его умирает, мать выходит замуж повторно за злого мистера Мэрдстоуна. Тот, чтобы избавиться от пасынка, отправляет ребенка в Лондон, в школу, возглавляемую жестоким директором, а потом, после смерти матери, — в учение к виноторговцу, где Дэвид наклеивает этикетки на бутылки. Эта история повторяла, за исключением некоторых обстоятельств (смерть родителей), историю детства самого Диккенса. Кстати, в конце книги Дэвид становится писателем.
Есть в книге еще одно, более загадочное и настолько хорошо спрятанное совпадение, заметить которое мог только сам Диккенс. Дэвид Копперфилд женится на Доре — «девочке-жене», прелестной, но совершенно неспособной вести хозяйство: в этом образе Диккенс воплотил одновременно и воспоминания о своей первой юношеской любви, и неудачный опыт собственного брака. Разница заключалась лишь в том, что Дора умирает и ее место занимает идеальная женщина Агнес; быть может, таким образом Диккенс соединял в воображении свою судьбу с судьбой любимой свояченицы Мэри, так жестоко отнятой у него смертью. Вот в чем состоит одна из самых привлекательных особенностей писательского ремесла — его волшебная сила позволяет нам испытать то счастье, в котором нам было отказано в реальной жизни.
Несчастная Дора описана со снисходительной нежностью:
«— Ненаглядная моя, — сказал я однажды Доре, — как ты думаешь, имеет ли Мэри-Энн хоть какое-то понятие о времени?
— А что такое, Доди?
— Дело в том, родная моя, что сейчас пять часов, а мы должны были обедать в четыре.
Дора задумчиво посмотрела на часы и высказала предположение, что они спешат.
— Напротив, любовь моя, — сказал я, взглянув на свои карманные часы. — Они на несколько минут отстают.
Моя маленькая жена подошла, уселась ко мне на колени и провела карандашом линию по моей переносице, что было очень приятно, но все же не могло заменить обеда.
— Не думаешь ли ты, дорогая моя, что тебе следовало бы сделать выговор Мэри-Энн? — сказал я.
— О нет! Я не могу, Доди! — воскликнула она.
— Почему, любовь моя? — ласково спросил я.
— Ах, да потому, что я такая глупышка, а она это знает, — сказала Дора.
Это рассуждение показалось мне настолько несовместимым с любым способом воздействовать на Мэри-Энн, что я слегка нахмурился.
— Ох, какие некрасивые морщинки на лбу у моего злого мальчика! — сказала Дора и провела по ним карандашом, все еще сидя у меня на коленях. Она пососала карандаш розовыми губками, чтобы он писал чернее, и с такой забавной миной принялась трудиться над моим лбом, что я поневоле пришел в восторг.
— Но, любовь моя, послушай...
— Нет, нет! Пожалуйста, не надо! — воскликнула Дора, целуя меня. — Не будь злым Синей Бородой! Не будь серьезным!»21
Наиболее удачным в книге следует признать портрет отца Диккенса, предстающего перед читателем в бессмертном образе мистера Микобера. Все, кто был знаком с Джоном Диккенсом, поняли, с кого списан этот очаровательный, забавный, неизменно разоренный, неизменно восстающий из праха, всегда и всем довольный мистер Микобер.
«— Мой дорогой юный друг! — воскликнул мистер Микобер. — Я старше вас. У меня есть жизненный опыт, у меня есть опыт, почерпнутый из затруднений. В настоящее время, пока счастье еще не улыбнулось (должен сказать, что я жду этого с часа на час), я ничего не могу вам предложить, кроме совета. Все-таки мой совет заслуживает того, чтобы ему последовать, поскольку я... ну, одним словом, поскольку я... не следовал ему сам, и теперь... — мистер Микобер, который все время улыбался и сиял, вдруг запнулся и нахмурился, — теперь вы видите перед собой несчастнейшего человека.
— О мой дорогой Микобер! — вскричала его супруга.
— Я говорю: вы видите перед собой несчастнейшего человека, — продолжал мистер Микобер, уже забыв о себе и снова улыбаясь. — Вот мой совет: никогда не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня...
После чего он на минуту призадумался.
— Другой мой совет вы знаете, Копперфилд, — продолжал мистер Микобер. — Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов шесть пенсов, и в итоге — счастье. Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход двадцать фунтов шесть пенсов, и в итоге — нищета. Цветы увядают, листья опадают, дневное божество озаряет печальную картину, и... и... одним словом, вы навсегда повержены! Как я!
Засим мистер Микобер, желая запечатлеть в моей памяти свою судьбу, выпил с веселым и удовлетворенным видом стакан пунша и стал насвистывать какой-то плясовой мотив».
«Дэвид Копперфилд» оказался самой успешной из всех книг Диккенса. Автобиографический характер романа не остался не замеченным читателями; это лишь повышало их интерес. Диккенс впервые избавился от необходимости придумывать какие-то невероятные обстоятельства и удовольствовался изложением вполне реальных событий. Безусловно, подлинные воспоминания сдерживали игру его воображения.
После «Копперфилда» он уже не просто великий писатель, он — самый великий писатель, он занимает совершенно уникальное положение в Англии, в умиротворенной Америке и даже в Европе, где переводятся его произведения. К этому времени он становится невероятно востребованным. Он приобрел привычку публичных выступлений, и поскольку говорит легко и с чувством, к нему обращаются все благотворительные общества, подыскивающие председательствующего для своих заседаний. Жизнь Диккенса становится настолько насыщенной, что ему приходится тщательно планировать ее; он по-прежнему встает очень рано, пишет по утрам, а после полудня гуляет по городским улицам, неизменно стремясь почувствовать себя одиноким в толпе.
Как и в юности, на всех, кто видел его впервые, он производил впечатление скорее успешного делового человека, нежели творца. Жажда действия, жажда развлечений приобрела у него почти болезненный характер. Он ненавидел оставаться один; даже когда он работал, ему важно было знать, что члены его семьи находятся рядом; он хотел встречаться с ними за обедом, советоваться с ними относительно мельчайших деталей. В доме его интересовало все, даже те дела, которые принято считать сугубо женскими. Без его согласия нельзя было вбить ни одного гвоздя. Он был душой любого предприятия, будь то детские игры, театральные постановки, организация званого обеда или соревнований по крикету в деревне; он тратил свои силы с немыслимым пылом. Если в доме заболевал ребенок или слуга, он становился лучшим из врачей; Диккенс излучал такую энергию, что ему было достаточно войти в комнату больного, чтобы тот почувствовал себя лучше.
Несмотря на занятость Диккенса семейными и светскими делами, романы выходили из-под его пера один за другим: «Холодный дом», «Крошка Доррит», «Тяжелые времена» — описание жизни рабочих и обвинительная речь против модной экономической философии, книга, в которой можно найти прекрасную, полную символизма сцену: дети мистера Грэдграйнда, человека, поклоняющегося фактам, смотрят в щелочку циркового балагана на мир фантазий. «Крошку Доррит» нельзя назвать одним из наиболее почитаемых романов Диккенса, между тем это очень хорошая книга. В ней описываются любопытные подробности частной жизни в тюрьме Маршалси, а в главах, посвященных министерству волокиты, содержится жесткая сатира на английскую бюрократию.
«В этой книге вы найдете Полипов (так Диккенс называет бюрократов) самого разного возраста и толщины. Полипы бывают толстыми и могущественными, как, например, лорд Децимус Тит Полип, представляющий Полипов в Верховной палате. Есть и мелкие Полипы, заседающие в палате общин, чья роль состоит в том, чтобы формировать общественное мнение возгласами „Ох!“ и „Ах!“, и, наконец, множество Полипов работают в министерстве волокиты. Полипы очень хорошо зарабатывают и все как один работают, чтобы зарабатывать еще лучше и добиться создания новых постов, куда смогут устроиться их родственники и друзья. Они выдают своих дочерей и сестер замуж за политиков, которые таким образом оказываются связанными с Полипами и производят на свет маленьких Полипов, а Полипы-мужчины, в свою очередь, женятся на девушках с хорошим приданым, чтобы обеспечить основательность, власть и славу будущим поколениям Полипов»22.
Для любого другого писателя это описание бюрократов, оказывающих невероятно изобретательное сопротивление несчастным, пытающимся получить от них точный ответ, само по себе уже могло бы стать сюжетом романа. Однако Диккенс развивал в одной книге десяток сюжетов, так что «Крошку Доррит» можно сравнить с густым лесом, где тесно переплетаются многочисленные тропинки.
* * *