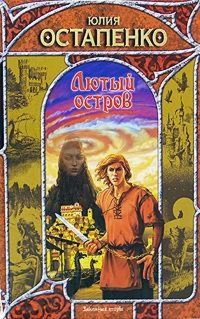
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ЗМ-3.Остапенко
- Sprache: Russisch
Что-то неладно в мире «меча и магии». В Даланае, стране славных воинов, смелых князей и всезнающих волхвов, жители таинственного острова Салхан страдают от древнего проклятия — и не избыть его, покуда не явится на остров таинственный пришелец из иных земель… В гордой Альбигейе, земле рыцарей, клириков и прекрасных дам, всемогущие инквизиторы Бога Кричащего, носящие на груди маги-ческую татуировку — Обличье, заливают страну кровью, посылая на суд и казнь все новых еретиков и ведьм… В славном граде Кремене суровый отец велит юноше взять в жены деву, которую молва ославила ведьмой, — и молодому супругу прихо-дится поневоле выстаивать в бесконечной борьбе с наводимыми ею чарами… А далеко на Востоке, в пышной и жестокой Фарии, начинается история долгой и неизбывной вражды воина из личной охраны паши и загадочного убийцы — ассасина, — вражды, что прекратится тогда лишь, когда примет смерть один из недругов… Разные то земли. Далек путь от одной до других. Но Зло — хитрое, многоликое — не знает расстояний, как не знает их и Добро…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Юлия Остапенко Лютый остров (Сборник)
Лютый остров
Памяти Никки (Оли Полуяновой). Я тебя помню и очень люблю.
1
Когда пришли нероды, я был, верно, первым, кто их увидел. Так Горьбог рассудил, что выбрал я то погожее утро для охоты, а если правду сказать, то и не для охоты даже, а так, поразмяться надумал – и понесло меня на Устьев холм, туда, где с начала весны я выслеживал тура. А если совсем правду, то и не тура, а туренка малого – скакал, глупый, по скалистому бережку, не знал, что я его дожидаюсь. Один на один против него я идти остерегался и все равно в раж вошел: а ну как одолею! Всю весну я бродил по этим холмам, наставил ловушек и в тот день решил проведать. Не очень-то верилось, что повезет, но с утра, когда сел лук править, мамка разворчалась, что опять дурным делом занят, за плуг бы взялся лучше, – вот я и удрал от нее, чтоб уши не кислила. Влез на Устьев холм, где у меня первая ловушка была, – и тогда-то увидел неродовские паруса.
Должно быть, чересчур долго я смотрел на них, приставив ладонь к глазам, – страх как долго, сердце, так и кинувшись вскачь, с дюжину ударов отгрохотать успело. Корил себя за это после, а тогда – ну ни с места двинуться, ноги словно в камень вросли. Потом уж сорвался, кинулся вниз скальной тропкой. А тропка, чтоб ее, хитрая, подниматься по ней – еще туда-сюда, а вниз идти надо бережно, иначе костей не соберешь. Да куда уж мне было себя беречь...
Нероды!
Деревня наша стоит в далекой глуши, укрытая скалами, словно чайкино дитя материными крылами. Кто не знает – мимо пройдет, кто знает – замается вилять меж острых порогов, выискивая путь к земле. Потому живем мы и спокойно, и бедно: ни купцы нас не жалуют частыми визитами, ни налетчики. А все ж бывает, что привечаем в гостях – и одних, и других. И знают уже сельчане: если забрезжит на море зеленым – то фарийцы, от них можно откупиться. Если сизым с львиными мордами на бортах – галлады, с теми надо полюбезнее, хлебом с молоком встретить, в ноги поклониться – может, примут угощение и так уйдут. Если полыхнет на волнах алым – асторги пожаловали, станут избы жечь, скот забивать, девок портить, так что видели алое – мужики брались за ножи, а бабы хватали детей, добро и бежали кто куда.
Но если появятся под небом черные паруса – тут ни откуп, ни мольба не поможет. Да и бежать бесполезно. Не убежишь, не спрячешься – догонят, найдут, и тогда уж хоть жилы на руках грызи, а живым не дайся.
Нероды.
На моей памяти они только раз к нам приходили. Мамка говорила, я малец совсем был, в подоле еще носила меня. А я помню. Тогда их вовремя завидели, и как услышала она крик по деревне, так бросила прялку, схватила меня и кинулась в лес. Под корягу забилась и просидела два дня и две ночи, пока нероды не ушли. Когда мы в деревню вернулись, там почти никого не осталось. А избы стояли не тронутые ни огнем, ни мечом, и выла в бесхозных хлевах недоенная скотина.
Без надобности неродам наш небогатый скарб. Приходят они за людьми.
Что и говорить, резво бежал я с Устьева холма через лес – аж ветер в ушах свистел. А не успел. Неродовские корабли не стали причаливать к берегу – знали уже наши берега. Спустили на воду верткие лодки, и пока я добежал, успели высадиться. Как дозорные наши недоглядели, я так никогда и не узнал. А только увидел, как идут нероды по нашему селу, дюжие, длинноволосые, в среблясто поблескивающих кольчугах. Хозяевами идут.
Не добежав до изб полусотни шагов, рухнул я в кусты, носом к земле, вскинул руку к плечу – и схватил пустоту. Ай, лихо! Лук-то я дома оставил! Треснул он накануне, вот я его и замазал рыбьим клеем, оставил на лавке у избы сушиться, мамке строго наказал не трогать, а она только вслед ругнулась. Мне бы его сейчас! Послал бы хоть по доброй стреле в глаза этим, что идут сейчас по моей земле, будто по собственной – с железом идут...
По деревне уже стоял плач, крик и лязг стали. Мужики выбегали из дворов с топорами, с головнями горящими – да так и падали под ударами, кто мертвый, а кто оглушенный, и их тут же наклонялись вязать. Я увидел Бересту, нашего старосту, бьющегося у ворот своего двора сразу с тремя неродами. Здоров был наш Береста, на медведя в одиночку ходил, – а и тот продержался недолго, повалили старосту под вой жены его, Берестовихи, а дочку уже другой нерод за волосы волок со двора. И всюду кругом нероды кого-то да волокли: вон Ольху с женой и малых Ольховичей, а вот все Каприщево семейство, только старшего сына не видать, неужто зарубили... Я стрельнул взглядом по деревенской улице, ища обходной путь. Наша изба стоит на другом краю села; оттуда, где я в кусте залег, ее было не видать. А ведь в нее, может статься, нероды уже вошли, сапожищами топоча...
Не было времени у меня на раздумья. Да и что тут думать-то?
Мамка меня Маем звала. Она без мужа меня родила; иных девок за такое родичи со двора гнали, да мамке повезло – не осталось у ней родичей, сирота она была, сколько себя помнила. Сельчане ее осудили, конечно, но каменьями бить не стали – далече мы от людей живем, держимся друг за дружку, все свои. Знахарка наша, Радома, даже роды у нее приняла – и мамка сказывала, как отдала меня ей на руки, еще пуповину не обрезав, сказала: «Намаешься с ним. Да и ему не жизнь теперь – маята». Мамка знала: правду старуха говорит. Так и назвала – Май.
И верно назвала. Все только горестей ей было от меня. Едва подрос, в лес повадился, на холмы – люди уже шептались, а не от волка ли лесного девка сына прижила? Оно и правда: нравилось мне в лесу, а меж людьми – не очень. Никаким ремеслом меня прельстить было нельзя, кроме охоты. Как достало силенок палку поднимать, выстругал себе рогатину, той же весной выследил кабанье семейство и заколол поросенка. Мамка сперва гордилась, потом тревожилась: почему больше ни к чему желания не имею, не все ж кабанов бить? А мне хорошо было на воле, от сельчан подальше. Не любили они меня – так, терпели милостиво. Пацанва сельская только и ждала повода бока намять, только иначе чем всемером на меня и не шли, знали – раскидаю. Бегали батькам жаловаться, и батьки меня, случалось, ловили и за чуб таскали, чтоб не обижал их чада любимые. Мамка плакала, а я отлеживался и снова в лес уходил, когда на лису, когда на кабаньих поросят. Птицу тоже стрелял, но стрелять мне не нравилось – я люблю, чтоб рогатина под рукой в жаркую плоть вошла, чтобы кровью звериной на руки брызнуло, на лицо...
Глядел я сейчас на неродов, на их щекастые морды, и думал, куда бы это сподручнее рогатиной ткнуть, чтобы на руки брызнуло. Кольчуги на них были уж больно плотные, я никогда и не видал таких – колечко к колечку, от горла аж до колен – как тут подступишься? В глаз целить – отобьет, по ногам – так не насмерть выйдет. А что ударить я смогу только один раз – то я знал. Слишком много их было.
Только пока еще они меня не заметили.
Я прополз кустами на брюхе, рогатина колотила меня по плечу. За нашим домом разрослась бузина, совсем уже на стены вылезла, мамка давно просила, чтоб я пообрезал, – а мне все недосуг было... теперь бы порадовалась. Дверь избы была настежь распахнута, перед нею нерод топтался – всего-то один. Где-то рядом, на соседнем дворе, визжала баба, кто-то шумно бранился. Мамки нигде не было. Я острожно вытянул рогатину, подобрался ближе, так, что меж мной и двором осталась лишь завеса ветвей, приник к самой земле...
И тут увидел.
Лежала мамка моя у порога, руки раскинув – так, что одна в избе, а другая – на сырой земле. Она дышала еще, громко и часто, глядя в небо раскрытыми глазами, и губы шевелились, словно пить просили или шептали одно и то же... На ее груди медленно расползалось красное пятно – видать, только что ее ударили. Если бы я быстрее бежал...
– Никого нет, – сказал низкий голос, и из хатки нашей ступил человек с багряным от крови мечом в опущенной руке. – За кого порог боронила, женщина? Почто в дом не пускала?
Мамка шевельнулась, будто хотела встать. Повернула голову – и встретилась со мною глазами! И знаю я, все знаю, что было в этих глазах – сиди, мол, сынок, молчи, – да как тут сидеть и молчать?!
– Вот же дура... – молвил человек, то ли мамке моей, то ли своему дружбану, стоявшему подле них во дворе, и это стало последним, что он сказал.
Охота – справное дело, в засаде тихо сидеть приучает. Когда я рванулся из кустов на двор, ни один из неродов даже обернуться не успел. Тот, что мамку мою порубил, носил волосы коротко, так что затылок виднелся под космами; в этот-то затылок, голый и беззащитный, я и всадил со всей силы рогатину – и брызнула на руки горячая неродовская кровь... а дальше плохо помнится. Знаю, кричал что-то, дергал рогатину – а из тела вражьего, валящегося наземь, она почему-то не шла. За черную душу его зацепилась, не иначе. У меня еще нож при себе был, не очень хороший, правда, – я им кожи выделывал, для охоты он не годился. Я его выдернул, когда меня схватил тот второй; хотел всадить, но нерод увернулся, и удар пришелся вскользь по кольчуге, клинок звякнул о звенья. Тут он огрел меня по затылку – так, что у меня искры из глаз брызнули. Но ножа я не выпустил, и нерод вывернул мне руку за спину, будто тщился выдрать ее совсем из плеча. Я вроде бы дрался с ним, но вряд ли долго, и совсем не помню как. Помню только темную от крови рогатину, торчавшую в мертвом теле, и мамкино лицо с неподвижными уже глазами, с губами, застывшими в шепоте... «Май» – вот что она шептала.
Видать, шумно я дрался – сбежались к нам на двор еще нероды, тут драке и пришел конец. Повалили они меня, спутали по рукам и ногам, выволокли за ворота. Я все рвался, даже связанный не давал себя удержать, но под конец прижали меня к земле, тяжелый сапог придавил шею, наступил на ухо, враз приглушив окружающий рев и плач. Потемнело у меня в глазах, и как ни силился я остаться при памяти, а не сумел.
Падая в темень, все думал, что быстрей надо было бежать...
* * *
Не знаю, многих ли посекли тогда – а взяли многих. Когда битва унялась, потащили нероды нас на корабли. Меня бросили в лодку, опять придавили шею, так что я головы поднять не мог – так и лежал, ткнувшись лицом в сырые, солью пропахшие доски и чувствуя дурноту от качки. Нероды, правившие лодками, перекрикивались, но голова у меня все гудела, слов я не разбирал. Рядом со мной кто-то плакал – ребенок или девка, я не мог понять, а посмотреть не давали.
Потом могучие руки подняли меня, передали вперед. Обвязали за пояс веревкой, вверх потащили, а тогда бросили на твердые доски. Я попытался сесть, но меня тут же сбили с ног, может, и не нарочно, – кругом стоял гвалт и суета, крепкие ноги сновали туда-сюда мимо моего лица, нероды волокли и толкали в спины других пленников... и никто из них связан не был, только я. А оно и понятно: боялись, значит. Я оскалился, едва не довольный такой честью, поднял голову – и тут будто обухом меня огрело.
Нероды закончили погрузку добычи и подняли лодки. Пленных сельчан разогнали по палубе и выстроили в два ряда. Дружный плач стоял под черными парусами, ровный и неодолимый, словно морской прибой.
Это все были дети.
– А ну вставай, малец, – раздался голос у меня над головой. Кто-то наклонился и перерезал веревки у меня на ногах. Рук не тронул. Взял за волосы, потянул вверх. Я вскочил, дернул головой. Лицо передо мной – а если правду сказать, то надо мной, – было бородатым и совсем не злым. Нерод ухмыльнулся и выпустил мои вихры.
– Смирно стой, – наказал он и отошел от меня.
Рядом всхлипывали. Я обернулся. Маленький Дарко, Ольхин сынок, сутулился рядом со мной, глотая слезы. Было ему годков семь от силы, чего бы не пореветь? К нему жались меньшие братья, слишком напуганные, чтоб удариться в плач, – или вовсе не ведали, что творится, а Дарко понимал. Он был достаточно взрослым, чтобы понимать, и слишком мелким еще, чтоб не плакать. Другие мальчишки жались тут же, по левую сторону палубы, шмыгали носами – а девки стояли справа. Их я разглядеть как след не мог, нероды между нами слишком толпились.
Наконец угомонилось. Нероды разошлись, очистили палубу для вожака, под чьей тяжкой поступью уже громыхали доски. Издали видать, что вожак – здоровенный, борода лопатой, на плечах плащ медвежьей шерсти, длинный меч колотит по ноге. Я вдруг вспомнил его: это он Берестовиху, Старостину жену, со двора волок. Да где теперь Берестовиха? А Береста? Неужто всех порубили? Никого из взрослых сельчан я не видел на корабле, только детей.
Вожак прошелся по палубе взад-вперед, глядя по сторонам, не сказать на вид, доволен или не очень. Встал напротив девок. Их взяли шестерых – самой меньшой была Пастрюковна, едва ходить начала, цеплялась теперь за сестрину ногу и глядела по сторонам удивленными глазенками, вроде и совсем не страшно ей, что будет, а только любопытно. Еще четверо девчонок постарше, а последняя...
– Эх-х, – изрек вожак, встав против нее. – Хороша...
Еще в не хороша! Тяжким, ох, тяжким было то злое утро, а в тот миг что-то наново дрогнуло во мне – потому что старшей девкой из схваченных была Счастлива Берестовна, Старостина дочь. Батька Счастливой нарек, надеясь дочке милую судьбу накликать, – а вон как вышло... Хотя как по мне, лучше в Гордевой ее назвал или Спесивой – больше бы подошло. Была она на два года старше меня и с прошлого лета уже принимала женихов – отбою от них не знала. Красивая девка: коса золотая, брови вразлет, руки белые, серпа и плуга не знавшие – берег Береста дочку, все мечтал за фарийского или галладского купца отдать, вдруг повезет... Она тем мечтам не противилась, знала, что не для черного труда рождена, – и не глядела даже на тех женихов, наших парней, что теперь мертвыми лежали на разоренной земле, кровью ее своей поили, девку неблагодарную защищая. А девка стоит теперь в разодранной рубахе, простоволосая, голову гордо вскинув, и ни слезинки в ясных очах, какими только душу выедать... Плечи мои напряглись будто сами собой, веревки затрещали, кажется – вот-вот лопнут! Не лопнули. А все одно, думал я, глядя в покрытую медвежьей шкурой вожакову спину, только попробуй тронь ее!
Вожак не тронул. Долго смотрел на лицо Счастливино, на золото кос по плечам. Потом повернулся к стоявшему рядом нероду, сказал негромко:
– На «Волнограя» надо, к бабам. Женой будет.
Тут уж вздрогнула Старостина дочь всем белым телом, с лица сошла – хоть и не сказал вожак, кому именно быть ей женой. Да не все ли равно?! Пальцы мои сжались, вцепились в путы... и вдруг поддалась, потянулась веревка! Я аж дыхание задержал. Осторожно стал разматывать, глаза опустив, боясь моргнуть лишний раз. Вожак повернулся от девок, пошел к нам. Пока глядел на мальцов, я шевельнул запястьями, еще опутанными, но теперь лишь для виду. Ну, подойди только!
Пацанят нерод смотрел внимательней, чем девок: тем, кто постарше, мускулы щупал, рты заставлял разевать, зубы считал, словно лошадям. Дарко Ольхович, как до него очередь дошла, заревел в полный голос, и вожак дал ему по уху. Дарко сразу умолк, будто теперь только поняв, что шутки шутить тут не станут, не покапризничаешь. Нерод велел ему рот прикрыть, пока не стало лиха, – и оказался передо мной.
Равнодушное лицо его изменилось, сделалось недовольным.
– Так, – сказал, кинув взгляд через плечо. – А этого почему сюда, почему не к рабам? Кто его взял?
Из толпы неродов, наблюдавших за осмотром, ступил мужик, с которым я дрался во дворе своего дома над теплым еще мамкиным телом. Едва увидал я его, так и заколотилось во мне все, чуть не бросился, а сдержался – до сих пор не знаю как.
– Я его взял, Могута, – подал он голос. – Ты не гляди, что рослый, все одно дитя еще.
– А, Хрум, так с этим дитем ты сцепился на берегу? После того как он Брода рогатиной ткнул? – Голос Могуты звучал сухо и холодно. – Это, что ли, по-твоему – дитя?
– Да глянь на него, ему ж поди пятнадцати нет!
– Гляжу, да лучше спросить. Ну что, щеняра, сколько тебе годков? – обратился он ко мне без всякой злобы, с прежним равнодушием.
Я сцепил зубы. Могута вздохнул.
– Не хочешь отвечать... Зубы покажи-ка.
Я набычился, нарочно показывая ему желваки – хрен тебе, мол! Могута вздохнул снова. Я думал, он даст мне по уху, как Дарко, но он решил не утруждаться – зачем, когда челюсть разомкнуть всегда можно не уговором, так железом. Могута потянулся к поясу и вытащил нож.
Этого-то я и дожидался.
Тряхнул руками – и упали ослабшие путы на дощатый пол. Я прыгнул на Могуту по-звериному, с места, распружинившись в прыжке. Грузный мужик не успел и охнуть, рухнул на палубу, а там я уже выдернул нож у него из кулака – и полоснул бы по жирному горлу, кабы сзади меня не огрели по спине веслом. Боль была такая – словно шипом огненным насквозь прожгло. Но достало мне сил не выпустить оружие, откатиться в сторону и, подобравшись, вскочить спиной к борту. А нож уже зажат в кулаке лезвием вверх и чертит звонкие линии передо мной – ну, подходи, кто смел! Нероды бранились, выхватывали мечи, один достал лук и натягивал тетиву.
– Не стрелять!
Я не мог оглянуться, боясь пропустить новый удар, а знал только, что крик этот, звучный и властный, издал не Могута. Тот едва подобрался с палубы, плащ медвежий сполз набок, и теперь я дивился, с чего это принял его за вожака. Разве такими бывают вожаки? Толстые губы шлепали, глаза глядели осоловело – никак не мог понять и поверить, что его мальчишка какой-то с ног сшиб, еще и на виду у всей его рати! Как дошло, багровой краской залился по самую бороду. Схватился за пояс – а нож-то у меня! Еще сильнее побагровел, кулачищи сжал – и тогда лишь повернулся туда, куда я глянуть не смел. Все туда уже смотрели – и Хрум, огревший меня по спине, и дружбаны его, и детвора, и Счастлива Берестовна – смотрела, побелев лицом, ярко сверкая глазами.
Ну тогда уж и я не утерпел, взглянул.
Корабль неродовский был велик, саженей пятнадцать в длину, всего глазами и не охватить за раз. Потому сперва я не заметил, что на корме как будто сруб деревянный стоит, а в срубе дверь, а за дверью, видать, горница. Из горницы этой и вышел теперь тот, в ком я немедля признал настоящего вожака. В бою его вроде не было – а может, и был, да только я не видел, но отчего-то мне чудилось, что не ступал он сегодня ногой на Устьев берег, не багрил железа в крови моих сельчан. Был он высок и статен, безбород и безус, и лицо у него оказалось хотя и в морщинах, а красивое – девки таких любят. Он один среди всех воинов одет был в черное, с выплавленным серебряным щитом на рубахе – немало, должно быть, весила эта одежа. Сапоги у него доходили до бедер, меч свисал чуть не к самой палубе, а волосы, того же цвета, что и щит на груди, спускались на плечи, ничем не покрытые и не перехваченные. Приди такой на наш двор с миром, пусть и незнамо откуда, – оробели бы сельчане, в ноги поклонились, хлебом с молоком угостили. Но не нужно ему было наше угощение. Даже до битвы с нами не снизошел, сучара, псов своих послал, чтоб притащили нас к нему на корабль, – а теперь судить будет? Ну его!
Не отвечая ни на один из взглядов, к нему обращенных, шагнул воевода вперед, на палубу, голову нагибая под низко опущенными снастями – тогда-то я заметил, что ходит он неуверенно, на одну ногу припадая. Потом он выпрямился и махнул рукой, веля опустить луки и оружие спрятать.
Тогда посмотрел на меня.
– Что ершишься, малой? – сказал вполголоса. – Не убежать тебе.
И так спокойно сказал, что сердце у меня на миг оборвалось – поверило. А все же сжал я зубы, чтоб тут же расцепить их с усилием и процедить:
– А мне воли не надо. Крови хочу.
– Ах ты, щеняра! – рыкнул Могута, ступая ближе, но серебряный воевода снова ладонь поднял – тот на месте так и замер.
– Чьей? – спросил, слегка прищурясь и только что не улыбаясь, на меня глядя. Взъярило это меня – мочи нету!
– А хоть бы и твоей! – крикнул я. Глуп был, конечно. Пока я с ним пререкался, меня уже десять раз и повалить могли, и вовсе прикончить. Воевода не дал бы, но почем мне тогда было это знать? Может, он просто позабавиться со мной надумал, прежде чем убить.
А тут он улыбнулся еще, и я вовсе про все забыл – так зло взяло. Ну да, ему бы и не смеяться!
– Моей? Почто моей? Разве я тебе сделал что?
– Люди твои порубили и в неволю угнали всех, кого я отродясь знал, – ответил я через силу, едва держась, чтоб не броситься на него. – Или теперь кнежи за своих людей не в ответе?
Он перестал улыбаться. Видать, не понравились ему мои слова. Нероды загалдели, дескать, позволь укоротить язык мальчишке, но он теперь даже руку не поднял, только головой мотнул, и все умолкли.
– Правду говоришь, в ответе, – сказал. – Только я теперь, видишь, ранен, ногу мне давеча подрубили. Станешь драться с таким?
Почто спрашивал?! Снова глумился? Я же знал, умом нет, а нутром знал, что выйди он против меня – одним пальцем спину мне переломит, как соломинку. Но когда он про свою рану сказал, я уже не мог ему вызов бросать – малодушным я бы вышел, не он. Чтоб ему...
– Не стану, – ответил я хмуро, и воевода кивнул, слабо блеснув серыми глазами из-под сведенных бровей.
– Так что прости, но выбирай кого другого.
– Да что ты, господин мой Среблян, с пащенком разговоры ведешь? – не выдержал наконец Могута, все время стоявший в трех шагах от собственного ножа, наставленного ему в рожу. – В оковы его да под палубу, долог ли сказ?!
– Кого выберешь, малой? – будто не слыша, повторил воевода. Среблян, вон как... Шло к нему это имя – неужто таким, в серебре весь, и уродился? Или впрямь Горьбог и судьба-горемычевна подгадывают, как бы имя, человеку данное, в долю его обратить? Коли так, то недолго осталось мне жить-маяться...
Я подбородком указал на сопевшего рядом Могуту:
– Его.
Тот расхохотался. Прочие нероды подхватили, все уже смеялись, кроме устьевской детворы, глядевшей на меня в страхе, – и кроме воеводы Сребляна.
– Почто его? – спросил, прищурясь. – Почто не Хрума? Тебя ведь Хрум полонил? Небось и родню еще порубил.
– Кто родню порубил, тот уже землю кровью своей поит, – ответил я. – А ты сказал выбрать – я и выбрал, так не спрашивай почто.
Взгляд Сребляна обратился на Хрума.
– Правду, что ли, малец говорит? Убил кого нашего?
– Брода, господин мой Среблян, – стащив шапку, пробормотал Хрум. – Рогатиной...
– Рогатиной, – повторил Среблян с удивлением и посмотрел на меня как-то совсем иначе – с головы до ног окинул взглядом, словно к коню на торгу примеривался. – Ну раз рогатиной, то иди против Могуты, малой. Эй, Могута! Нож мой возьми – свой-то ты, вижу, безоружному противнику одолжил. Это мне любо, – усмехнулся он – и, выхватив кинжал, метнул его через палубу. Лезвие вонзилось в мачту у головы Могуты, задрожало. Могута зубы сцепил и выдернул нож, отвернулся от воеводы, не поблагодарив. Сказал с отвращением:
– Говорил я, к рабам паскудника надо, – и кинулся вперед резко и стремительно, будто гадюка из-под колоды.
Я едва успел вбок уйти, так что он полоснул лишь воздух около моей шеи. Я перехватил нож покрепче, рука вдруг взмокла и сделалась скользкой. Прежде я никогда на человека не ходил, а то, что сделал во дворе нашей избы, – так то словно в дымке было, как во сне, как не со мною... Могута снова пырнул, я снова ушел от удара. Нероды стали посмеиваться. Тут во мне кровь вскипела. Чего мне бояться, что терять? Так и так – если не рабство, то лютая смерть... а то хоть продам жизнь свою подороже да честно.
Согнулся я в три погибели да кинулся кубарем Могуте под ноги. Он так и охнул, а палуба затряслась от хохота. Но рано веселились – перекатившись на бок, полоснул я ножом Могуте под коленями, целя по сухожилиям. Лезвие противно заскрипело о дубленую кожу. Чтоб его! Совсем он ножа своего не точит, что ли?! Но что есть, то есть: не порежешь таким, колоть надо. Вскочил я на ноги, развернулся снова спиной к борту, пока Могута поднимался с проклятиями. Эх, будь на нем холщовые штаны, я в уже на груди у него сидел и горло резал! Нероды одобрительно шумели, хлопали в ладоши, подбодряли криками – меня, понял я с удивлением. Не любили, должно быть, Могуту... Даже Хрум что-то кричал – желал победы своему пленнику, видать, славно это было бы для него – такого поймать! На миг захотелось назло ему проиграть, но тут снова ярость верх взяла. Кинулся я на Могуту, целя острием ножа ему в глаза, тот так и шарахнулся – и прямо на девок! На Счастливу Берестовну, что стояла, в борт вжавшись, и глядела на нас во все глаза. Девка пискнула, и тут Могута схватил ее, крутанул, как веретено, – и рванул рубаху на девичьей груди так, что богатство ее тайное, о каком мечталось женихам, глянуло на белый свет, всех ослепив!
Ну не знаю, всех ли... я, правду сказать, так и обомлел. А Могуте того и надо: бросил визжащую девку в сторону, в руки хохочущим дружбанам, шагнул вперед, да и заехал мне промеж глаз чугунным кулачищем. Даже ножом бить не стал.
Нероды хохотали так – я думал, палуба проломится и все на дно пойдем. Даже вязали они меня, хохоча, и не будь их столько – поразбрасывал бы, а так – что уж.
Могута заливался громче всех.
– А все-таки – щеня! – сказал, утирая слезы. – Ошибся я. Верно ты его, Хрум, в чада определил. А ну вставай!
И врезал мне сапогом под дых – я так и согнулся. Встанешь тут, когда руки-ноги связаны! Могута снова мне врезал – и наклонился, чтоб поднять свой нож, который я выронил. А наклонившись, за волосы ухватил, повторил: «Ну щеня!» – и впечатал лицом в доски...
– Довольно. Оставь его. И не трожь.
Голос был теперь куда ближе, чем прежде, – прямо над гудящей моей головой. И он не смеялся. Даже тени смеха в нем не было.
– Отойди от него, Могута. И ты, Хрум.
– Помилуй... – запротестовал было тот, и Среблян спокойно сказал:
– Мой будет.
Сильные воеводины руки ухватили меня за плечи, вздернули на ноги. Я дышал тяжело, лоб мне последним ударом рассекло, кровь заливала лицо. Сквозь нее я и увидел глаза Сребляна – близко увидел и прямо в них посмотрел.
– Как звать тебя? – спросил воевода – и, не дождавшись ответа, добавил будто бы про себя: – А хотя все равно. Зол ты, как я погляжу... Лютом будешь.
Я и придумать не успел, что сказать, – он толкнул меня назад, в руки своих неродов.
– Привяжите-ка его к мачте. Пусть повисит, охолонет, – сказал кнеж и, повернувшись на каблуках и больше на меня не глянув, пошел прочь – мимо других пленников, мимо стягивающей порванную рубаху Счастливы, что так и ела его глазами... Потом вдруг зыркнула на меня – и с такой злобой, будто я был в чем перед ней виноват. Обида во мне поднялась, но тут меня опять потащили, и больше я ее не видел.
* * *
Кроме большой мачты, была на неродовском судне еще одна, наклонная. Тянулась она от носа к воде, и когда судно ходко бежало вперед, волны весело рассекая, тучи соленых брызг дождем сыпались на нее – ну и на меня, после того, как примотали меня к этой мачте тугими ремнями. Висел я наискось, лицом к небу, передо мной была палуба, и если изловчиться, я мог глядеть по сторонам.
По сторонам были корабли.
Тогда с вершины Устьева холма (кто в поверил, что было это нынешним утром!) я увидел только один черный корабль. Теперь я понял, что их было много больше. Под вечер спустился туман, крутобокие черные суда выныривали из него, едва подойдя на расстояние крика, и тут же прятались снова. Я насчитал их шесть, но, может, дважды счел один и тот же, а каких-то не видел – кто знает? Только теперь я понял, где остальные мои сельчане. «Этого к рабам, – сказал Могута давеча, – а та женой будет». Видать, мужчин, женщин и детвору рассадили по разным судам. Зачем только? Или дети – не рабы? Глаз у меня острый, и я изо всех сил вглядывался в другие корабли, пытаясь рассмотреть кого из сельчан, но туман был черезчур плотен, да и далеко.
Иногда какой-то корабль входил вровень с тем, на котором везли меня, – но ни разу не обгонял, отдавая дань уважения. Я понял: этот корабль был головным, на нем плыл неродовский кнеж, воевода Среблян. А Могута, как уразумел я из болтовни матросов, был на этом корабле командиром. Потому-то он заправлял всем на палубе, потому самолично досматривал пленников – я сейчас понял, все удивились, когда Среблян вышел из каюты и вмешался. Кнеж кнежем, а на судне свой хозяин. То-то Могута взъярился, когда дело к нему задом повернулось! Как ему теперь в узде держать воинов, которые видели, что я его с ног сшиб?
От этих мыслей я едва не ухмылялся, хотя было мне, признаюсь, мало приятности. Даром что близился вечер, а солнце летнее палило жестоко. Нероды то и дело отирали лбы, поливали водой из ковшей разгоряченные головы. Почти все рубахи поснимали, а я не мог. Я даже пот не мог отереть, потоком ливший у меня по спине, – вся одежда им пропиталась, прилипла к телу. Ветер под вечер совсем улегся, корабль шел тихо, и даже соленые капли из-за борта уже не долетали до меня, не освежали, не облегчали муку. Я то и дело облизывал губы, да солоно было на губах. Хорошо хоть кровь из ссадины на лбу уже не текла, слепить меня перестала.
– Что, жарковато?
Я повернул одеревеневшую шею. Воевода Среблян стоял рядом, глядя не на меня, а на море. Одну руку упирал в бок, в другой держал открытую фляжку. Я так и дернулся – аж мачта заскрипела! И стыдно, а поделать ничего с собой не смог. В горло будто ржавые крючья вцепились. Среблян посмотрел на меня. Протянул флягу к самым губам:
– Пей.
И снова меня словно насквозь шипом проткнуло. Из рук его вражьих подачку принимать? Может, еще и сапоги лизать, визжа по-щенячьи? Вспомнилось, как Могута меня величал – щеня... С трудом заставил я пересохшие губы сжаться, отвернулся. Ничего, снасмешничает сейчас и уйдет. А я что... ночь скоро, похолодает, полегче станет, дотерплю...
– Вижу, не только ты злой, но и гордый, – сказал кнеж – и довольно-то как сказал, будто я ему польстил чем-то! – Вот только глупым быть не надо. Пей, говорю.
А, чтоб ему... повернул я голову, вытянул шею. Припала к губам прохладная глина, полилась в горло вода, вкусней которой я в жизни не пил. Среблян фляги не отнимал, ждал, пока вдоволь напьюсь и первый голову отстраню. Тогда только руку убрал. Я сглотнул, жалея, что не могу губы утереть. Мелькнуло – не поблагодарить ли. Гордо так, надменно, будто слугу какого. Потом промолчал. К чему тявкать привязанной шавке? Вот с привязи спустят – так сразу кусну, без лишнего лая.
И сам не знаю, почему спросил:
– Кто на других кораблях?
Среблян смотрел на море. Его вроде бы не удивил и не позабавил мой вопрос. Неторопливо сунул флягу за пояс и ответил:
– Не о том думаешь, о чем надобно, малой.
– А ты мне не указ – о чем думать! – огрызнулся я. – И хватит меня малым величать! Я-то думал, ты меня Лютом назвал?
Он глянул на меня – и расхохотался.
– И верно! Вижу, что не ошибся тебе с именем. Ладно, Лют. Думай о чем пожелаешь, я тебе тут и впрямь не указ. Да только ответа не требуй.
Я прикусил губу. И чего ему от меня надо? Шел бы себе... Знает ведь, что все равно буду спрашивать.
– Скажи хоть, что с детворой сделал.
Детских голосов и плача я уже несколько часов не слышал. Когда меня потащили привязывать к мачте, их погнали куда-то вниз. И сердце мне щемило за них, особенно за малыша Дарко и гордую Счастливу...
– Что, – сказал кнеж, помолчав, – думаешь, раз ты старший, значит, теперь в ответе за них?
Тут я растерялся. Прямо такого я не думал, но теперь, когда он сказал, – призадумался. Выходило, что так. Не знаю, жив ли Береста и другие отцы, а только на этом корабле из устьевцев я и впрямь – старший. Хотя толку ли с меня, пока тут вишу? А и снимут – что дальше?
– Не тронь их, – сказал я вслух: только это и придумалось сказать. – Если тронешь, я... я помирать стану, а тебя с собой заберу.
Не ответил ничего на это Среблян, даже смеяться не стал. Только снова поглядел пристально и как будто довольно.
– Хорошо ты тогда сказал, – заметил вдруг не к слову. – Что кнеж ответ должен держать за своих людей. Я не кнеж, но в твоем народе таких, как я, действительно зовут кнежами. И я знаю, что мой человек убил твою мать. Когда станешь готовым к схватке со мной, я не буду отказываться.
Будь на месте Сребляна Могута, я бы точно решил, что глумится. Но этот... даром что в плен забрал и к мачте велел привязать – а не убил, позволил драться с Могутой и напоил вот теперь...
Потому я сказал только:
– Хорошо.
И Среблян улыбнулся вдруг, светло и радостно почти. Ветер налетел, взметнул его белые волосы.
– А за младших своих не бойся, Лют. Зла от нас никому из них не будет, слово тебе даю.
– И за Счастливу даешь? – не удержался я.
Он поднял брови.
– Счастлива? Кто это? – И тут же понял кто, по тому, как я покраснел. Но смеяться опять не стал, кивнул серьезно: – И за нее.
Не то чтоб мне очень в его обещания верилось – а только с чего бы ему мне врать? Или, может, у него понятия о зле были не схожи с моими?
– Лукавишь ты, кнеж, – сказал я, отворачиваясь. – В рабстве ничего, окромя зла, нету.
– Нету, – согласился он. – Только с чего ты взял, Лют, что я вас в рабство везу? Рабы – они вон там.
Он повернулся, выбросил руку вперед, и я вдруг увидел, как велика она, как крепка. Вспомнилось, как он схватил меня за плечи и поставил на ноги. И еще как сказал, что ранен и оттого остерегается со мной биться. Глумился все-таки...
Я проследил взглядом направление, которое он указывал, и увидел крутобокий корабль с черным парусом, вынырнувший из тумана совсем неподалеку от нас – так близко, что я смог разглядеть людей, снующих по палубе. На миг почудилось – мелькнула средь них огнегривая голова Ольхи, отца Дарко и малышей...
И вдруг стало мне страшно. Вот взаправду грудь словно железом сдавило – и не выдохнуть, и не вдохнуть, только сердце колотится о ребра так, будто на волю рвется.
Кто они – нероды эти?
Среблян в последний раз посмотрел на меня, опустил руку и молча ушел.
* * *
С мачты меня сняли к полуночи. Развязали, дали полежать чуток на палубе, принесли поесть и попить. Я так ослаб за день, что драться уже не мог. Вспомнив слова Сребляна («Горд будь, да не глуп»), поел – силы по-любому не повредят. Едва закончил и стал вставать, схватили меня снова и опять потащили – на сей раз вниз, под палубу. Было там несколько запертых трюмов, из которых доносился шепот и плач. Я рванулся туда, но мне не позволили, проволокли мимо, бросили в тесную каморку, где встать нельзя, чтоб не треснуться макушкой о потолок. Пол был кривой, уходивший вниз углом. Туда-то меня и кинули, а после заковали в цепи, вделанные в стены. Окошек в каморке не было, щели меж досками оказались накрепко засмолены, так что я и не знал, день стоит или ночь. Изредка ко мне приходил матрос, приносил воды и прогорклой каши, отдавал все и уходил. Корабль качался на волнах, когда лениво, когда бешено, а я сидел в темноте один, изнывая от безделья, тревоги и дурноты. Иногда прикладывал ухо к дощатой стенке, но ничего не слышал. Тут-то и вспомнилось, как у нас сказывали: попался неродам – так вены грызи. Да только как грызть, когда они суровым железом схвачены?.. А если правду сказать – страх брал. Не знаю, сколько дней так прошло, я им счет потерял, да и как тут считать?
А потом судно встало, нероды спустились вниз, сняли с меня оковы и вывели наверх, и тогда увидел я остров Салхан.
2
Салхан по-нашенски означает «Черная гора». Слыхали мы про нее, гору эту, от фарийских купцов, ладных сказки сказывать: стоит, дескать, посреди северного моря гора, от дна морского до самых небес, и черна она так, что солнечный свет затемняет, а темная ночь рядом с нею ясным днем кажется. И кругом горы этой – семь пядей плодородной земли и семь пядей ровной, и стоит там Салхан-град, обиталище неродов, а кругом – все одни суровые скалы, непроходимые, ни травиночки на них, ни кустика, и даже гадам подколодным там житья нет. А под Черной горой, сказывали, лежат клады несметные, приходи – бери, оттого нет к северу от земли Бертанской места богаче Салхан-острова.
Ну что сказать – врали, конечно. Хотя и не во всем.
Гора и впрямь стояла, да не столь уж она была высока и черна – гранит как гранит. Берег был вроде и неприступен, а все ж далеко ему до наших устьевских порогов. Плодородной земли и впрямь мало – с моря было видать узенькую полоску полей, колосящихся пшеницей. А вот от Салхан-града, как увидал я его еще с палубы, и впрямь дыхание перехватило – тянулся он, казалось, по всему берегу и еще дальше в глубь острова уходил, и ни конца ему не виднелось, ни края! Пристань у берега была велика, камнем вымощена, грозной островерхой башней венчана – никто не подойдет к Салхану незамеченным, никому с него незамеченным не уйти.
Оно, может, было и не так страшно, как фарийцы баяли, а все одно как вошел корабль неродовский в гавань – меня холодом обдало. И чудилось, будто холод этот идет не из нутра моего, а извне, от черных этих камней, от каменных стен.
Нероды спустили на воду лодки и погребли к берегу. Я видел теперь, что не ошибся давеча, верно сосчитал: кораблей было шесть, и, вшестером стоя на якоре, не толклись они в гавани – вот как велика она была. Я посмотрел на берег, чувствуя разом и облегчение, и тревогу. Радо было думать, что перестанет меня наконец качать, кончится дурнота, ступлю на твердую землю. Только вот не лучше ли сгинуть, чем ходить по такой земле?
А неродовские домашние тем временем высыпали из-за стены на пристань, так и пестрела она от их затейливых одеж. Ярко они одевались, богато – тут не соврали фарийцы. И почто им набегами промышлять, если у них под Черной горой клады несметные?.. Я заметил, что на берегу все больше бабы были, хотя и мужики попадались, и смотрели жадно, пристально, не терпелось, видать, им добычу оценить да пощупать. Меня везли в той же лодке, где ехал Среблян; встал он, руку поднял – и зашелся берег радостным криком. Ну да, им бы еще – и не радоваться...
Причалили. Стали сгружать наворованное – и оказалось, что главной добычей неродов было в тот раз не добро, а пленники. Пять кораблей из шести были ими заполнены. На двух мужики, на одном – бабы, и еще на двух – детвора. Тут-то я понял, что не только на наше селение нероды налетели – полно они похватали люда, видать, весь Даланайский берег прошли с юга на север. И, как прежде на кораблях, снова нас стали делить: детей в одну сторону, баб в другую, мужиков в третью. Да только теперь они друг друга видели, и что тут началось! Матери выглядывали детей, мужья – жен, дети – батьку с мамкой. Как узнавали – ну подымался крик! Весь берег стоном исходил, будто ныла сама земля. Ох тяжко это было... Рядом со мной опять малые Ольховичи оказались, только Дарко не хныкал больше, зато двое его меньших ревели в голос, а он крепко их к себе прижимал, и глаза у него совсем другие стали. Я невольно поглядел туда, где сгрудились взрослые, надеясь снова увидеть рыжую голову Ольхи, но не увидел. Как знать, пережил ли дорогу Дарков батька... небось с ними не так церемонились, как с нами, меньшими.
Пока разбирали пленников и выгружали из оставшихся лодок добро, неродовские домашние стояли тихо, в сторонке; неродовские мужики на наших баб поглядывали, а неродовские бабы – на детвору. Одна на меня пальцем показала и что-то тихо сказала мужу, что рядом с нею стоял. Тот нахмурился. Дивились небось, что я в путах. Ну да, как на берег меня потащили, так снова связали – не дураки, чай. Был бы свободен, передавил бы паскуд. Несть сил было смотреть, как толкают они наших девок, как мужиков кнутами стегают...
Среблян самолично следил за тем, как пленников распределяли. Подошел к бабам, посмотрел. Двух вытащил из толпы, девчонок еще совсем, до красноты зареванных, – толкнул к детям. Могучие неродовские руки их поймали, поставили к нам – без грубости. А Счастливу, напротив, к женщинам отвели. Она не противилась, плеч не сутулила, спокойно пошла. Среблян на нее и не взглянул. Я поискал среди баб Берестовиху, мать Счастливы, – не нашел. Не довезли или еще в самом Устьеве зарубили...
Тут к Сребляну подошел Могута, что-то ему сказал, тот ответил. Мне почудилось, он на меня поглядел, хотя ни слова он мне не молвил с того самого дня, как я по его указу на мачте висел.
Почитай, немало часов прошло на том берегу – а может, меньше, я как в тумане был. Мужиков всех забили в колодки и погнали – не к городу, а прочь от него, по узкой тропе. С ними ехали несколько конников, появившихся из-за ворот. Баб погнали в город. И тут я увидел, как Могута на меня концом кнута указывает, да рожу еще так кривит брезгливо. Взяли меня, повели к воротам следом за бабами. Я обернулся было на детвору – дали мне подзатыльник, велели под ноги смотреть. Когда мимо Могуты проходил, увидел, как он ухмыльнулся. И услышал:
– Везучий ты, щеня! По мне бы – так все же к рабам!
Я не ответил ему. Что теперь отвечать? Рано. Вот погоди, руки не будут связаны – там потолкуем.
Подошли к воротам – и опять меня страх взял. Велики они все же были, больше, чем с берега казалось. Железом обитые, да и стена вокруг – каменная, гладкая, ногтем не зацепишься, от заставных башен до самых скал, что поясом огибали Салхан. А как прошли ворота – так и вовсе меня оторопь взяла. Все дома кругом были каменные! И кругом – серебро: на шпилях башенных, на ставнях, на колодезном вороте, только что не на телегах! Блестело серебро это в полуденном солнце, скупо блестело, холодно, недобро, и будто мороком от этого блеска веяло. И велико было то поселение! Люди толклись на улицах, при виде нас расступались, глазели – и с любопытством, а еще и с чем-то поболее, чем досужее любопытство. Шептались, пальцами тыкали, мужики жадными взглядами провожали полоненных баб. Я уже понял, куда нас вели: прямой, как стрела, улицей вверх, к белокаменному дому далече впереди, над которым черной громадой высилась Салхан-гора.
Белокаменный дом был, верно, кнежими палатами. Баб туда не повели, завернули куда-то на полдороге. Я обернулся, и мне снова наподдали по затылку – шагай, мол.
На кнежем дворе было как будто еще свое маленькое село – домишки помельче, чем в городе, хотя тоже каменные, и люд там толпился еще теснее – видать, хозяина ждали. Среблян ехал впереди, и когда меня завели во двор, гвалт там стоял уже до самых небес. На воеводе с обеих сторон висели две бабы, в кольчугу лица уткнув, – ревели, что ли. Я не стал смотреть – что они мне? Да и не дали мне засматриваться – повели дальше, мимо кнежих палат к высокой башне. Как зашли вовнутрь – снова холодом на меня повеяло, еще пуще, чем на берегу. Ох и вымораживали же эти каменные стены – да только ли оттого, что каменные?.. Чуял я тут что-то нелюдское, недоброе, и как думал об этом – так и вставала в памяти Салхан-гора и черная тень ее, лежащая на сизой морской воде...
Открыли передо мною тяжелую дверь, толкнули в спину в последний раз. Я оказался в горнице, больше и краше какой в жизни не видел. Стены белые, пол соломой мягко выстлан, а посреди – кровать! Не лавка, одеялом покрытая, а всамделишная кровать, шире лавки раза в три, – я такую только в доме старосты нашего видел, Счастлива Берестовна на ней спала. У всех прочих избы слишком тесные были, чтобы их так заставлять. Скамья в горнице тоже имелась, стояла у стены, а при ней – лучина. Всем хороша горница, а по сердцу мне все одно не пришлась. Потому как окошко в ней было крохотное, да и то – забранное частой решеткой.
Развязали меня наконец. Я только вздохнул – а рано: вошел тут в горницу мужик здоровый, хмурый. Руки, говорит, давай. Я как увидел, что он принес, – ощерился, ну да им-то что, их четверо было... Надели на меня снова оковы, да не такие, как прежде, – тонкие, просторные, так, чтоб руки-ноги не натирало, и цепи были подлиннее, чем у тех кандалов, в которых я сидел на корабле. Я так и ходить мог, только медленно, малым шагом, и руками двигать. Только драться и бегать не смог бы.
Когда увидели они, что я все понял, ушли, слова не сказав. Еды принесли – свежего мяса, горячей каши, пива в кувшине. И оставили, и дверь заперли.
Я прошелся по горнице. Руки в кулаки сжимал, напрягая со всех сил, дергал – впустую. Потом сел на кровать, на мягкую перину – никогда я и не гадал, что может быть что-то такое мягкое! Сел, посидел. Было мгновение, испугался – никак зареву сейчас. А потом подумал: вон Дарко Ольхович, и тот не ревел на берегу. А мне, парню здоровому, что?
Цепь-то эта на руках у меня – она хоть и коротка, а все ж хватит ее, чтоб обмотать вокруг горла первому, кто ступит на порог.
* * *
Первые дни мне было не скучно коротать. Я подтянул скамью к дальней стене, влез на нее с ногами и встал у окна, взявшись за прутья решетки. Она хоть и частая оказалась – кулак не просунешь, – но виднелось через нее много чего. Я и смотрел.
Окно выходило на двор, из него видать было белокаменные палаты и четыре постройки черного люда, что жили при кнежем дворе. По первому взгляду люди они были как люди, ходили себе по делам, то скот на выпас гнали, то скарб с телеги сгружали, то молот кузнечный звенел (ох, не люб же мне стал этот звон с той поры!), то пила столярская визжала, то круг гончарный шуршал. Куры по двору бегали, кудахтали, свиньи в лужах плескались, овцы блеяли – село как село. А только что-то тут было не так. Я только на другой день понял что.
Смеха и крика детского я совсем не слыхал.
Нет, были тут дети. Хотя и мало совсем – то ли дело у нас в Устьеве, где на каждый двор по пять галдящих глоток! А тут на десяток взрослых добро если одно дитя придется. И невеселы были эти дети. Ходили, глаза долу опустив, говорили тихо, работали споро, а не играли почти. Суровы, что ли, батьки с ними были, батогами угощали чаще, чем пряниками? А и не скажешь: то и дело я видел, как мамка дитя по головке гладит, как батька ласковое слово молвит... а дитя будто и не радо. Что за дела? И любопытство меня брало, и не по себе от такого делалось. Коли дети смех позабыли, какое ж тут счастье?
Дней пять прошло, когда я увидел малую Пастрюковну.
Она смеялась. Бежала по двору и заливалась беспричинным детским хохотом, от которого всякому на сердце радостней делается. Потом вдруг запнулась на ровном месте, упала – и в рев. Подбежала к ней какая-то женщина – и, на что угодно закладусь, вовсе не была то Пастрюховиха. Подбежала, схватила дитятко и ну целовать, уговаривать, пальцами вертеть, отвлекая. Малышка успокоилась, заулыбалась снова. Ручонки потянула – будто к мамке родной! Быстро забыла... а и что ей, она ж и говорить-то еще не умела, не понимала ничего. Женщина взяла ее на руки, понесла прочь. Глядел я на них, и внутри у меня будто узлы вязали. Что ж тут делается?
Было в кого спросить...
Дни шли за днями – а не приходил никто ко мне. Не на кого было цепь накинуть, придушить – да хоть так пар выпустить. Кормили меня исправно, отворяя внизу двери заслонку и просовывая через нее миску и кувшин. Хорошо кормили – я отродясь так не едал. Будто задобрить хотели меня – а для чего, почем мне было тогда знать?
Вскоре я истомился. На корабле еще маялся, не привык сидеть так долго без движения и без дела, – а тут то же самое! Когда на исходе восьмого дня заскрипел засов на двери – я аж обрадовался. Засомневался даже, стоит ли теперь нападать – может, лучше словом перемолвиться... но одернул себя: ну еще выдумал! С изуверами этими болтать – о чем? Кинулся я к двери, быстро, как молния, а оковы мои и не звякнули – долго я тренировался, чтоб так суметь. Перехватил цепь двумя руками, большими пальцами подцепил, в кулаках сжал. Ну, только войди...
Отворилась дверь, и вошел Среблян.
Я замер на один только миг – но и мига ему хватило. Не знаю, то ли выдохнул я и он услыхал, то ли просто чутьем обладал звериным – а обернулся и вскинул руку перед лицом так, что напоролась на нее моя цепь, метившая ему по горлу. Среблян резко опустил руку, ухватился за эту цепь и швырнул меня о стену – только колокольный перезвон в голове бухнул! Ну, подумалось мне, пока переводил я дух, теперь-то убьет. Понял уже, чай, что как меня ни стреноживай – а не уймусь. И чего только хочет?
Сквозь перезвон в голове я услышал шаги. Поднял голову – и увидел над собой две расставленные ноги в высоких сапогах.
– Молодец, – похвалил меня кнеж. – Едва не достал. Только больше так не делай, а то к стене велю приковать.
– Вели, – прохрипел я. – Я еще чего выдумаю, все одно развлечение.
Улыбнулся он краем рта, взял меня за плечо, вздернул на ноги. Я пошатнулся. Он пустил меня и, сделав три шага, сел на скамью. Я заметил, что он уже куда меньше хромает, чем прежде, – видать, хорошо заживала рана.
– Сядь, – сказал. – Поговорить с тобой хочу.
– Постою, – отрезал я, а у самого внутри так и вздрогнуло. Все одно, враг, не враг – должен же я знать, что тут происходит! Глядишь, и пойму, как выбраться...
Кнеж приказа не повторил, помолчал. Потом спросил:
– Знаешь ты что-нибудь о нас?
– О неродах, что ли? Как не знать. Носитесь по морям, хватаете добрых людей, волочете за тридевять земель, и никто их после живыми не видит. Так?
– Так, – проговорил кнеж. – Еще что?
Невозмутимость его меня малость смутила. Но я ответил, как и раньше, с вызовом:
– А еще у вас под Салхан-горой клады несметные, злато да каменья, вот и отгрохали себе такую крепость и корабли оснастили... Все-то у вас есть, все купить можете, а вам мало!
– Кое-чего за деньги не купишь, – сказал воевода. – А в остальном верно, только не злато под Салхан-горой, а серебро. Серебряные копи. Знаешь, что такое копи?
Я кивнул – больше своим мыслям, чем его словам. Так вот куда пленных мужиков повели... на копи. Станут теперь до веку скалу рубить, мертвый камень живой кровью поливать. А что – не самим же неродам на руднике горбатиться, когда всегда невольников наворовать можно.
– Раньше Салхан назывался Салрадумом – Серебряной Горой, – продолжал воевода. – Давно это было. Гора тогда была не черной, а белой, ровно целиком отлитой из серебра. Прямо на поверхности залежи были – наклоняйся да поднимай! Тогда-то далганты и пришли сюда – они нашли этот остров и выстроили город...
– Далганты?
– Мы так себя зовем. Вы нас зовете неродами.
Отчего-то мне не по себе стало, будто он меня пристыдил. Потому я смолчал, не зная, что на это сказать, а он дальше стал говорить:
– Много веков не было народа богаче далгантов, не было города богаче Салрадум-града. Со всего мира купцы плыли к нам, лучшие товары и дивные дива продавали за наше серебро, чище какого не было на всем белом свете. Радовались далганты, богов своих восхваляли... ты, Лют, в каких веруешь богов?
Он так вдруг об этом спросил, что я от неожиданности сразу ответил:
– В Горьбога и в Радо-матерь, в кого же еще.
Кнеж кивнул, будто тоже своим мыслям, а не моим словам.
– Как и далганты, только зовем мы их иначе – Молог и Гилас. А знаешь ты, Лют, что у Горьбога и Радо-матери было десять детей?
– Тьфу на тебя! – выкрикнул я возмущенно и сделал пальцами знак-оберег – что за бесовщина?! – Да как это Светлая Матерь могла с Черноголовым лечь? Думай, что говоришь!
– А было, – сказал Среблян, словно и не слыша меня, – десять детей у них, все между собой близнецы. Пятеро добрые, материны дети, а пятеро злые, отцовы чада. Одну злую богиню-дочь звать по-бертански Яноной, а по-нашему будет – Янь-Горыня. Горыня – потому что в горе она живет. В этой самой горе.
И холодом на меня от его слов повеяло. Вот если в не холод этот – уши в заткнул и не слушал, а так понял: правду говорит кнеж. Водится тут, на Салхане, лють какая-то – я ее сразу почуял, еще на берег не ступив.
– Только о том, что она тут живет, далганты не знали. Спала она долго, а стук наших молотов ее разбудил, и озлилась она. Куда, говорит, добро мое выгребать? Пришли незваны, выкупа кровью не дали. Любит она кровь, да только кто же знал-то... Знали бы – напоили бы. Да поздно уж было. Осерчала Янь-Горыня. Вы, сказала, у меня украли – так и я вас обкраду. Не будет, сказала, вовек потомства у всякого, кто ступит ногою на твердь, где покоится ложе мое, – на остров Салрадум. А если уплывет он и ступит на большую землю, то лишь три ночи проживет, а потом умрет жестокою смертью. А чтоб не жаловались на мою злобу да свою незавидную долю, сказала, никто из вас не сможет обо всем том ни словечка промолвить иначе, чем на этой земле. Кинула в нас Янь-Горыня это проклятие и ушла в свою гору. Почернела в тот же час гора, изошла пеплом, и под этим пеплом скрылся Салрадум-град. Земля разверзлась и поглотила его, сгинул, словно и не стоял никогда.
Кнеж умолк. Он так говорил, будто сам видел все это, будто глядел в лицо Янь-Горыне, когда она изрекала свое проклятие. Никак хотел, чтобы я его пожалел теперь? Дудки!
– Смелы вы, далганты, если гнева божьего не испугались, – сказал я насмешливо.
– Почему же не испугались? – отозвался кнеж. – Поседели все со страху. Многие похватали скарб, что сумели спасти, кинулись в уцелевшие лодки, прочь от проклятой земли. Добрались до берега, хотели с людьми горем поделиться... А кто открыл рот для рассказа – тут же падал замертво. Прочие, кто молчал, прожили три дня и три ночи, и тогда погибли все страшной смертью. Некоторые, кто с ними сперва кинулся, а в пути одумался, все это время на якоре у берегов простояли – они видели. Потом-то поняли, что она их с острова отпустила для того лишь, чтобы убедились в крепости ее слова. Сами убедились и другим рассказали, когда вернутся.
Умолк он, словно задумался. Да, невесело... Я спросил:
– Что ж делать стали?
– А что делать? Жить всем охота. Построили новый город – Салханом теперь назвали, Черным то есть, и остров стал Салхан. Серебро-то в горе не перевелось, только вглубь ушло. Нашлись отчаянные, полезли за ним – решили, что хуже богиня уже не накажет. Правы оказались. На всяк случай из первых ста пудов серебра, что вынули из земли, поставили ей на скале изваяние – вдруг польстится, смилостивится. Может, и так – больше помех не чинила. Принялись торговать, как прежде... а только когда стали умирать чужие купцы, возвратясь после того, как ступили на нашу землю, – захирела торговля. Повадились мы тогда сами в море выходить, торговать с кораблей, но все равно – пошла о нас дурная слава, стали люди проклятым называть наше серебро, плевали в него и в нас... И хоть не знали точно о нашем горе, а догадались про что-то – и вот неродами прозвали, не способными родить. Стоял тогда над нами воевода – его Гневом потом нарекли, и от него каждый далгантский господин зовется теперь Гневичем... Так вот Гнев сильно на то осерчал. Сам он мальцом был, когда Янь-Горыня навет сотворила, за собой вины не признавал. Не хотят, сказал, с нами по-людски – а и мы не будем. И пошел на материк с мечом... Тогда уже дети перестали рождаться у нас. Старики умирали, избы пустели – стало ясно, скоро совсем конец далгантам. Вот Гнев и порешил: брать на материке пленников и к нам привозить. Мужиков – на рудник, серебро копать. Баб – в теплые постели. А малых деток – нам в сыновья, подрастут – сами далгантами станут...
– Это что же, – выговорил я наконец, – ты, кнеж, и впрямь думаешь, что можно забыть, как вы матерей наших рубили, отцов в колодки сажали, сестер за волосы волокли? Вот попросту взять – и забыть?!
Среблян не ответил мне. Только посмотрел, устало так, равнодушно почти. Что, мол, тебе объяснять...
– А что, Лют, – спросил вдруг, – не надоело тебе на цепи сидеть?
И хоть сильно я озлился на него за этот рассказ, за ненужную мне его откровенность – а дыхание затаил. Ну, как тут ответишь: «Нет, не надоело!» Горд будь, да не глуп...
Вот только что за волю попросит?
– Идем, – сказал кнеж, вставая и беря меня за плечо. – Только вздумаешь снова куролесить – обратно кину.
Вывел он меня на двор. Медленно шел – я так и не понял, от того ли, что приноравливался к моему шагу (со скованными ногами не больно побегаешь!), или от того, что собственная рана его еще беспокоила. Стражники ему по пути поклоны били, меня провожали долгими взглядами. Прошли мы двором за палаты, на подворье, где стояли вкопанные в песок чучела и висели щиты, истыканные стрелами. На том подворье дюжина крепких парней дралась – кто на палках, кто на мечах. При виде кнежа остановились, расступились, примолкнув. Кнеж вывел меня на середину подворья, вынул из-за пояса ключ – и снял с меня оковы. Пока я потирал изодранные запястья, попросил у кого-то меч. Ему дали – и он протянул его мне.
– Держи, – сказал Среблян. – Сумеешь меня оцарапать – отпущу.
Он, видать, ждал ответа или еще чего – а только я, ни слова не сказав, на него тут же кинулся, с места, как делал всегда. Будь на его месте кто другой, да хотя бы Могута, – не успел бы отскочить! А воевода успел. Я даже глазом не уловил, как это он ушел от моего меча: только что стоял, а тут уже и нет, и через миг – за спиной очутился, кольнул легонько между лопаток, будто шутя. Хотел бы – голову бы мне снес, я бы и не понял, что случилось... Вот где меня ярость и вправду взяла. Уже и не помню, как бился – со мной и прежде, и опосля часто такое бывало: голову словно туманом окутывает, и вроде делал что, а что – не знаю... Драться-то меня никто никогда не учил. Все учителя были – кабаны да малые турята, и те за науку брали кровью – все тело у меня в шрамах от звериных когтей и клыков. И мне от них не столько мясо и шкуры были нужны, сколько эта наука. Да только понял я теперь, что драться со зверем – это вовсе не то, что с человеком. Дюжину раз воевода Среблян сшибал меня мечом плашмя наземь, по ногам лупил, по спине, когда и по затылку, так что маки расцветали в глазах, – дюжину раз мог убить. А я до него ни разу не дотянулся даже. Правда, меч я в руке впервые держал, прежде только лук и рогатину...
Ну, словом, что тут сказывать – отколошматил меня кнеж по первое дело. Парни, которые на это смотрели, смеялись, когда я падал. А неужто, мелькнула шальная мысль, их тоже вот так, как меня, в оковах волокли на этот двор? И неужто я вот так же буду когда-нибудь смеяться, глядя, как нового пленника воевода уму-разуму учит, усмиряет? Ну нет! Назвал ты меня Лютом, кнеж, сам сказал, что с именем угадал, – так не дивись теперь!
– Добро, – сказал Среблян, отступая и опуская меч. – Довольно покамест.
– Что так? – спросил я, тяжело дыша, хотя еле держался на ногах – уж и не знаю, долго ли мы дрались, а мне казалось, что целый день. – Я не устал.
– Зато я устал, – сказал Среблян, и молодые воины засмеялись – знали, видать, что врет. Второй раз уж он уходил от схватки со мной, делая вид, будто сам того хочет – то рана его гнобила, то вот устал... Во что играешь со мною, кнеж? Думаешь, оценю? Другого дурака поищи.
– Солнце еще высоко, рано ты что-то устал, – сказал я с вызовом, и молодцы примолкли. Не в обычае у них было, видать, чтоб воеводе дерзили. А мне что, я ему не дружинник и не слуга! Среблян посмотрел на меня с нарочитой серьезностью. Потом сказал кротко:
– Сжалься.
Парни так и покатились со смеху! А я стоял, все на свете проклиная, и чувствовал, что у меня даже уши горят. Ну, держите меня семеро, шестеро не удержат!..
– Ладно, будет тебе, – сказал Среблян, когда я уже был готов на него кинуться, – примирительно и негромко сказал, так, словно одному только мне. – Ты славно дрался, хотя и не умеешь этого делать. Вижу, охоч ты до крови...
– Не я, кнеж, меч твой охоч, сам руку жжет, – ответил я зло.
Среблян улыбнулся.
– Руку жжет? Ишь какой... Хозяину под стать. Прожором его, что ли, назови, – сказал он и кивнул своим парням на мои оковы, валявшиеся поодаль, – надеть, мол. Я бороться не стал – понял вдруг, до чего измучился, теперь меня бы любой из них скрутил без труда, а позориться лишний раз не хотелось, пусть бы и перед неродами.
Воевода смотрел на меня, щурясь против солнца.
– Уж не серчай, они тебя сами проводят, я и впрямь притомился, – сказал он, когда меня подвели к нему. И вложил мне в руку тот самый меч, которым я дрался против него, – я и не заметил, как он его поднял. – Да меча своего впредь наземь не бросай. Не по чести это.
Так вот меня и увели с подворья – скованного и с мечом в руке. А я шел, едва переступая враз отяжелевшими ногами, и все уразуметь не мог, неужто все это не сон.
* * *
С тех пор каждый день стали меня выводить на подворье за кнежим домом. Сперва я думал – ну, дурак воевода! Меч мне дал острый, сохранить разрешил. А вот войдет ко мне завтра, я ему этот меч под ребро воткну, с пояса ключ от цепей своих сниму – и поминай как звали! Но назавтра не кнеж пришел за мною. Я по шагам за дверью еще услышал, что не он, и даже не стал пробовать нападать. Толку не будет, а меч заберут...
Так и повелось: приходили за мной стражники, вели к воеводе, он оковы размыкал и велел драться. Понемногу стал учить: как ногу ставить, как рукоять держать, как бить... Я сперва мимо ушей пропускал – мне бы только злость выпустить, что уж там! – а потом прислушался. И стало у меня вроде как получаться что-то. Молодцы, тренировавшиеся на подворье, уже не смеялись, да и Среблян теперь позже меня останавливал. «Нога моя, – говорил, – все лучше день ото дня, уже могу тебя подольше выдержать, зверя дикого». Так говорил, а глаза прищуренные будто насмехались надо мною. Не мог я вынести этой насмешки, все забывал, кидался на него – а он меня наземь... обидно было больше, чем больно.





























