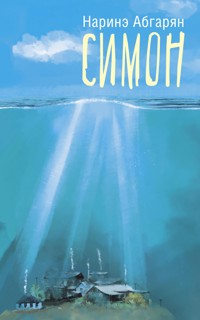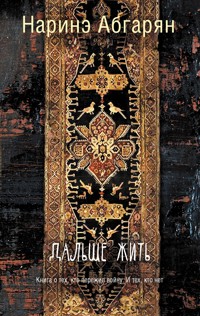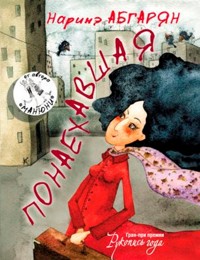Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе рисовала. Каждый привносил то, чего не хватало именно мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счету, я — результат их стараний, их бледная тень. Время течет, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться — они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда. Потому все, что есть у меня сейчас на душе,— благодарность и любовь. Благодарность и любовь.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Наринэ Абгарян Молчание цвета Сборник
© Наринэ Абгарян, текст, ил., 2022
© Сона Абгарян, ил., 2022
© Юлия Межова, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Молчание цвета
Часть 1
Четыре: зеленый
– Где этот Астцу зулумат? – причитает бабо Софа, теребя в руках недовязанный шерстяной носок – гулпа. Растопыренный круглыми петлями носок распорот ровно на треть: остался синий низ, оранжевая пятка, желтая полоска и край фиолетовой. Зеленая и едва начатая красная полосы отсутствуют, только мелкие петли торчат.
Виновник торжества, семилетний внук Левон, спешно покинув эпицентр событий, прячется в саду. Перед тем как выскочить из дома, он предусмотрительно натянул отцовскую толстовку и обмотался дедушкиным шарфом: неизвестно, сколько придется отсиживаться в укрытии, пока бабо Софа перекипит. На дворе южная зима – влажно-промозглая, крепчающая к ночи до пронизывающего кусачего холода.
Гулпа повторяли расцветку деревянной пирамиды, которую кропотливо и преданно, деталь к детали, собирает старший брат Левона, Гево. Нижний круг пирамидки синий, а далее, в порядке уменьшения, следуют ярко-оранжевый, желтый, фиолетовый и красный. Конструкцию венчает конус цвета смуглой зимней ели – Левон называет темно-зеленый именно так, да и как по-другому можно называть цвет, который точь-в-точь воспроизводит припорошенный снежной крупой еловый! Если осторожно, стараясь не смахнуть робкий снег, залезть под растущую на самом отшибе сада ель – сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком верхушка, – и расположиться поудобнее (одна рука под головой, другая греется в кармане, ноги же свободно раскинуты), крепко зажмуриться, вдохнуть сыроватый, мигом проникающий в легкие аромат хвои, а потом, спустя долгие мгновения, медленно выдохнуть и разжмурить глаза, то обязательно поймаешь именно тот серовато-мглистый, пасмурный, отдающий свежим и в то же время лежалым зеленый, который Левон упорно называет смуглым. Такой смуглостью, пожалуй, отдает еще мшистый подол летней реки, перед самым закатом, когда вода, прекратив отражать свет, принимается ненасытно вбирать его в себя, судорожно и взахлеб, словно пугаясь того, что следующего раза может не случиться.
– Где этот Астцу зулумат? – надрывается бабо Софа.
Левон лежит на мерзлой земле и, ощущая затылком ее безразличное дыхание, разглядывает сквозь бурые прожилки продрогших еловых лап блеклый звездный первоцвет. Он уже знает, что никогда не скучаешь по весне так, как зимой, когда до солнца еще далеко, два месяца с лишним, а то и дольше. Настанет тепло только за трендезом[1], на пороге большого поста, придет разом и нежданно, так всегда бывает, вчера еще снег лежал, а сегодня уже вылупилась первая крапива – нежно-сочная, совсем не кусачая, бабо Софа припорашивает ее каменной солью, растирает в ладонях и кормит всех, кто попадется ей на глаза: внуков, мужа, сына с невесткой, шумную домашнюю птицу… И даже собаку Ашун пытается кормить, но та отползает, резво орудуя кривоватыми лапами, сгребая круглым пузом дворовый сор.
«Зачем собаке крапива?!» – откровенно недоумевает всем своим толстеньким, курчаво-волосатым телом она.
– Разве кому-нибудь свежая трава причинила вред? – возражает бабо Софа, переводя мятежную собакину позу в слова. И выжидательно умолкает, словно добиваясь ответа.
Ашун прячется за конуру и оттуда дипломатично виляет хвостом.
– Дурья твоя башка! Окачу ледяной водой – будешь знать! – не дождавшись мало-мальски вразумительного объяснения, ворчит бабо Софа. Ашун тут же выскакивает из-за конуры и летит опрометью к любимой хозяйке, потому что знает: нет в ее обращении ничего обидного, а только ласка и любовь. В Тавушском регионе Армении, где обитает семья Левона, нежные чувства принято выражать словами, которые, казалось бы, совсем не приспособлены для того, чтобы обнаруживать привязанность. Всякое слово здесь имеет множество значений зачастую совершенно противоположных, и все эти объяснения зависят не от прямого смысла произнесенного, а от того, с какой интонацией оно было сказано. Потому, если, к примеру, девушка говорит молодому человеку – сейчас так звездану, что дух испустишь, – вполне возможно, что она не расправой ему грозит, а совсем наоборот – признается в нежных чувствах.
– Барабанная ты шкура! Один толк от тебя – бессмысленный лай и клочья шерсти по всему двору, – приговаривает бабо Софа, делано хмурясь и почесывая собаку за мохнатыми ломаными ушами. Ашун счастливо повизгивает и подскакивает, норовя лизнуть хозяйку в морщинистую щеку.
– Где этот Астцу зулумат? – голос бабушки, набирая силу, гремит по дому, заполняя собой два верхних этажа и гулко отзываясь эхом в погребах – большом и малом. Интонации такие, что сомнений не остается – она еле сдерживает гнев. Гулпа распорота почти на треть, некоторые из петель успели уползти, и теперь придется их подбирать английскими булавками, подслеповато щурясь в толстенные стекла очков, а потом довязывать, неустанно причитая и призывая в свидетели предков – живых и мертвых, и проводить обличающие параллели. Из мертвых за поведение Левона держит ответ прапрадед Мамикон, которого в свое время прозвали Безумным и благодаря которому их род окрестили Анхатанц, то бишь Собственниками (так ругали людей старого, дореволюционного кроя и мышления). В годы коллективизации, когда по требованию новоявленной советской власти, назначившей своим главным врагом частную собственность, крестьяне вынуждены были сдавать в колхозное хозяйство домашнюю живность, среди них находились такие, кто отказывался это делать. Прапрадед Мамикон тоже оказался одним из этих строптивцев. Будучи человеком вспыльчивым и в гневе неуправляемым, он, после долгого и напрасного разговора, увещеваний и просьб образумиться – ну где это видано, чтобы отбирали кормилицу-корову! – избил до полусмерти председателя колхоза, пламенного большевика Чагаранц Вилика, а ночью спалил его дом. За подобный проступок Мамикона сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся. А его семья, в которой из семи детей из-за голода выжили только двое, вынуждена была существовать в крайней нищете, с клеймом врага народа.
Когда Левон беспричинно артачился и упрямился (а делал он это, говоря по правде, по сто раз на дню), бабо Софа возводила глаза к потолку и призывала к ответу того самого Безумного Мамикона.
– Почему из всех предков этот ребенок унаследовал именно твой дрянной нрав?! – возмущенно выговаривала она, попеременно колотя кулаком себя в грудь и указывая комком влажной тряпки, которой протирала с комода пыль, на Левона. И непременно добавляла, горестно вздохнув: – Нет чтобы ему достался чей-нибудь другой, ангельский характер!
Под чьим-нибудь ангельским характером бабушка, несомненно, подразумевала свой.
Левон, делано потупившись и с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидал конца отповеди – в кармане копошился цыпленок, которого он увел у наседки. Двух других цыплят бабушка отобрала и вернула в птичник, а про третьего не подозревала. Догадалась бы – ответ за Левона пришлось бы держать не только прапрадеду Мамикону, но и деду Геворгу. А он, в отличие от Мамикона, предусмотрительно почившего в бозе до рождения правнука, не только жив, но еще и женат на бабо Софе. Целых сорок девять лет и восемь месяцев.
У бабо Софы три врага: соль, сахар и собственный муж. Соль в ответе за плохую работу почек, сахар – за лишний вес и испорченные зубы, а за все остальные беды и испытания, сыплющиеся словно из рога изобилия на голову человечества, отдувается дед Геворг. И не имеет значения, какого рода это беды: природный катаклизм, птичий мор или покореженная из-за дождевой влаги деревянная крышка бочки. Широко и якобы отстраненно порассуждав о произошедшем (не забывая притом делать непрозрачные намеки), бабушка всегда завершает свою речь одними и теми же словами: «Если бы в свое время я вышла замуж за нормального человека, ничего этого не случилось бы!»
Дед Геворг пропускает ее пчелиное жужжание мимо ушей. Высказывается, лишь дождавшись традиционного заключительного аккорда.
– На пятидесятилетие нашего брака схожу в управу и потребую за ущерб, причиненный долгими годами супружества, килограмм золота! – торжественно объявляет он.
– Изумрудами лучше возьми! – не сдается бабушка.
– Изумрудами ты возьмешь. В день моих похорон! – нагнетает дед.
– Тебя похоронишь! – сбавляет обороты бабо Софа, но следом, вспомнив очередной порочащий мужа факт, сразу же заводится по новой. – Да ты меня, бессовестный, несколько раз переживешь! И на этой бесстыжей Марине женишься! Я что, не вижу, как ты на нее заглядываешься?
– Это ко-огда я на нее за-аглядывался-то? – дед от изумления аж заикаться начинает.
– Да хоть сегодня! Кто ей калитку чинил? Битый час провозился.
– Я же с калиткой, а не с Мариной провозился!
– Геворг!
– Джан! Ревнуешь поди.
– Ревную, а как же! Много чести!
Раньше Левон, заслышав перепалку бабушки и деда, расстраивался, но потом перестал, потому что сообразил, что это глупая, но безвредная привычка. Бабо Софа, хоть и ела мужа поедом, но любила его (правда, весьма оригинально, сообразно поговорке «от любви до ненависти один шаг») и заботилась неустанно: внимательно следила, чтобы тот таблетки от сердца и давления принял, вовремя поел, не простыл, не переутомился. Дед огрызался и артачился, но уступал. Ну или притворялся, что уступал, особенно когда дело касалось лекарств. Левон часто застукивал его за тем, что из двух положенных таблеток он принимал только одну. Поймав деда в первый раз за подобным преступлением, он припер его к стенке и потребовал объяснений. Дед кхекнул, смущенно рассмеялся, потом промямлил, что от таблеток, которые лечат сердце, в желудке изжога, потому он вынужден принимать только те, что от давления.
– Я папе скажу, – пригрозил Левон.
– Ишь, вылупилось яйцо! – возмутился дед.
– И маме скажу! Или же обещай принимать таблетки. Обещаешь?
Дед ничего отвечать не стал, зато сгреб его в объятия и чмокнул в макушку. «Отлынивает», – вдыхая знакомый табачно-дымный аромат его кусачей бороды, подумал Левон, но выдавать деда родителям все-таки не стал – пожалел. Не хватало только, чтобы наравне с денно и нощно пилящей женой, сын со снохой тоже его пилили!
– Где этот Астцу зулумат?! – взывает меж тем к совести предков бабушка Софа, цепляя убежавшие петли распоротых гулпа булавками. Позже она аккуратно поднимет их с помощью изогнутого коротконосого крючка до края вязки, соберет на спицы и примется довязывать.
Объяснение проступку Левона очень простое: у бабушки память до того прохудилась, что она постоянно забывает очередность кругов деревянной пирамидки Гево. Недавно связала для него свитер и, снова перепутав цвета, сделала горловину синей. Так Гево отказался надевать обновку, пока она не перевязала ее.
– Кто бы мне объяснил, что ему за разница, какого цвета горловина? – бухтела возмущенно бабушка, обращаясь в третьем лице к Гево. Тот, поглощенный сборкой пирамиды, рассеянно улыбнулся уголком губ. На тарелке с золотистой каемкой лежал полукруг недоеденного слоеного пирожного – вытекший из середки сливовый джем распустился по дну крохотными лепестками трилистника. Левон хотел смахнуть прилипшие к подбородку брата крупицы сахарной помадки и даже руку протянул, но сразу же отдернул – больше всего на свете Гево не выносил прикосновений, а еще – когда его отвлекали от любимого занятия – собирания деревянной пирамидки.
С гулпа вышла та же история – бабушка снова все перепутала и вместо зеленого сделала верх красным. Ну, Левону и пришлось распускать неправильные полосы. Надо было, конечно, не своевольничать, а предупредить бабушку, но рука сама потянулась выдернуть четыре коротенькие спицы и отмотать шерстяную нить. Левон проделал это, завороженно наблюдая, как исчезает ряд за рядом мелкий бисер петель.
И теперь, пока разгневанная бабушка взывала к его совести, он коротал время в самом отдаленном конце сада, прячась под ежащейся от кусачего холода столетней елью.
– Четыре, – шептал он, разглядывая припорошенные скудным снегом пушистые лапы и прислушиваясь к убывающему звучанию зеленого. Оно стелилось мягким басом, тягучим и долгим, словно улиточный путь капли меда по стеклянному боку сосуда. Если называть цвета не задумываясь, а сквозь занятые чем-то посторонним мысли, то в голове Левона они превращаются в цифры и в музыку. Притом каждому цвету строго соответствует своя цифра и свой звук. Зеленый, к примеру, всегда оборачивается угловатой и сварливой – рука вперена в правый бок, острым локтем наружу – четверкой. И звучит низким, чуть дрожащим басом. Левон раньше думал, что ничего необычного в том, что цвет воспринимается звуком и цифрой, нет. Но на деле оказалось, что таким странным восприятием обладает только он.
– Синестезия, – объявил невролог, к которому повела сына обеспокоенная мама, и поспешно добавил, видя ее расстроенное лицо: – Во-первых, в этом нет ничего смертельного, а во-вторых – мальчик очень скоро ее перерастет.
– Когда? – в голосе мамы появились напряженные нотки.
– Годам к шести.
– Так ведь ему уже семь!
– Значит – скоро.
И, выписав на всякий случай витамины, доктор попрощался с посетителями. Мама забрала у него листочек с рецептом, повертела в руках и со вздохом убрала в сумку. «Пошли», – шепнула она сыну, глядя куда-то вбок – она всегда отводила взгляд, когда сердилась на кого-либо. Сейчас она сердилась на доктора, который, по ее мнению, недостаточно ответственно отнесся к проблеме пациента и поспешил избавиться от него. Витамины еще бессмысленные выписал! Левон, в отличие от нее, уходил довольным: уколов не назначили, к зубному не отправили. Вот бы все доктора так лечили!
Выходя из кабинета, он посторонился, пропуская следующих посетителей – обширную тетечку в длинном цветастом платье и тоненькую смуглую девочку в красных ботиночках на полосатые колготки. Очередность полосок была не такая, как в пирамидке Гево, но тоже красивая: розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Притом оранжевый был до того ярким, что заглушал остальные цвета, и нужно было всматриваться, чтобы их различить.
– Астхик[2], не отставай! – неприятно каркнула тетечка и поволокла девочку к столу, за которым, сложа руки перед собой, сидел доктор. Подол короткой юбки девочки сзади был задран, и мама, проходя мимо, незаметно подправила его. Последнее, что видел Левон сквозь закрывающуюся створку двери – недоумевающий взгляд медсестры, которым она смерила громкую тетечку, и худенькое, обтянутое шерстяным свитером плечо девочки. Склонив набок голову, она трогательно, совсем по-кошачьи потерлась плечом об ухо. Левон потом несколько раз повторял ее имя, приноравливаясь к колючим звукам. Имя девочки, вопреки другим знакомым именам, не пело и не складывалось в цифры. Оно звучало молчанием запертой в клетке птицы.
Зима кружила над миром, морозя окна каменных домов острым дыханием. Левон сидел под растущей на краю сада дряхлой елью, привалившись спиной к ее шероховатому стволу. В доме давно уже воцарилась тишина: Гево собирал свою пирамидку, Маргарита дежурила рядом в обнимку с книжкой, дед подкидывал дров в печь, мама, скорее всего, гладила – стираного белья собрался целый ворох, а папа сидел в своем компьютере. Бабушка же, остывая, довязывала ряд. Скоро она отложит гулпа, с демонстративным кряхтением поднимется с кресла и пойдет звать внука, которого в минуты расстройства, под молчаливое одобрение родных, называет не по имени, а исключительно «Астцу зулумат». То бишь «Божья кара».
Восемь: синий
– Зимой смеркается много раньше, чем успеваешь свыкнуться с напрасной мыслью, что еще один день, прокатившись круглым боком по мерзлому небосводу, пришел к своему концу, – протягивает задумчиво дед, разглядывая в окно стремительно темнеющий горизонт.
Обычно у деда незамысловатая деревенская речь, но в минуты тоски он изъясняется длинными, переполненными разноцветными словами фразами. Левон их с легкостью запоминает и потом, при удобном случае, когда никто не слышит и когда тому способствует настроение, произносит вслух. Слова в дедовых фразах круглые и беззащитные, словно воздушные пузырьки в воде. Левон перекатывает их на языке так и эдак, пробует на вкус и звучание. Придышивается.
Дед болезненно воспринимает течение времени, ему все кажется, что оно стремительнее, чем должно быть на самом деле.
– Ведь не может быть такого, чтобы буквально недавно светилось утро, а спустя час нагрянул закат! – возмущается он, вглядываясь в стремительно густеющую темь за окном. – Свет меркнет так, словно кто-то, чтобы сберечь керосин, убавляет огонь в мутной от дымка старой стеклянной лампе.
Бабушка, в отличие от мужа, относится к течению времени без особых возражений: день прошел – и слава богу, невелика потеря. Деду же обидно за каждый минувший час. Он прощается с ними, словно с безвременно почившими дорогими сердцу друзьями.
– Чувствуешь, как зима словно вода в песок утекает? – оторвавшись от вида за окном, обращается он к жене.
– Зато весна ближе! – отмахивается бабушка, орудуя ножом. Стружка картофеля змеится тоненькой длинной полоской – только бабушка умеет почистить клубень «в одно касание», не отрывая ножа и ни разу не оборвав ленточку кожуры.
Дед расстроенно цокает языком, задирает в возмущенном жесте руку – указательный и большой пальцы растопырены, остальные собраны в кулак. Резко повертев в воздухе рукой, он взрывается:
– Женщина! Ну подумай своей головой! С таким раскладом не успеешь моргнуть – и весна промелькнет! Была – и, фьють, нет ее!
– Ну и пусть промелькивает, скатертью дорога! – пожимает плечом бабушка. Кинув картофелину в миску с холодной водой, она придирчиво оглядывает очищенные клубни и, сделав в уме какие-то свои расчеты, удовлетворенно кивает – достаточно.
Дед бурчит недовольное, Левон различает «носовой волос»[3] и «приземленная женщина», боязливо косится на бабушку – если она услышала – не миновать скандала. Но бабушка роется в посудном ларе – выбирает подходящую сковороду для жаркого. «Фьють-фьють-фьють», – повторяет она, заглядывая под тяжеленную крышку чугунного сотейника.
Во время готовки Левон предпочитает ошиваться где-нибудь в другом, по возможности максимально удаленном от кухни месте – уж очень бабо Софа не любит, когда «говорят под руку».
– Не отвлекайте меня от дела! – сердится она, нарочито громко грохоча кухонной утварью.
Однако Гево приспичило собирать пирамидку именно на кухне, а черед присматривать за ним сегодня за Левоном. В выходные заботу о старшем брате поручают младшим детям. Вот они и сидят с ним по очереди. Возни с Гево не так чтобы много – держи его в поле зрения и все, но для Левона она ужасно утомительна. Утомляет не то, что нужно присматривать за братом, а необходимость неотступно находиться рядом. Руки у Гево неловкие, слабые и малоподвижные пальцы с большим трудом удерживают кольца пирамидки, а те выскальзывают и откатываются в сторону. И тут главное вовремя их вернуть, иначе добром это не кончится. Выронив кольцо и моментально отчаявшись так, словно все в мире умерли и оставили его в одиночестве, Гево пускается в плач. Голос у него негромкий, с рвущими душу перекатами, он выдает их на выдохе, когда воздух в легких почти на исходе, тянет до изнеможения, пока не начинает задыхаться и захлебываться. Плач идет по нарастающей: сначала робкое хныканье, прерывающееся обиженным кряхтением, потом безутешные рыдания, переходящие в рев. До рева дело доводить нельзя, иначе следом начинается рвота, а далее температура Гево поднимается до заоблачных высот и держится так по два-три дня. Маргарита справляется со своими обязанностями без особого труда, она любит чтение, так что устраивается рядом с книжкой, одним глазом приглядывает за братом, другим читает. Для Левона забота о Гево превращается в тихую пытку – у него большие проблемы с усидчивостью. Уроки, например, он делает, измеряя комнату шагами. Читает так же. Почерк в его тетрадях разный, все зависит от того, в какой позе он писал. Если строчка выведена с наклоном, значит, Левон сидел за письменным столом (редчайший случай). Если буквы выстроились в ряд, словно солдаты в шеренге, значит, он выводил их стоя, склонившись над тетрадью. Если рядовые в шеренге торчат как попало, вкривь и вкось, словно придавленные шквальным ветром, значит, он мелко подпрыгивал или выкидывал разные коленца. О таких неусидчивых людях говорят: «У него под хвостом муравей поселился». Судя по почерку Левона, под хвостом у него поселился целый муравейник. И очень может даже быть, что не один! Так что, пока Гево собирает свою пирамидку, его младший брат носится по комнате кругами, то играя сам с собой в прятки, то кидая дротики, то изображая охоту в саванне, показывая сначала злобного охотника, а потом пронзенного метким выстрелом льва, который долго катится по полу, душераздирающе рыча, а потом благополучно испускает дух, картинно закатив глаза и свесив набок язык.
Дважды, не успев вовремя подать откатившееся кольцо брату, Левон доводил его до приступа. Снедаемый чувством вины, помогал потом с ухаживаниями – то чаю поднесет, то в аптеку сбегает, то уксус из погреба притащит и терпеливо ждет, пока мама обтирает ступни и ладони Гево. А потом несет бутыль обратно, обзывая себя болваном.
В высокой температуре лицо Гево делается совсем детским: огромные распахнутые глаза, загнутые, в капельках слез, ресницы, румянец на щеках, кудрявящиеся от пота волосы. К последнему приступу они прилично отросли, мама упрямо отводила их с его лба, чтобы было не так жарко, а потом вообще заколола красной заколкой Маргариты. И Гево моментально превратился в девочку, лежал, сложив на худой груди прозрачные руки, мелко дышал и улыбался – тускло и беспомощно, мама обмазывала его воспаленные от жара губы детским кремом, и выражение лица у нее было такое, словно она сейчас расплачется, но она не плакала – она никогда не плачет, потому что считает, что это делает ее слабой. Левону очень грустно наблюдать ее нарочито каменное лицо, ведь он совершенно точно знает, что где-то там, в груди, у мамы плещется море слез, просится наружу, бьется холодными волнами о берега ее сердца и делает ему больно. Море синее, цвета лепестков горной лилии. Синее море волнуется раз, волнуется два, складывает лепестки-волны в полукруги, полукруги – в круги, круги – в восьмерки, поставленные на попа знаки бесконечности.
Иногда Левон путает слова, особенно когда говорит о чувствах. Сердитый человек, если не включать внимание и не контролировать речь, может нечаянно обернуться красным. Старый – белым. Грустный – синим. Порой (и даже очень часто) дело доходит до курьеза. Однажды Левон чуть не стал причиной сердечного приступа бабушки, когда на ее ворчливый вопрос «куда подевался твой дед» ответил, подразумевая нерадостное его настроение, «в саду лежит, синий». Дед действительно лежал в саду, под елью, сложив на груди руки и раскинув ноги, – и безудержно грустил. Еще бы не грустить, когда Генрих Мхитарян уходит из любимого футбольного клуба «Боруссия»!
– Болей теперь за него отдельно, а за «Боруссию» отдельно! – бухтел дед, демонстративно игнорируя комарье, назойливо налетывающее над ним круги. Бабушку тогда отпаивали успокоительными каплями, а за Левона пришлось держать ответ всем восходящим коленам рода Анхатанц. Больше всех, конечно, досталось Безумному Мамикону, но за него Левон не беспокоился, смысл беспокоиться за человека, который давно умер! А вот за деда было обидно, потому что он живой и вообще ни при чем! Мало ему было в тот день Генриха Мхитаряна, уходящего из любимой «Боруссии» во вражеский «Манчестер Юнайтед», так еще и за неосторожное высказывание внука пришлось отдуваться!
В другой раз, отвечая на вопрос отца о времени, Левон выпалил без запинки – половина коричневого! Отсмеявшись, папа вытащил лист бумаги. Сетуя, что не сделал этого раньше, он составил под диктовку сына таблицу-напоминалку для всей семьи и повесил ее на самом видном месте – над обеденным столом. Выглядела таблица так:
1 – белый
2 – черный
3 – желтый
4 – зеленый
5 – красный
6 – коричневый
7 – (нет цвета)
8 – синий
9 – фиолетовый
10 – оранжевый
На вопрос – «почему у семерки нет цвета» – Левон беспечно пожал плечом. Нет и никогда не было.
– Надо же, – вздернул брови папа. – Ведь семерка – символ счастья. Она, по идее, не может быть бесцветной.
Левон на секунду задумался, потом махнул рукой – не-а, никакого отношения к цифрам счастье не имеет. Оно вообще ни к чему не имеет отношения. Как и любовь, например. Или ненависть. Они существуют отдельно от всего остального.
– Совсем отдельно? – уточнил папа.
– Совсем.
– То есть любовь, счастье и ненависть отдельно, а мы – отдельно?
Левон еще немного поразмыслил.
– Они просто от нас не зависят, – неуверенно ответил он.
Папа помолчал немного, пощелкал пальцами, потом примирительно улыбнулся.
– Ну и ладно. Не будем усложнять там, где ничего не понимаем!
– Не будем, – с облегчением согласился Левон. Говорить о вещах, о которых он сам не очень понимал, он не любил.
– Отстригу, как температура спадет, – обещала в тот день мама, закалывая влажные локоны Гево заколкой Маргариты. Расстегнутый корсет лежал на краю кровати, растопырившись ремнями, словно перевернутый на спину речной рак клешнями, мама, в спешке раздевая Гево, забыла его убрать. Левон повесил корсет на спинку стула, бережно разгладил разноцветные ремни и расправил застежки-липучки. Последний год Гево очень быстро рос, позвоночник не успевал за телом, от этого он стал сутулиться, крениться набок, подволакивать при ходьбе ногу и часто спотыкаться. Кожа на пояснице и на плечах, не поспевая за ростом, покрылась розоватыми отметинами растяжек, которые спустя время побелели, но не исчезли. Доктор прописал специальный медицинский массаж и обязал носить фиксирующий спину корсет. С массажем, понятное дело, ничего не вышло, Гево не любил прикосновений и срывался в плач, если кто-нибудь, кроме мамы, до него дотрагивался. Да и маме позволена была самая малость: помочь помыться, одеться, накормить… Так что от массажа пришлось отказаться. С корсетом же пришлось идти на хитрость: он был телесного, почти незаметного цвета, но Гево все равно не дал его на себя надеть. Тогда Левон предложил покрасить его в цвета игрушечной пирамидки. Мама раздобыла специальные краски для ткани, тщательно прокрасила корсет, долго сушила на открытой веранде, чтоб хорошенько просох. И свершилось чудо – Гево не только позволил его на себя надеть, но даже не возмутился, когда на спине туго затягивали ремни. Бабо Софа в тот день на радостях испекла рождественскую гату – с начинкой на топленом масле, сахаре и жареном грецком орехе. Пока гата подрумянивалась в духовке, бабушка, утомленная готовкой, прилегла отдохнуть и уснула, на свою беду – с открытым ртом. Ну, дед и не преминул положить туда сигарету, чем чуть не сорвал праздничный ужин. Если бы не вовремя подоспевший папа, бабушка, наверное, заклевала бы его до смерти. А так обошлось привычным семейным скандалом.
Два: черный
Девочка с молчащим именем сидела, подперев подбородок кулачком, и вертела в руках ручку. Когда запыхавшийся Левон влетел в класс, она посмотрела в его сторону – мельком, незаинтересованно, и сразу же отвела взгляд. Дети, обрадованные возможностью оторваться от учебников, весело загалдели, приветствуя опоздавшего соученика. Учительница, тикин Сара, зашикала, призывая их к порядку, махнула Левону рукой – садись. Водрузив на место пустую мусорную корзину, которую сшиб дверью, Левон в своей неизменной манере – чуть подпрыгивая и дергая острыми локтями – направился к парте. Замедлился лишь на полдороге, когда с удивлением обнаружил, что она не пустая. В свое время тикин Сара настояла, чтобы он сидел за партой один (просто потому, что никто по соседству с ним бы не выжил). Ко второму классу, вертлявый и неугомонный, он все-таки научился худо-бедно, но в течение тех сорока минут, что длился урок, существовать в пределах своей парты. Изнывая от бездействия, скользил по скамье, от одного ее края до другого и обратно, доводя до зеркального блеска штаны, подбирал под себя ноги, с грохотом роняя на пол ботинки, иногда распластывался грудью на столе, свешивая за его края кисти – и болтал ими в воздухе.
– Еще один год, и ты превратишься в примерного ученика, – не очень убежденно, но неунывно повторяла тикин Сара, оборачиваясь от доски и обнаруживая торчащую из-за учебника макушку Левона: улегшись на бок и подперев голову ладонью, он читал, беззвучно шевеля губами и водя пальцем по строчкам.
Левон предпочитал напрасными надеждами учительницу не тешить, потому обещаний никаких не давал. В душе он очень сомневался, что через год или даже через пять превратится в прилежного ученика. Тикин Сара, похоже, тоже на это не надеялась, но мантру про «еще один год» неустанно повторяла. Видно, таким образом она успокаивала свои вздрюченные нелегкой преподавательской работой нервы.
Громко прошаркав путь от двери до парты, Левон с грохотом опустил на нее рюкзак. Класс с готовностью загоготал, тикин Сара привычно зашикала на всех и привычно же поинтересовалась, не притащил ли он с собой камней. Девочка с молчащим именем, единственная, кто не рассмеялся, подвинулась, высвобождая место. Левон плюхнулся рядом, больно задев ее локтем, но извиняться не стал. Вытащил учебник математики, затолкал под стол рюкзак.
– Я помню, тебя Астхик зовут, – дождавшись, когда учительница отвернется к доске, шепнул он примирительно.
– Знаю, – отчеканила девочка и отвернулась.
Левона ее равнодушие почему-то уязвило. Он собирался было выпалить в ответ какую-нибудь колкость, но сдержался – много чести. Демонстративно сел так, чтоб быть к соседке спиной. Похоже, девочку это не задело. Тогда он развалился на скамье, занимая ее чуть ли не целиком. Астхик безропотно отодвинулась на самый край и, подтянув подол юбки, заправила его под себя. Он громко почесал коленку, поддел ботинком ножку стола и пошатал его. Астхик даже бровью не повела. Класс корпел над уравнением. Девочка тоже писала, с невозмутимым видом отрывая ручку от листа каждый раз, когда Левон двигал партой, и возвращаясь к работе, когда он успокаивался. Закончив писать, она закрыла тетрадь, убрала ручку, бесшумно затянув молнию пенала. Подсунула под себя ладони, ссутулилась. Острые лопатки трогательно выступили на спине. Уравнение Левон решил за то время, пока тикин Сара, обходя класс, забирала тетрадки. Пропустив промежуточные вычисления и выведя сразу ответ, он с победным видом уставился на свою соседку: заметила ли она, какой он молодец? Она, отвернув подол юбки, разглядывала аккуратный, едва заметный шов, и, казалось, не существовало в мире ничего, что могло оторвать ее от этого занятия. Рассердившись, Левон решил идти напролом. Ткнув ее указательным пальцем в ребро, он хвастливо поинтересовался:
– Видела, как я быстро решил уравнение?
– Ты дурак? – беззлобно спросила она, потирая бок.
– Нет.
– Тогда почему так себя ведешь?
Левон пожал плечом. По правде говоря, он сам не очень понимал причину своего идиотского поведения. «Может, дрозд меня в темя клюнул?» – пробормотал он скорее себе, чем девочке.
– Дрозд? – повторила она.
– Ну… Моя бабушка всегда так говорит, когда я дурак дураком.
Девочка фыркнула. Намотала привычным жестом косичку на палец. Подергала ее, потом со вздохом перекинула за плечо. Достала из кармана две мятные карамельки, одну, не глядя, протянула ему. Стараясь не шуршать фантиками, они развернули конфеты.
– Меня Левоном зовут, – прошепелявил он, заталкивая за щеку остро отдающую хвоей карамельку. Подсознание, мгновенно объединив вкус хвои с елью, раскрасило восприятие в цвет. «Зеленый», – привычно подумал Левон. В голове мгновенно зазвучала тягучая, низкооктавная фуга Баха, которую вот уже который день вымучивала на пианино Маргарита.
Девочка перекатила во рту карамельку, кивнула:
– Знаю, что Левоном зовут.
– Откуда?
– Учительница сказала, что мне нужно сесть за парту Левона. И что ты, скорее всего, опоздаешь, потому что по дороге в школу по привычке будешь ворон считать. И что, как обычно, влетишь в класс вперед головой и снесешь мусорную корзину. Все так и случилось.
Левон выслушал ее с таким лучистым видом, будто его хвалили за примерное поведение. Когда учительница, убрав в шкаф стопку собранных тетрадей, принялась раздавать другую, с проверенным домашним заданием, он, улучив секунду, наклонился к уху девочки и зашептал:
– Кто придумал тебе такое странное имя?
– Почему странное? – обиделась она.
Левон хотел рассказать про немое звучание ее имени, но махнул рукой – потом. Она молчала оставшуюся часть урока, ответила, когда раздался звонок на перемену:
– Папа придумал.
Левон, подзабывший о своем вопросе, удивленно переспросил – какой папа?
– Папа меня назвал Астхик, – терпеливо пояснила она. – Он считал, что я похожа на звездочку.
Левон озадаченно уставился на нее. Девочка походила не на звездочку, а скорее на беззвездную ночь: гладкие, заплетенные в тугую косичку черные волосы, нежно-смуглая кожа, огромные и до того темные, что зрачок от радужки не отличишь, глаза. Уже потом, узнав ее поближе, он разгадает их удивительную способность – матово-сумеречные, непроницаемые, они никогда не отражали дневного света, а совсем наоборот: поглощали его с такой ненасытностью, будто от этого зависела жизнь девочки.
* * *
Беспардонная тетечка оказалась не мамой, а родственницей Астхик.
– Это старшая сестра папы, – доверительным шепотом сообщила девочка, когда они с Левоном поднимались по широкой лестнице низкорослого каменного дома. Фасад дома оплетали голые ветви винограда, в тех местах, где подтаял снег, крыша поблескивала влажной чешуей черепицы. Двор к полудню был совсем безлюдным. Единственный подъезд закрывался старой дубовой дверью, украшенную с обеих сторон шишковатой, чуть запыленной резьбой. Астхик провела по ней ладошкой, ощущая живое прикосновение дерева, и холодное, отстраненное, – тронутого ржавчиной железа. Поднесла пальцы к лицу, принюхалась. Левон хотел было тоже потрогать дверь, но не смог – руки оттягивал кожаный портфель, который он нес, прижимая к груди. Оторванная ручка портфеля беспомощно болталась, растопырившись швами и треснувшим креплением. Левон было расстроился, но Астхик махнула рукой – этому портфелю знаешь сколько лет? С ним еще тетушка в институт ходила!
Его подмывало сказать, что портфель действительно выглядит рухлядью, но он не стал – вдруг она снова обидится. Он предложил донести его, она сначала поинтересовалась, где он живет (Речной квартал, дом сразу за мостом), и, удостоверившись, что им по пути, не стала возражать.
– А давай подниматься через ступеньку! – предложил Левон. Он повел плечом, чтобы холщовая лямка собственного рюкзака встала на место. Рюкзак моментально отозвался грохотом. Астхик вздернула брови:
– Что у тебя там?
– Галька.
– Зачем?
Он сделал вид, что не расслышал вопроса. Крепче прижал к груди портфель, вытянул шею, чтобы не оступиться, и пошел вверх по ступеням, переступая через одну. Девочка последовала его примеру. В отличие от верткого длинноногого Левона, ей приходилось держаться одной рукой за перила лестницы, а другой упираться то в одно, то в другое колено, чтобы помочь себе оттолкнуться от нижней ступеньки.
Не получив ответа на свой вопрос, она, совсем не обидевшись, продолжила с прерванного места свой рассказ:
– Просто мама в тот день не смогла отпроситься с работы, потому меня к врачу повела тетушка. Она не замужем и почти никогда не бывает в настроении. Сейчас мы живем у бабушки: я, мама, тетушка. Хотя тетушка с ней и так жила. Раньше у нас был свой дом. Там у меня была большая комната, и еще у нас был свой сад. Любишь недозрелые яблоки?
Рот Левона моментально наполнился слюной.
– Еще бы!
– И я люблю. Мама ругалась, что я не даю яблокам созреть.
Она вздохнула.
– А теперь у нас нет сада.
Левон спиной ощутил, как у нее изменилось настроение: оно моментально окрасило девочку в черный, затемнив и без того темные ее глаза.
– Два, – прошептал он, но оборачиваться не стал: догадывался, что ей не понравится, если он увидит ее расстроенное лицо.
– Что?
– Не расстраивайся. Можешь приходить в гости, у нас огромный сад, и яблонь там много, штук пять-шесть.
– Хорошо, – с легкостью согласилась она.
Квартира находилась на последнем, третьем этаже. Окрашенная глянцевым лаком черная дверь казалась неприступной. Ручка и глазок отливали холодным серебристым.
Астхик забрала у него портфель.
– Спасибо. А теперь иди. Тетушке не понравится, что я без предупреждения привела гостя.
Левон поскакал по ступенькам вниз. Она постояла, прислушиваясь к утихающему звуку его шагов. Дождавшись, когда входная дверь внизу захлопнется, привстала на цыпочки и нажала на кнопку звонка.
– Дзыннь-донн. Дзыннь-донн, – резко зазвенел металлический колокольчик, разгоняя душную тишину.
* * *
Передав новым хозяевам все связки ключей, мама, не оборачиваясь, вышла за ворота. Астхик окинула прощальным взглядом высокий каменный фасад, обнесенную деревянными перилами веранду, козырек крыши, под которым, плотно прижавшись, ютились три ласточкиных гнезда.
– Не сносите их, пожалуйста, – попросила она новую хозяйку дома: высокую, грузную женщину с густыми, сросшимися на переносице бровями. Та непонимающе уставилась на нее, потом, проследив за взглядом, обернулась, разглядела гнезда под карнизом.
– Не буду, – заверила с такой поспешностью, что не осталось сомнений – первым делом, вооружившись шваброй, она их и разрушит.
Астхик погладила железные ворота ладошкой, поплелась к микроавтобусу, набитому доверху их домашним скарбом. Садясь в машину, прижала руку к лицу, вдохнула холодный запах металла.
Ехать было недолго, но оттого, что мама плакала, поездка показалась бесконечной. Астхик попыток утешить ее не делала: она знала, что мама выплакивает утрату дома, каждый угол которого ощущала и знала, словно себя. Среди вещей, которые они взяли, была совсем бесполезная, но дорогая ее сердцу деревянная люлька. На протяжении многих лет в ней спали все младенцы ее семьи. Когда люлька стала совсем старенькой, ее убрали на чердак и, кажется, совсем о ней забыли. Но мама вспомнила о ней в первую очередь, когда стала выбирать, что с собой забирать.
Иногда она прижимала к себе Астхик и целовала ее в лоб. Губы ее были холодные, почти безжизненные. С того дня, как папа попал в тюрьму, она будто бы умерла. Папа уснул за рулем, машину вынесло на встречную полосу, она протаранила другой автомобиль. Водитель спасся, отделавшись переломом руки, а жена его погибла.
Решение переехать к бабушке с тетушкой далось им с трудом, но так было правильно – вместе легче справиться с ожиданием. Дом пришлось продавать, чтобы было на что жить. «Потом, когда папа вернется, мы снимем свой угол и начнем все с нуля», – обещала мама. Астхик эта идея понравилась: она мысленно поместила свою семью в центре белого листа, обвела кружком и решила, что так она будет в безопасности. Начинать с нуля – самый верный выход, заключила она и терпеливо принялась ждать того дня, когда папин срок закончится и он вернется домой.
Мама сразу же устроилась в городскую управу секретарем, с ее опытом и знанием языков это не составило большого труда. Работала пять дней в неделю, с девяти до шести. Зарплата была небольшая, но она планировала набрать учеников и заниматься дополнительно репетиторством – спрос на английский есть всегда. Деньги, вырученные за дом, она положила в банк и тратила с умом – на самое необходимое. С тетушкой, работающей бухгалтером, они договорились делить все расходы пополам.
Астхик потихоньку привыкала к новой жизни. В школу, правда, пошла не сразу – подхватила вирус и пролежала в постели несколько дней. Пришлось потом идти в поликлинику, чтобы получить справку о выздоровлении. Столкнувшись с Левоном в кабинете доктора, она сразу же его запомнила. Это не требовало особых усилий: рыжий, буйно-курчавый, с прозрачными глазами и усыпанной мелкими веснушками переносицей, он моментально притягивал к себе внимание. Но дело было не только в яркой внешности: в открытом, солнечном выражении его лица было такое, что надолго потом не отпускало. Будто счастливое ожидание праздника. Будто воздушное облачко сахарной ваты, которую продавец тщательно наматывал на палочку, подцепив паутинную нить с края вращающейся чаши, а потом протягивал тебе: «На!»
Три: желтый
Пиджак, казалось, жал везде: в плечах, в подмышках, в рукавах, в карманах и даже в голове. Тщательно отглаженный ворот рубашки обвился вокруг шеи удавкой. Сияние натертых до блеска ботинок можно было притушить единственно возможным способом – задвинув их в самый темный угол обувного шкафчика и накидав сверху целый ворох тряпья. Как вариант можно было облить их бензином и сжечь на заднем дворе, в не занесенном снегом закуте между каменной стеной и жестяным боком чулана. Левон даже на секунду затуманился взором, представляя, как съеживаются и лопаются под натиском огня глянцевая кожа и рифленая подошва ботинок, как, чадно корчась и ядовито шипя, сворачиваются в змейки ненавистные шнурки, завязывание которых всегда отнимало уйму времени. Он с сожалением отогнал прекрасное видение, вообразив шум, который поднимет бабо Софа. Шум, кстати, получится знатным, потому что ботинки выбирала и покупала она. На подарки для родных и близких бабушка копила, ежемесячно откладывая часть своей пенсии. Оставшуюся часть, присовокупив к пенсии мужа, она, невзирая на возмущенные протесты сына, требующего, чтобы родители оставляли деньги себе, пускала на мелкие насущные нужды: лекарства, продукты, всякую бытовую химию. Двух стариковских пенсий при тщательной экономии хватало на неделю, иногда, если повезет – дней на десять.
Вполне естественно, что при таком раскладе бабушка вряд ли бы обрадовалась, если бы внук спалил дорогущие кожаные ботинки, которые она, уболтав до мозгового паралича продавца, с дополнительной десятипроцентной скидкой (тридцатрипроцентная уже наличествовала!) выторговала на распродаже в обувной лавке. Левон невзлюбил эти ботинки с того дня, как получил на семилетие, и всякий раз кочевряжился, надевая их. Слишком уж они были расфуфыренные, что ли: ни попрыгать, ни на забор вскарабкаться. Совсем другое дело кроссовки на липучках, в которых носишься целый день, то заскакивая в кусты чертополоха, то взбираясь на ореховое дерево, а то промахиваясь и уходя в воду по колено, перепрыгивая с одного речного валуна на другой. Будь на то его воля, он бы круглый год в кроссовках бегал, но кто же ему такое позволит?
К счастью, ботинки были велики на целый размер – бабушка по своему обыкновению брала все на вырост. Потому надевались они в исключительных случаях, когда необходимо было выглядеть по-человечески: в гости, на школьные праздники и какие-нибудь другие торжественные мероприятия. Сегодня как раз выпал такой случай: семья была приглашена на смотрины племянницы, которой исполнилось сорок дней с рождения. Настала пора знакомить ее со всей многочисленной родней.